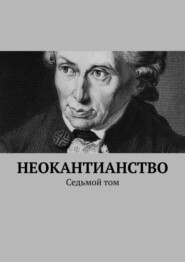
Полная версия:
Неокантианство. Седьмой том
Я люблю служить друзьям, но, к сожалению, делаю это по склонности, и поэтому мне часто бывает больно, что я не добродетелен.
Решение.
Другого совета нет, надо стремиться презирать их
И затем с отвращением выполнять то, что велит долг.
То, что эти стихи написаны Шиллером, нельзя отрицать, как и то, что их смысл направлен против преувеличения понятия долга у Канта. Но 94поэту позволено противостоять философу, а 95тем более в» Xenien», ибо они объявлены самим Шиллером «непослушным, очень диким бастардом» (его и Гете), «большей частью дикой безбожной сатирой… перемешанная с отдельными поэтическими, даже философскими вспышками мысли», и А также другие эпиграммы, до сих пор не напечатанные в большинстве изданий Шиллера, например, «Душение и удавка» (Dfintier, ErläuterungenIX, Xp. 174), «MoralischeSchwätzer», «MoralderPflichtundderLiebe» u. a. (Kürschnera. 0. 119, IIS. 197 f), некоторые из которых по своему тону не могли быть написаны Шиллером самому Канту. в приведенных выше строках 3) даже не нужно выступать против самого Канта, а скорее против «его комментаторов», «бедных бездарей, вгрызавшихся в философию Канта» (Кёрнеру 18 февраля 1793 г.). Feb. 1793), которые напридумывали много «ужасного» (Гете 1 ноября 1795), «бездельников» и пеонов, которые только и умели, что обращаться с «механизмами его системы», «нетерпимых доброхотов», «вольноотпущенников» в царстве разума (первое письмо принцу Голштинскому).96
В конце концов, те же ксении приводят сравнение самого Канта с одним богачом, который кормит столько нищих, с королевским строителем, который кормит множество «kärrner». Важное и обширное письмо Шиллера к Гете от этого года (от 9 июля), в котором рассматривается вопрос о том, не нуждается ли Вильгельм Мейстер в философии и почему – «здоровая и прекрасная природа… не нуждается в морали» – и которое, по сути, является спором между Шиллером и самим Гете.
Наконец, отметим горячее одобрение Гете кантовской полемики этого года: «Сочинение Канта о благородном способе философствования доставило мне большое удовольствие; благодаря этому сочинению разделение того, что не принадлежит друг другу, пропагандируется все ярче». (Гете – Шиллеру, 26 июля 1796 г.)
1797
В то время как Кёрнер увлеченно изучает Канта (письма от 21 января и 29 мая), Шиллер читает «одновременно с Гёте» «Поэтику» Аристотеля, которая «действительно укрепляет и облегчает» его (Кёрнеру, 3 июня). 23 января он желает своему другу (Кёрнеру) «что-нибудь хорошее и остроумное в области философии и критики» для «Horen», поскольку сам он должен полностью посвятить себя «Валленштейну». Однако то, насколько Шиллер, а вслед за ним и Гете, в основном поддерживают флаг Канта и считают его дело своим, видно из их мнения о нападках Гердера и Й. Г. Шлоссера на критическую философию. Так, Шиллер пишет Кёрнеру 1 мая: «Гердер сейчас представляет собой совершенно патологическую натуру… У него ядовитая зависть ко всему хорошему и энергичному… На сердце у него самый большой яд против Канта и новейших философов, но он не совсем осмеливается выйти наружу, потому что боится неприятных истин, и лишь изредка кусает кого-нибудь в тельце. Надо возмущаться, что такая большая необыкновенная сила для доброго дела так совершенно пропадает; Шлоссер иногда вызывает у меня подобное чувство.
«Против последнего был направлен другой памфлет Канта, озаглавленный: VerkündigungdesnahenAbschlusseseinesTractatszumewigenFriedeninderPhilosophie, опубликованный в «BerlinerMonatsschrift» в декабре 1796 года. Гете отозвался о ней 14 сентября 1797 года: «Очень достойный продукт его хорошо известного образа мышления, который, как и все, что исходит от него, содержит самые чудесные отрывки, но при этом по композиции и стилю является скорее кантовским, чем кантовским. Мне доставляет большое удовольствие, что благородные философы и проповедники предрассудков могут раздражать его настолько, что он всеми силами противостоит им. Однако мне кажется, что он поступает несправедливо, обвиняя Шлоссера в нечестности, по крайней мере, косвенно…". На что Шиллер отвечает 22 сентября: «Я также прочитал маленький трактат Канта, и хотя содержание его не дает ничего нового, я остался доволен его превосходными идеями. В этом старом господине все еще есть что-то такое истинно юношеское, что хочется назвать эстетическим, если бы не смущала отвратительная форма, которую хочется назвать философским канцелярским стилем». 97Его суждение о Шлоссере в этом письме уже более суровое, чем у Гете: «Шлоссер, возможно, действительно является тем, кем вы его считаете, но его позиция по отношению к критическим философам настолько сомнительна, что характер вряд ли можно оставить без внимания…". Однако после того, как Шлоссер написал собственное извинение, в длинном письме к Гете от 9 февраля, которое касалось только этой темы, он был откровенно язвителен.
1798
Мы опускаем из подробного письма все, что касается только Шлоссера, и подчеркиваем лишь следующее, что в высшей степени характерно для внутренней позиции Шиллера в отношении критической философии: «… Что можно сказать, когда после стольких усилий новых философов, не пропавших даром, чтобы привести суть спора к наиболее определенным и актуальным формулам, кто-то приходит с аллегорией, и то, что было тщательно подготовлено для чистой мыслительной способности, опять окутывается легкой неясностью, как это делает этот герр Шлоссер…? делает». «Поистине непростительно, чтобы писателю, который держится за некую честь, позволялось вести себя столь не философски и нечистоплотно в такой чистой области, какой философская область стала благодаря Канту». А теперь скажу пару слов о том, как непревзойденно ясны отношения тотальной человеческой природы к научному исследованию, поэта к философу, Шиллера к Канту! «Вы и мы, другие представители правовых наук, знаем, например, что человек в своих высших функциях всегда действует как единое целое и что природа вообще повсюду действует синтетически – по этой причине, однако, нам никогда не придет в голову в философии ошибиться в различии и анализе, на которых основано всякое исследование, так же мало, как мы будем воевать с химиком за искусственное аннулирование синтезов природы.» 98«Но эти господа замочные мастера также хотят чувствовать запах и чувствовать свой путь через метафизику, они хотят распознавать синтетически везде, но… это жеманство… всегда поддерживать человека в его тотальности, одухотворять физическое и очеловечивать духовное, является, я боюсь, только жалкой попыткой обеспечить себе счастливое существование в своей уютной темноте.»
И Гете соглашается с «очень отрадным и освежающим» письмом своего друга; он уже 30 лет находится в разладе с натурой Шлоссера (своего шурина). О своем отношении к философии он, однако, признается: «Философия становится для меня все более важной, потому что с каждым днем она все больше учит меня отделять от самого себя, что удается мне тем более, что моя природа, подобно разделенным шарикам ртути, так легко и быстро воссоединяется. Ваш метод – прекрасная помощь мне в этом…". (10 февраля) Как отличается это теплое признание чистой философии от слов, которые Шиллер написал в начале их знакомства – в ноябре 1790 года – о чувственном, «трогательном» способе философствования Гете! Когда так много говорят о том, что Шиллер отвернулся от философии под влиянием Гете, здесь видно, как много он узнал и воспринял философского от Шиллера.
Переписка этой весны дает еще одно важное свидетельство о поэте для Канта, а именно о его ригоризме. 28 февраля Гете насмешливо сообщил, что некий француз по имени Мунье «крайне плохо воспринял то, что Кант объявляет ложь безнравственной при всех условиях»,99 и что теперь он считает, что «подорвал» «славу» Канта. В продолжение этого дела Шиллер ответил 2 марта: «Действительно, стоит отметить, что небрежность в эстетических вещах всегда связана с моральной небрежностью, и что чисто строгое стремление к высокому прекрасному, с высочайшей либеральностью по отношению ко всему, что есть в природе, приведет к ригоризму в моральной сфере.
23 июля Шиллер высказывает мысль, что «от эстетического признания и вульгарности можно получить столько же пользы, сколько от философского – вреда». – 27 числа этого месяца он посылает Гете «грубый» отзыв Канта о Николае в двух посланиях «о букмекерстве», на что Гете на следующий день отвечает: «Отзыв Канта о Заальбадере весьма мил. Что мне нравится в старике, так это то, что он при каждом удобном случае может повторять свои принципы и бить в одну точку. Более молодому, практичному человеку лучше не обращать внимания на своих оппонентов; более старому, теоретическому человеку не нужно пропускать ни одного неуклюжего слова. Мы хотим, чтобы так было и в будущем».
Философские новинки, как мы видим, читают оба и обмениваются мнениями. Менее благоприятным, чем только что упомянутые, является отзыв об «Антропологии в прагматическом отношении» Канта, опубликованный в конце 1798 года. Гете писал Шиллеру 19 декабря 1798 года: «Антропология Канта – очень ценная для меня книга и будет еще более ценной в будущем, если я буду наслаждаться ею неоднократно в небольших дозах, ибо в целом, в ее нынешнем виде, она не освежает. С этой точки зрения человек всегда видит себя в патологическом состоянии, а поскольку, как уверяет нас сам старый господин, человек не может стать разумным раньше шестидесяти лет, то объявить себя дураком на всю оставшуюся жизнь – дурная забава. Но если прочесть несколько страниц в добрый час, то остроумное обращение всегда будет восхитительным; кстати, я ненавижу все, что просто наставляет меня, не увеличивая и не оживляя непосредственно мою деятельность». Шиллер отвечает 21 декабря: «Мне очень хочется прочесть „Антропологию“ Канта. Патологическая сторона, которую он всегда подчеркивает в человеке и которая, возможно, уместна в антропологии, преследует почти во всем, что он пишет, и именно она придает его практической философии такой мрачный вид. То, что этот веселый и жизнерадостный дух не смог полностью очистить свои крылья от грязи жизни, и даже не полностью преодолел некоторые мрачные впечатления молодости и т.д., вызывает удивление и сожаление. В нем все еще есть что-то, что, как и в случае с Лу, напоминает монаха, который открыл свой монастырь, но не смог полностью искоренить его следы». Разве Шиллер не должен был быть «антифилософским капризом» друга поэта?«Антифилософские причуды», как однажды говорит Гервинус,100 «к подобным пренебрежительным высказываниям»?
1799—1805
Из последних лет жизни поэта следует прежде всего отметить ряд статей о противниках Канта и других философах, которые можно воспринимать как косвенные свидетельства позиции Шиллера и его окружения по отношению к философии Канта.
5 июня 1799 года, после публикации «Метакритики» Гердера, Гете писал: «С каким невероятным заблуждением старый Виланд присоединяется к слишком раннему триумфу метакритики, вы увидите из последней статьи в „Меркурии“, с изумлением и не без неудовольствия. Ведь христиане утверждают, что в ночь, когда родился Христос, все оракулы умолкли, так и теперь апостолы и ученики нового философского евангелия утверждают: в час рождения метакритики старик в Кенигсберге на своем треножнике был не только парализован, но даже упал, как Дагон, на нос. Ни один из идолов, воздвигнутых в его честь, больше не стоит на ногах, и не нужно многого, чтобы не найти необходимым и естественным зарезать всех товарищей Канта, как тех непокорных обезьян Ваала». Весь тон этих строк уже показывает, на чьей стороне Гете знает своего друга и самого себя; ответ Шиллера (от 7 июня) выдержан в том же ироническом спокойствии: «Шум, поднятый Виландом по поводу книги Гердера, будет иметь, боюсь, совсем не тот эффект, на который он рассчитывает. Мы можем спокойно ожидать этого и займем свои места в качестве тихих зрителей этой комедии, которая будет достаточно красочной и шумной». Даже позже отношения Шиллера с Гердером оставались напряженными.101
Шиллер также находил «Речи о религии» Шлейермахера «при всей их претензии на теплоту и близость, в целом очень сухими и часто претенциозно написанными»; они и романтические стихи Тика, оба «берлинские продукты», «вышли из одной и той же среды» (26 сентября 1799 года Кёрнеру).
А Фихте, которого Шиллер и Кёрнер вначале встретили с такой надеждой, последний в 1800 году – и Шиллер ему не противоречил – считал «философским Аттилой», с которым нужно «повоевать один раз в его стране», «чтобы он не опустошил все наши поля и сады один за другим». (Кёрнер – Шиллеру, 29 декабря 1800 г.)
В переписке этих последних лет есть только одно прямое высказывание о самом Канте. В своих размышлениях о «Потерянном рае» Мильтона Гете также пришел к свободе воли, «над которой я в иных случаях нелегко ломаю голову», и к ее связи с «радикальным злом» Канта. «Таким образом, становится ясно, как Кант неизбежно должен был прийти к радикальному злу, и почему философы, которые находят человека столь очаровательным по своей природе, так плохо относятся к его свободе, и почему они так сопротивляются, когда не хотят отдать им должное за добро по склонности». (Гете – Шиллеру 31 июля 1799 г.) На это Шиллер отвечает (2 августа): «Я уже не помню, как Мильтон помогает себе выйти из вопроса о свободе воли, но развитие Канта для меня слишком монашеское; я никогда не мог с ним примириться». Кант рассматривает «две бесконечно разнородные вещи», «инстинкт добра» и «инстинкт чувственного блага» «совершенно как равные потенции и качества», помещая «свободную личность совершенно одинаково против и между обоими инстинктами». Конечно, прерывает он, они оба «не призваны» «успокаивать человеческий род» по поводу «этих темных мест в природе», которые, кстати, «не пусты» для оратора и трагического поэта и могут – слава Богу! – «всегда оставаться в сфере видимости». Здесь мы видим то же явление, которое уже отмечали в высказывании об антропологии Канта (21 декабря 1798 года): под влиянием Гете чисто эстетическая концепция морали, которая в философских сочинениях Шиллера была отчасти решительно отвергнута, отчасти представлена как оправданная, впоследствии взяла в нем верх – по крайней мере, в сиюминутных настроениях, но, возможно, и навсегда.
В последние несколько лет Шеллинг, которого Шиллер уже 10 апреля 1798 года (Гете) желал видеть в качестве «хорошего кандидата» для «нас, йенских философов», в тамошнем университете и о назначении которого в Йену он выразил свое удовольствие Кёрнеру (31 августа этого года), часто упоминается в переписке Шиллера и Гете. Вместе с ним и Нейтхаммером (которого Уэбервег III 238 называет фихтеанцем, хотя до этого он, во всяком случае, был – см. выше – ревностным кантианцем) у него был философский кружок, который часто упоминается, особенно в 1799 году, в котором, конечно, часто только – l’Hombre играется. 102Но чем больше философия Шеллинга поворачивала к абсолюту, тем больше Шиллер должен был в своих основных кантовских настроениях испытывать отторжение. Так, в пространном письме к Гете от 27 марта 1801 года он высказывает мысль, что «эти господа идеалисты слишком мало обращают внимания на опыт из-за своих идей»; точно так же 20 января 1802 года он высказывает мнение, что «от трансцендентальной философии (Шеллинга) до реального факта еще не хватает моста», что «наши молодые философы хотят перейти непосредственно от идей к действительности», тогда как «от общих полых формул к условному случаю нет перехода». В том же духе он жаловался Кёрнеру 10 декабря 1804 года, что «пустая метафизическая болтовня философов искусства» сделала его «больным от всякого теоретизирования».
Последнее философское высказывание, дошедшее до нас от Шиллера, содержится в его последнем письме Вильгельму фон Гумбольдту, датированном 3 апреля 1805 года – за пять недель до смерти Шиллера. «Спекулятивная «Философия, – пишет он там, – если и завладела мной, то отпугнула меня своими пустыми формулами; на этом бесплодном поле я не нашел ни живого источника, ни пищи для себя». До этого момента связь с философией Шеллинга ясна и вполне согласуется с процитированными ранее упущениями. Но когда он продолжает: «Но глубокие основные идеи идеальной философии остаются вечным сокровищем, и только ради них надо считать себя счастливцем, что жил в это время», то и здесь интерпретация системы тождества возможна, но не абсолютно необходима. Мы бы предпочли интерпретировать ее в смысле лучших философских лет Шиллера, как напоминание о временах, которые, как он писал тому же Вильгельму фон Гумбольдту двумя годами раньше (17 февр. 1803 года), будут «вечно незабываемыми», «1794 и 1795 годы, когда мы вместе философствовали в Йене и были наэлектризованы духовным трением», оба в одинаковом энтузиазме к философии мудреца, «идеи которого стали элементом, в котором дышал и жил его дух, который в годы болезни..…. спутником, другом и утешителем», действительно, «который также давал ему уверенность во всех событиях его внешней жизни.»103
Мы не хотели и не могли дать полный отчет о влиянии философии Канта на всю литературную деятельность Шиллера. Это потребовало бы тщательного блуждания по всем областям философии Канта, особенно поэтической в узком смысле, что мы не смогли предпринять здесь, несмотря на привлекательность такого путешествия. С другой стороны, мы считаем, что представили достаточно точную и верную, а также, надеемся, ясную картину отношения Шиллера к Канту и его философии в ее историческом развитии, основанную на подлинных свидетельствах главных героев. Можно выделить четыре различных этапа:
1) 1787—1790. Кёрнер и Рейнгольд указывают Шиллеру на Канта. Сдержанность его поэтической натуры. Только к концу этого периода начинаются зачатки настоящего «кантианства».104
2) 1791—1794 Шиллер – ревностный кантианец, хотя и в независимой форме, что естественно при оригинальности его духа. В отличие от Гете. За эти четыре года не написано ни одного крупного стихотворения.
3) 1795 г. Возрождение склонности к поэтическому творчеству. Влияние Гете. Философия и поэзия в равновесии. Время возникновения философских поэм.
После этого переходного состояния, наконец
4) 1796—1805: Полное и окончательное возвращение к поэзии. Только в промежутках между философскими чтениями и дискуссиями о поэзии, особенно с Гете, которого он сблизил с философией. Несмотря на отдельные антифилософские и античные высказывания, приверженность основным идеям философии Канта, соответствующее отвращение к романтизму даже в его философских представителях (поздние Фихте, Шеллинг, Шлейермахер, Шлегель).
Период, в который он был действительно философски продуктивен, в который он написал почти все свои философские трактаты, является вторым (в лучшем случае включая третий). Поэтому мы должны основывать наше систематическое рассмотрение на последнем, чтобы с его точки зрения изучить, насколько Шиллер был тем кантианцем, каким его всегда считали те, кто был ближе всего к нему – не в школьном смысле, конечно, – а именно.
LITERATUR -Ein bisher noch unentdeckter Zusammenhang Kante mit Schiller. Von K. Vorländer. 57—62, Philosophische Monatshefte Unter MitwirkungvonProf. Dr. Fr. Ascherson, Bibliothekar an der UniTerslt&tabibllothek zu Berlin, sowiemehrerer nam haften Fach gelehrten redigirt und herausgegeben vonProf. Dr. Paul Natorp. XXX. Band.Berlin. Verlag von Gteorg Reimer.1894.
Этический ригоризм и нравственная красота. II
Методологическое обоснование этического ригоризма
Те, кто говорит об этическом ригоризме, обычно понимают под ним – не без согласия с лингвистической деривацией этого слова 105– холодную осуждающую жесткость строгого морального судьи, которому неведомы чувства любви и мягкости, терпимости и сострадания, в более благоприятном случае – жесткое, требовательное следование моральным принципам, которые, может быть, легко проповедовать и хорошо звучат «в теории», но не могут быть осуществлены в так называемой «практике жизни»: моральный менталитет, который справедливо заслуживает порицания в обоих случаях. Эта концепция этического ригоризма как взгляда на жизнь часто заставляла рассматривать этику Канта или Фихте с этой точки зрения; пытались объяснить философию через философов и при этом впадали во всевозможные биографические моменты. Так, в отношении Канта проницательный Лихтенберг уже поднял скептический вопрос о том, не являются ли некоторые его учения, «особенно в отношении морального закона», следствием его возраста, «где страсти и мнения потеряли свою силу»,106 другие выдвигали его восточно-прусское происхождение как объяснение его «нордической твердости», Шиллер, как мы видели, говорил о своей «нордической твердости» в своей «нордической» философии. Шиллер, как мы видели (стр. 275), говорил о впечатлениях своей юности, которые еще не были полностью преодолены, и о следах монастыря, которые еще не были полностью искоренены (под этим он, должно быть, подразумевал пиетистские влияния в детстве и первые годы молодости Канта).
С другой стороны, этому можно противопоставить прекрасную характеристику Канта в «Humanitätsbriefe» («Письмах о человечестве») его позднего оппонента Гердера, которые, хотя и были получены на личном опыте в годы учебы Гердера, все же были написаны в 1795 году – уже после того, как возникло напряжение! – и свидетельствует о «юношеской бодрости» и «несокрушимом веселье и радости», которые уже можно было прочесть на лице любимого учителя; или также изумление самого Шиллера в вышеупомянутом отрывке, что такой «лидер и веселый дух» мог столкнуться с этим (ср. цитированный выше, стр. 242); наконец, все, что дошло до нас об эллинской общительности его стола, его социальных достоинствах и мягкости его характера. Человек, который не только в praxi (как Сократ), но и в «казуистических вопросах» своего учения о добродетели не считал ниже своего достоинства «если не как панегирист, то хотя бы как апологет» принимать умеренное наслаждение вином и удовольствиями стола, не выходящими за рамки, который – что еще важнее – накидывал «завесу филантропии» на недостатки других, «не только смягчая наши суждения, но и скрывая их» над недостатками других, действительно, кто, подобно Лессингу, хотел уважать предрасположенность к добру даже в порочных людях и не отказывать ни одному человеку в моральной ценности – можно ли назвать его жестким ригористом моральных суждений? Разве все, что мы знаем о жизни и личном характере Канта, не свидетельствует о более высокой степени внутреннего спокойствия и гармонии характера, чем это могло быть присуще страстной поэтической натуре Шиллера, которого так часто сравнивают с ним как с «апостолом красоты» и которому после восторженного неистовства юности сначала пришлось пройти через «гигантскую борьбу долга»?
Но такие биографически-личностные моменты, как бы они ни были важны для психологии характера соответствующих философов, не могут иметь значения для философии как систематической науки. Несомненно, в известном высказывании Фихте: «То, какую философию человек выбирает, зависит от того, каким человеком он является», содержится глубокая психологическая истина. Да, возможно, это предложение можно было бы с не меньшим основанием перевернуть и осмелиться на столь же, то есть относительно обоснованное, утверждение: «То, каким человеком человек становится, зависит от того, какую философию он выбирает». По крайней мере, более пристальный взгляд на историческое и личное влияние той самой этики, которая была осуждена как «кригористическая», несомненно, дал бы достаточно оснований для такого разворота. И мы, конечно же, будем последними, кто не признает, что критический идеализм не только привел научные исследования в новое русло, но и практически обновил моральный дух широких кругов немецкого народа и способен оказывать такое же воздействие и сегодня, так что, взятый предпочтительно с этой морально-практической стороны, он может, более того, должен с полным основанием называться «очищенной философией жизни» (Шиллер). Но рассмотрение этих взаимосвязей между философией и жизнью не входит в систематическую задачу, которая должна нас здесь занимать.
История литературы, а в ограниченной степени и история философии, может учитывать, помимо общеисторических, и такие личностно-психологические моменты: Философия как наука должна исследовать правильность системы, а не обрабатывать биографический материал. Поэтому в дальнейшем мы рассматриваем ригоризм, по крайней мере, в первую очередь, не как взгляд на жизнь, а как метод. Поэтому мы можем и будем пока оставлять имена Канта и Шиллера за рамками уравнения. Если мы обратимся к ним позже, то сделаем это, во-первых, из вполне обоснованного интереса, не только исторического, но и систематического, которым трактат об этическом ригоризме обязан этим двум людям, а во-вторых, из убеждения, которое стало для нас неопровержимым, что Кант в особенности и, как, возможно, менее широко принято считать, Шиллер тоже, вслед за ним, ясно признали и выразили прежде всего методологически-систематическое значение этического ригоризма.



