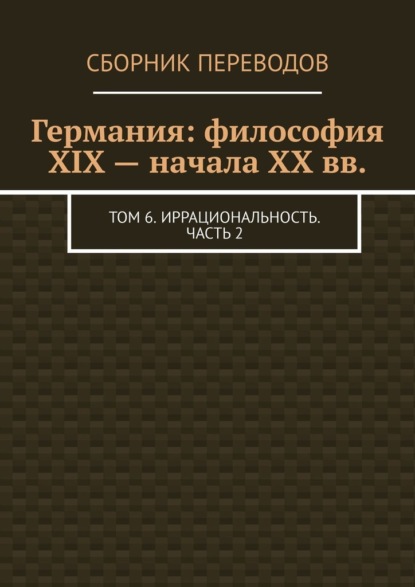
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 6. Иррациональность. Часть 2
В 1895 году был основан специальный орган по имманентной философии: Zeitschrift für immanente Philosophie. Издавался при сотрудничестве Вильгельма Шуппе и Рихарда фон Шуберта-Зольдерна Максом Р. Кауффманом в Берлине и продолжался Вильгельмом Шуппе с 1897 года. Было опубликовано четыре тома. В предисловии к первому номеру этого журнала, написанном Кауффманом, дается краткое описание выбранного направления. См. также введение к работе Шуберта-Зольдерна: Das menschliche Glück und die soziale Frage. Также Wilhelm Wundt, Über naiven und kritischen Realismus. См. «Erwiderung» фон Шуберта-Зольдерна, там же, и ответ Вундта, там же; а также Wilhelm Schuppe, «Die immanente Philosophie und Wilhelm Wundt», Zeitschrift für immanente Philosophie, vol. 2 – Термин «имманентная философия» был выбран самими ее представителями. Философия данности» была бы более точной. Антон фон Леклер, «Реализм современного естествознания в свете фон Беркли и Канта», Прага 1879, и «Beiträge zu einer monistischen Erkenntnistheorie», Бреслау 1882, придерживается феноменального взгляда на природу. Леклер не признает трансцендентного фактора, внементального бытия, и отвергает всякую метафизику. Его фундаментальная теорема гласит: мышление = мышление существа; бытие = мыслимое бытие, что примерно соответствует точке зрения Беркли.
Вильгельм Шуппе выдвинул сходные эпистемологические взгляды: «Das menschliche Denken», Берлин 1870, «Erkenntnistheoretische Logik», Бонн 1878, «Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie», Бреслау 1882, «Das metaphysische Motiv und die Geschichte der Philosophie im Umriß», речь, Бреслау 1882, «Der Begriff des subjektiven Rechts», Бреслау 1887, «Das Gewohnheitsrecht», Бреслау 1890, «Das Recht des Besitzes», ibid. 1891, «Grundriß der Erkenntnistheorie und Logik», Berlin 1894 (повторяет основные положения «Erkenntnistheoretische Logik», но вводит и некоторые новые идеи), «Begriff und Grenzen der Psychologie», Zeitschrift für immanente Philosophie, Vol. I, «Was ist Bildung?», Berlin 1900. Всякое бытие, которое может стать предметом мысли, уже является, согласно своему понятию, содержанием сознания, а бытие, которое не должно быть содержанием сознания, есть немыслимая мысль. Но содержание сознания предполагает наличие сознательного «я». Это, конечно, чудо бытия, первое и единственное, как эго вообще может иметь состояния и содержание сознания. Истинное – это мысль, имеющая своим содержанием реальное, а реальное – это воспринимаемая вещь, имеющая причинную связь со всем остальным, что воспринимается. Помимо индивидуального сознания, Шуппе предполагает абстрактное «я» или сознание, сознание вообще, которое должно проявить себя в непосредственном сознании как нечто, что может быть только субъектом, только иметь свойства, осуществлять деятельность, но никогда не может иметь что-то другое в качестве своего субстрата, примыкать к чему-то другому, приходить к нему в качестве своего свойства или деятельности». Это сознание вообще, однако, не имеет конкретного существования, оно есть абстракция, «абстрактный момент», и его конкретными видами являются отдельные пространственно-временные индивиды сознания, отдельные Я. Это сознание вообще есть абстракция, «абстрактный момент». Это сознание в целом есть одно и то же бытие, общее для всех индивидов. «Это, следовательно, одно и то же единое Я или субъект вообще, который оказывается во стольких-то и стольких-то местах в пространстве и частицах во времени (таким образом, eo ipso уже не сознание вообще, а индивидуальное, уже не чистое Я, а индивидуальное) и видит все пространство и время вне этой частицы только из нее, и по этой самой причине пространство и время отделяются от индивидуального сознания и приобретают объективный, т.е. независимый от индивидуальностей характер». Т.е. независимые от индивидуальностей, зависящие от сознания вообще и принадлежащие ему – одно и то же пространство и время для всех». Одному и тому же сознанию в целом, лежащему в основе всех индивидов, принадлежит и одна и та же реальность, которая не зависит от того, что принадлежит индивидам, как общий объективный мир, не зависящий от них. К ней принадлежат определения, которые связаны как логические с сознанием вообще; в ней должно проявляться все, что есть объект и сознание. В том, что каждый находит в себе, как свой опыт, как восприятие или мысль, «некоторые вещи могут принадлежать сознанию вообще, которое он также находит только в себе, как одно и то же для всех, но другие вещи могут», если не в своем существовании вообще, то, по крайней мере, в своей особой природе и окраске, принадлежать индивидуальности и вытекать из нее. Последнее есть действительное субъективное, конечно, никогда не одно и то же для всех. В одном и том же восприятии, в одной и той же мысли или чувстве одно может происходить из сознания вообще, другое – принадлежать индивидуальности. Таким образом, эпистемология и логика вытекают из индивидуального сознания, поскольку имеют своим источником общее сознание. Теперь необходимо проанализировать, что в индивидуальном сознании принадлежит сознанию вообще, что принадлежит индивидуальности. И то и другое всегда происходит вместе, каждое определяется другим, общее и особенное окрашивают и формируют друг друга. Изучение индивидуального формирования общего «я» – это психология.
Этика Шуппе также связана с его эпистемологическими результатами. Добро – это то, что приносит удовольствие, и это желанно. Только чувство способно оценить это. Для того чтобы возникло моральное долженствование, волей людей должна двигать безусловная и универсально обоснованная оценка. Однако абсолютно ценным является сознание. Удовольствие от сознания или от сознательного существования является необходимым, но, конечно, этика не исчерпывается этой ценностью индивидуального сознания, а ее принципом является ценность сознания вообще, поскольку оно составляет действительное ядро сознания каждого человека. Естественная наука должна установить систему причинных связей ощущений, которая не зависит от индивидуальностей. (Ср. Richard Herrmann, «Schuppes Lehre vom Denken kritisch beleuchtet», Greifswald 1894 и Paul Natorp, Archiv für systematische Philosophie, vol. III, 1897, pp. 103—121.
Взгляды Иоганна Ремке близки к взглядам Шуппе, «Философия мира», 1876; « Мир как восприятие и понятие», Берлин 1880; «Der Pessimismus und die Sittenlehre», Лейпциг 1882; «Physiologie und Kantianismus» (лекция), Айзенах 1883; «Unsere Gewißheit von der Außenwelt» (лекция), Хайльбронн 1894; «Lehrbuch der allgemeinen Psychologie», Гамбург 1894, «Grundriß der Geschichte der Philosophie», Берлин 1896; «Zur Lehre vom Gemüt», Zeitschrift für immanente Philosophie, Berlin 1897; «Außenwelt, Innenwelt, Leib und Seele», Rektoratsrede, Greifswald 1898, который также представляет эпистемологический монизм, даже если он не причисляет себя к действительным представителям имманентности. Душа абсолютно нематериальна, только сознание, и не должна противопоставляться материальному как другая реальность, существующая сама для себя, поскольку материальное может быть противопоставлено только вновь материальному. Без внешнего и внутреннего мира, которые есть у души, она вообще не может быть понята, ибо ее существование обусловлено тем, что у нее есть мир. Отсюда очевидно, что в уверенности своего бытия она имеет в то же время уверенность внешнего мира или реальности вещей, и поэтому она не менее ясна, чем уверенность внутреннего мира или воображаемого, т. е. чувств и стремлений. В «Учебнике общей психологии» Ремке также стремится дать философскую психологию, объяснить общие вопросы, которые ставит перед нами жизнь души; эта работа призвана стать «общим руководством к индивидуальным психологическим исследованиям». Решительно борясь со спинозистским параллелизмом, Ремке в то же время предполагает взаимодействие между душой и телом. – «Фундаментальные вопросы эстетики в свете имманентной философии» рассматривает Франц Маршнер, Zeitschrift für immanente Philosophie, vol. IV, pp. 1—56.
С точкой зрения Леклера, Шуппе и Маха, а также Авенариуса, связана точка зрения последовательного мыслителя Рихарда фон Шуберта-Зольдерна. «Über Transzendenz des Objekts und Subjekts», Leipzig 1882; «Grundlagen einer Erkenntnistheorie», Leipzig 1884; «Reproduktion, Gefühl und Wille», Leipzig 1887; «Grundlagen zu einer Ethik», Leipzig 1887; «Der Gegenstand der Psychologie und das Bewußtsein», Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, vol. 8, 1884; «Ursprung und Element der Empfindung», Zeitschrift für immanente Philosophie, vol. 1, 1896; «Über den Begriff der allgemeinen Bildung», Leipzig 1896; «Das menschliche Glück und die soziale Frage», Zeitschrift für die gesamten Staatswissenschaften, Tübingen 1896. Он отрицает возможность нахождения абстрактного Я-момента, всеобщего сознания, и предполагает лишь единый контекст всего данного, контекст сознания, который получает свое единство через три момента – пространство, время и различие. Эти три момента связаны между собой и образуют всеобъемлющее единство через единство времени. С другой стороны, мир восприятия он считает абстракцией от индивидуального опыта, которая не может быть реализована без интроекции, то есть введения, и обретает свою ценность исключительно в индивиде. Решение проблемы солипсизма ищется в том, что ничто не может быть познано вне сознания, а то, что познается, может иметь эффективность, независимую от индивидуального эго. Эпистемологически солипсизм преодолеть невозможно, поскольку любая попытка выйти за пределы эго-контекста не приводит к прорыву, а лишь к его расширению; метафизически и практически, однако, он вообще не существует. В этих двух областях это было бы безумием, а не наукой. Метафизический солипсизм должен был бы утверждать, что в трансцендентной вещи, в моей голове или в атоме моей души, весь существующий мир дан как видимость, что все мои собратья тоже лишь видимость, что весь мир – лишь процесс во мне как трансцендентном существе, что вне этого существа ничего не существует; практический солипсизм должен был бы утверждать, что мое индивидуальное эго имеет власть над всем остальным миром, может формировать его так, как ему хочется. Эпистемологический солипсизм утверждает противоположное. Этические взгляды Шуберта-Зольдерна представляют собой «эмпирический, но не просто индуктивный эвдемонизм». В психологии он отвергает трансцендентальную подоплеку Шуппе и подчеркивает необходимость научной интроспекции не только как основы гуманитарных наук, но в определенной степени и всей науки в целом.
Макс Кауффман (погиб в результате несчастного случая в Альпах в 1896 году), «Имманентная философия», т. 1, «Анализ метафизики», Лейпциг 1893, придерживается точки зрения эпистемологического солипсизма, подобно Шуберту-Зольдерну: нет различия между субъектом и объектом; при образовании понятий «я» и «не-я» все эмпирические, реальные факты с самого начала относятся к «я», тогда как вещи, принадлежащие «не-я», имеют исключительно гипотетическое, трансцендентное существование. В своей теории понятий Кауффман – убежденный номиналист, как и под сильнейшим влиянием Беркли и Юма. Мартин Кейбель в своей эпистемологии, по-видимому, зависит от Лааса и Шуберта-Зольдерна. «Wert und Ursprung der philosophischen Transzendenz», Berlin 1886; «Die Religion und ihr Recht gegenüber dem modernen Moralismus», Halle 1896. В последней работе он защищает важность независимой религии от попыток заменить ее моралью и следует Вильгельму Бендеру в его взглядах на происхождение религии; «Die Abbildungstheorie und ihr Recht in der Wissenschaftslehre», Zeitschrift für immanente Philosophie, vol. 3, 1898. В случае изображения оно должно быть равноценно идеальному опыту, но не трансцендентному.
Илариу Соколиу, «Grundprobleme der Philosophie kritisch dargestellt und zu lösen versucht», Bern 1895, также отдает дань уважения философии данности, хотя и с собственными вариациями. Segall-Socoliu, Zur Verjüngung der Philosophie [Psychologische Untersuchungen auf dem Gebiet des menschlichen Wissens], Berlin 1893, который стремится объединить доктрину имманентности и монизма с реализмом («существование расширенного содержания восприятия в транссубъективном, т.е. внешнем мире»), рационализмом и телеологическим механизмом. – Некоторые небольшие работы, авторы которых в большей или меньшей степени поддерживают имманентность, должны быть проигнорированы. Следует также отметить, что подобных взглядов придерживаются также во Франции и Англии.
LITERATUR Friedrich Überweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie, Bd. 4, §24. «Immanente Philosophie oder Philosophie des Gegebenen», hg. von Max Heinze, Berlin 1902.
Людвиг Кухленбек (1857 – 1920)
О психологии чувства справедливости
Ни в актуальной психологической, ни в юридическо-философской литературе нет достаточной информации о природе чувства справедливости. Однако в рамках позитивной юриспруденции оно обоснованно рассматривается как asylum ignorantiae [убежище невежества – wp]. Тем не менее, развитое чувство справедливости, не только как так называемый правовой такт (чисто научная интуиция), но и в смысле этического аффекта, несомненно, является одним из самых прекрасных и высоких цветов духовной жизни человека, и поэтому не только заслуживает внимания психолога в высокой степени, но психология чувства справедливости должна, по моему мнению, рассматриваться как фундаментальная вспомогательная наука для философии права, если последняя не впадает в ошибку чисто концептуальных спекуляций, повторяемых до изнеможения. Там, где (субъективное) право перестает быть делом чувства, его корень, который, я убежден, является также психологическим корнем объективного права – нет сомнений, что объективное право существует только ради субъективного права, – должен увянуть и умереть. Единственный достойный прочтения трактат о чувстве права ex professo, который мне удалось найти, принадлежит Густаву Рюмелину (Reden und Aufsätze 1875, pp. 62—87); я думаю, что буду изредка касаться его, но сначала попытаюсь развить здесь некоторые мысли с точки зрения, совершенно противоположной исходной точке зрения Рюмелина, которая, кстати, ввиду большой важности и трудности предмета, может претендовать лишь на предварительное и еще весьма предварительное значение, так сказать. 1
Во-первых, нам необходимо понять психологический смысл чувства вообще. «Чувство» – слово необычайно широкое, простирающееся от (элементарных) чувств, связанных с непосредственными чувственными восприятиями, до так называемых общих чувств и далее до интеллектуальных чувств, а внутри последних – до этических чувств. Тот факт, что в психологической литературе мы не находим согласованного определения чувства, не должен нас удивлять; равно как и попытка найти такое определение, которое может быть удовлетворительно дано только общим содержанием психологии чувства, не должна казаться по меньшей мере преждевременной. Мне только кажется необходимым с самого начала отказаться от ложного исходного положения об особой способности души как способности чувствовать, которая разветвляется в указанных направлениях. Скорее, под чувством мы понимаем основной феномен душевной жизни, не поддающийся дальнейшему описанию в его соответствующей конкретной специфике, который оттеняет каждое ощущение и каждую идею, то есть каждый образ ощущения в памяти, либо как приятный, благоприятный, подходящий для нашего самосохранения или даже улучшения существования, либо, наоборот, как неподходящий, враждебный, неприятный. Поэтому с научной точки зрения представляется более точным не говорить об ощущениях как таковых, а, поскольку каждое конкретное ощущение – это лишь особое качество определенных ощущений (комплексов ощущений) или идей (комплексов идей), говорить об ощущениях и тонах (акцентах ощущений). В целом и – это важно – без исключений – только поверхностное самонаблюдение может нас обмануть – эти эмоциональные тона могут быть теперь обозначены либо отрицательным, либо положительным знаком, то есть либо как чувства неудовольствия, либо как чувства удовольствия. Хотя отдельные ощущения или идеи могут приближаться к нулевому пределу, то есть к абсолютному безразличию, этот предел никогда не достигается; если бы это было допущено, то это означало бы возможность совершенно абстрактных идей или безразличных ощущений, чисто научно-теоретической абстракции, нереальность которой, как мне кажется, я более подробно доказал в первой главе моего «Горца мира мысли». 2 3 4
Прежде всего, теперь ясно, что мы имеем дело с чисто интеллектуальными эмоциональными тонами, т. е. с идеями или комплексами идей, а не с непосредственными ощущениями, в случае тех эмоциональных тонов, которые мы обычно обозначаем словом Rechtsgefühl. Конечно, следует отметить, что не существует априорных или абсолютных эмоциональных значений для любых идей. Ср. Ziehen, Leitfaden der physiologischen Psychologie, стр. 123.
«Не только по своему содержанию, но и по своей эмоциональной ценности все наши идеи являются потомками наших ощущений. Идея благодарности или любой другой добродетели никогда не была бы связана с положительным эмоциональным тоном, если бы мы однажды не радовались актам благодарности, которые мы видели или слышали, короче говоря, которые мы чувствовали».
Но для понимания эмоциональных тонов, связанных с такими сложными представлениями, как представления о праве, то есть о нашей или чужой субъективной сфере интересов и ее признании, необходимо знание психологического закона иррадиации. Этот закон гласит, что тон чувства, свойственный определенному ощущению, может с особой интенсивностью передаваться другим элементам воображения через посредство ассоциации и даже компенсировать или, так сказать, заглушать их противоположные признаки.
«Например, дурно пахнущий цветок неприятен нам в памяти в целом (возможно, несмотря на его красивую форму): частичное представление о запахе перенесло свой эмоциональный тон на все конкретное представление. Вся наша эмоциональная жизнь, а значит, и все наше поведение находятся под влиянием этих иррадиаций. Наши антипатии и симпатии, предрассудки и предубеждения проистекают главным образом из этого источника». (Ziehem, op. cit., page 125)
Применительно к определенному сложному интеллектуальному эмоциональному тону – зависти – Цихен говорит следующее:
«Зависть – это сложный тон чувства, который иногда сопровождает ощущение и воображение другого человека при очень определенных обстоятельствах. Например, я думаю о знакомом, который приобрел то, что мне не удалось приобрести, скажем, для закрепления мнения, редкий минерал. Какому облучению подвергается мое представление об этом знакомом в данном примере? Само представление о завидующем знакомом уже имело определенный своеобразный эмоциональный тон, обычно слегка негативный, до того, как он стал обладателем минерала и, таким образом, стал объектом моей зависти. Более того, само представление о камне ассоциативно связано с представлением о моем знакомом с тех пор, как он его приобрел. Этот образ связан со своеобразным чувством вожделения и переносит его, хотя и в слабой степени, на образ знакомого. Существует также ассоциативная связь с представлением о моей собственной коллекции минералов, в которой отсутствует данный камень; это представление сопровождается сильным отрицательным эмоциональным тоном определенного качества. Это также облучает идею знакомого. Добавляются идеи о тщетных усилиях, которые я сам предпринимал, чтобы приобрести камень: интенсивно негативные своеобразные эмоциональные тона этих идей также передаются идеям известного». (Ziehen, указ. соч. С. 127).
Пытаясь воспроизвести эту схему эмпирического выведения сложного интеллектуального эмоционального тона для чувства справедливости, я пришел к следующим результатам:
1. Чувство справедливости может пробудиться только через нарушение справедливости, т. е. через нарушение интересов отдельного человека, и поэтому имеет исходное чувство с отрицательным знаком. Пока оно остается чисто индивидуальным, оно совпадает в своем элементарном корне с аффектом мести. Возьмем самый чувственно яркий и, на мой взгляд, самый примитивный случай (в том числе и в истории права) – случай физической травмы. Индивид А, пострадавший от индивида Б, естественно, отреагирует против Б чувством мести, которое, по сути, есть не что иное, как стремление к самосохранению, мотивированное ассоциациями памяти и ожиданий. См. более подробно мои «Естественные основы права и политики», стр. 181. (Это предполагает, что после совершения оскорбительного акта обидчик и (облученный!) враг признается таковым и снова наносит рану с сознательной ссылкой на полученную травму. Удовлетворение от мести теперь, наоборот, характеризуется ярко выраженным положительным эмоциональным тоном. (Кстати, конечно, этот опыт лишь внешне говорит в пользу известной догмы Шопенгауэра о «негативности чувства удовольствия», ошибочность которой, возможно, будет иногда обсуждаться позже при рассмотрении аналогичной теории Цительманна. 5
2. Для того чтобы индивидуальное чувство мести смягчилось или прояснилось в чувство справедливости, необходимо, однако, добавить социально обусловленные, очень сложные ассоциации, для анализа которых нам может послужить классический пример из истории римского права. Римский центурион (Livius VI, 14), обедневший от военной службы, но имеющий большие военные заслуги, по суровому патрицианскому закону о долге присуждается к уплате своему кредитору в качестве *nexus и оказывается под угрозой продажи trans Tiberim из-за manus injectio. Чувство справедливости патрициев не обижается на это, но чувство справедливости плебеев, к которым принадлежит центурион, обижается еще больше, и в конце концов конфликт между этими взаимно противоречащими друг другу чувствами справедливости приводит к смягчению позитивного обязательственного права. Элемент, который появляется здесь в качестве дополнительного фактора чувства справедливости, Рюмелин, указ. соч. стр. 68, правильно характеризует как сострадание. Однако, на мой взгляд, Рюмелин слишком преждевременно предвосхищает его лучшее и наиболее ясное развитие в форме всеобщего человеколюбия и в конце концов даже «преобразует» его (стр. 74) в «общий принцип» «равенства всех людей», что, на мой взгляд, даже в корне неверно.
Выбранный исторический пример скорее учит нас о менее априорном альтруистическом корне этого нового элемента, представленного борьбой за существование и связанным с ней выбором того, что является социально целесообразным. Сам кредитор чувствовал, как справедливо замечает Йеринг в своей характеристике древнейшего обязательственного права (Geist des römischen Rechts I, стр. 125), в manus injectio удовлетворение своего индивидуального чувства справедливости как месть за нарушение его имущественных интересов. Патриции, однако, чувствовали себя вместе с ним, хотя и в меньшей степени, поскольку он был одним из «их людей», поскольку они могли поставить себя в его положение, а не в положение плебея, и поэтому характеризовали принуждение своего законного genoese (товарища по интересам) положительным эмоциональным тоном (иррадиацией). С плебеями дело обстояло как раз наоборот: для них представление о патриции-кредиторе уже имело негативный эмоциональный тон, хотя и более легко гармонизируемый в зависимости от личного контакта, тогда как представление о центурионе как о собственном товарище по закону имело позитивный индекс в силу общей идеи солидарности – продукта социальных условий. Положительный эмоциональный тон в данном случае, несомненно, усиливался особым уважением, которым пользовался этот человек. Таким образом, мы видим, что чувство справедливости на своем первом этапе, как альтруистически ориентированное социальное (этическое) чувство, оторванное от корысти, основывается на уже очень сложных ассоциациях представлений и иррадиациях эмоционального тона. Собственно чувство справедливости формируется только в сообществе, сосуществование которого подчиняется определенным, пусть даже неписаным, общим правилам, и, несомненно, становится осознанным только при нарушении этих правил. Таким образом, мне, по крайней мере, хотелось бы верить, что первые мысли о добре и зле в индивидуальной жизни современных цивилизованных людей зарождаются в семейном сообществе, например, когда ребенок «чувствует» себя неполноценным по сравнению с другим. В той мере, в какой правильное или неправильное является понятием, то есть комплексом ассоциаций, это понятие ценности, и в этом смысле – а не в смысле врожденной способности – чувство претендует на первенство в формировании понятия правильного. Однако, с другой стороны, развитие познания, то есть объема понятийных масс, несомненно, является необходимой предпосылкой для его более высокого развития. Это можно проиллюстрировать анекдотом из миссионерских кругов. Миссионер, интересуясь этическими представлениями туземного вождя, спрашивает его, что он считает самой большой несправедливостью (преступлением). Ответ: «Когда кто-то из нашего племени крадет женщин или скот у другого». Он переворачивает вопрос и спрашивает, что он считает величайшей заслугой, величайшей честью: Ответ: «Когда мы крадем женщин или скот у другого племени!»

