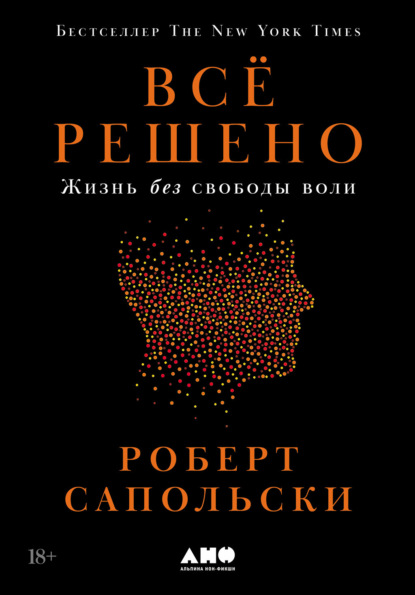
Полная версия:
Всё решено: Жизнь без свободы воли
Вопрос, важность которого очевидна: задолго ли до поступка сложилось намерение. Это вопрос предумышленности, разницы между, скажем, преступлением, совершенным в порыве страсти, где умысел отстоит от действия на какие-то миллисекунды, и давно спланированным действием. С юридической точки зрения, честно говоря, неясно, как долго нужно размышлять над задуманным поступком, чтобы он считался предумышленным. В качестве примера такой неясности можно рассказать, как я выступал в качестве эксперта на судебном процессе, где все вертелось вокруг вопроса, достаточно ли восьми секунд (зафиксированных камерой видеонаблюдения) для того, чтобы человек, находящийся в опасных для жизни обстоятельствах, мог замыслить убийство. (Мои две копейки заключались в том, что в таких условиях восьми секунд мозгу недостаточно не только для того, чтобы что-то замыслить, но и для того, чтобы в принципе осознать происходящее, а концепция свободы воли к делу не относится; присяжные с этим дружно не согласились.)
А есть еще вопросы, крайне важные для судов над военными преступниками. Какой должна быть угроза, чтобы злодеяние считалось совершенным по принуждению? А если человек соглашается совершить преступление, зная, что, если откажется, кто-то другой сделает это за него – в ту же минуту и с еще большей жестокостью? А если пойти еще дальше: как нужно поступить с человеком, который сознательно решил совершить преступление, зная, что, если он передумает, его все равно заставят это сделать?[33]{39}
На этот момент у нас, похоже, имеются два совершенно разных подхода к осмыслению субъектности и ответственности: подход ученых, спорящих о дополнительной моторной области мозга на конференциях по нейрофилософии, а также подход прокуроров и адвокатов, состязающихся в залах суда. И все же у них есть нечто общее, что потенциально может нанести удар по скептицизму в отношении свободы воли:
Предположим, что наше ощущение сознательного решения на самом деле не следует за потенциалом готовности, что активность в ДМО, префронтальной коре, теменной коре и так далее позволяет предсказать поведение лишь в некоторой степени и только в таких ситуациях, как нажатие на кнопку. На основании этого никак нельзя утверждать, что свобода воли умерла.
Теперь предположим, что обвиняемый говорит: «Это сделал я. Я знал, что мог бы поступить иначе, но замыслил поступить так, как поступил, и спланировал все заранее. Я не только знал, что в результате моих действий могло случиться Х, я хотел, чтобы это произошло». Попробуйте-ка теперь убедить кого-нибудь, что у обвиняемого нет свободы воли.
Однако смысл этой главы в том, что, даже если одна из этих выкладок или обе сразу верны, я все равно считаю: свободы воли не существует. Чтобы понять почему, пора провести мысленный эксперимент в стиле Либета.
КОНЕЦ СВОБОДЫ ВОЛИ В ТЕНИ НАМЕРЕНИЯВаш друг пишет докторскую по нейрофилософии и просит вас стать участником эксперимента в его исследовании. Вы соглашаетесь. Он страшно рад, поскольку придумал, как получить дополнительные данные для работы и одновременно исполнить свое заветное желание – соединить, так сказать, приятное с полезным. Для снятия показаний он использует переносной ЭЭГ-регистратор, как в исследовании с прыжками с тарзанки. Вы вышли из лаборатории на улицу, на голове – шапочка с проводами, на руке – датчик для электромиографии, в поле зрения – часы.
Как и в классическом исследовании Либета, двигательное действие, которое от вас требуется, – движение указательного пальца. Но слушайте, разве подобный искусственный сценарий не устарел на несколько десятков лет? К счастью, план эксперимента, который старательно составил ваш товарищ, посложнее: движение-то вы совершаете простое, а вот последствия его отнюдь не так просты. Вам говорят не планировать свое движение заранее, пусть оно будет спонтанным. Кстати, отметьте на часах, когда вы впервые ощутите намерение согнуть палец. Все готово? Теперь, как только вы почувствуете, что тоже готовы, нажмите на спуск и убейте вот этого человека.
Может, он враг отечества, террорист, взрывающий мосты в одной из победоносно оккупированных колоний. А может, кассир из винного магазина, который вы хотите ограбить. Может, это ваш любимый человек, смертельно больной, страдающий от невыносимой боли и умоляющий положить конец его мукам. Может, это кто-то, кто собирается причинить вред ребенку; а может, это младенец Гитлер, лепечущий в колыбельке.
Вы можете не стрелять. Например, вы не испытываете иллюзий по поводу жестокости режима и отказываетесь; вы думаете, что убийство кассира сделает ставку слишком высокой, если вас поймают; и, как бы ни умолял вас близкий человек, вы просто не можете сделать того, о чем вас просят. А может быть, вы Хамфри Богарт, ваш друг – Клод Рейнс, вы путаете реальность с сюжетом и думаете, что, если позволите майору Штрассеру улизнуть, история не закончится и вы получите роль в продолжении «Касабланки»[34].
Но предположим, на спуск вам жать все-таки придется, иначе не удастся обнаружить потенциал готовности, и исследования вашего друга застопорятся. Тем не менее у вас всё еще есть варианты. Вы можете выстрелить в указанного человека. Можете выстрелить, но так, чтобы промахнуться. Вы можете застрелиться, но не подчиниться[35]. И вообще можете отказаться играть по правилам и застрелить своего друга.
Интуитивно кажется: для того чтобы понять, что вы в итоге делаете, когда нажимаете на спусковой крючок, нужно решить те же проблемы, что стояли перед Либетом. То есть изучить конкретные нейроны и конкретные миллисекунды, чтобы понять, в какой момент вы чувствуете, что решили что-то сделать, в какой момент ваш мозг решился на это действие, а также отличаются ли эти вещи друг от друга, или это одно и то же. Но вот почему эти либетовские дебаты, равно как и система уголовного правосудия, которую заботит исключительно вопрос умысла, не имеют никакого отношения к размышлениям о свободе воли? Как уже говорилось в начале этой главы, причина в том, что ни то ни другое не ставит главный вопрос, который поднимается на каждой странице этой книги: «Откуда взялось намерение?».
Если вы не задаете этот вопрос, вы ограничиваете себя промежутком в несколько секунд. Для многих и этого достаточно. Франкфурт пишет: «Вопросы о том, чем вызваны действия [человека] и его отождествление с их первоисточником, не имеют отношения к вопросам о том, совершил ли он эти действия свободно и несет ли моральную ответственность за их совершение». Или, как пишут Шадлен и Роскис, либетовская нейронаука «может обеспечить основание для возложения ответственности, сфокусированной на субъекте, а не на предшествующих причинах» (курсив мой. – Р. С.).
Откуда берется намерение? Да, из биологии, взаимодействующей с окружающей средой за секунду до того, как разогрелась ваша ДМО. А еще – за минуту до того, за час, за тысячелетие, и это лейтмотив данной книги. Дискуссия о свободе воли не может начинаться и заканчиваться с потенциалов готовности или с того, о чем думал человек, когда совершал преступление[36]. Почему же я трачу страницу за страницей, в мельчайших деталях разбирая дебаты о значении эксперимента Либета, прежде чем беспечно отмахнуться от них со словами «И все же я считаю, что это к делу не относится»? Потому что эксперимент Либета считается наиважнейшим исследованием, когда-либо проводившимся для изучения нейробиологией вопроса о свободе воли. Потому что практически в каждой научной работе, посвященной свободе воли, неизбежно фигурирует Либет. Потому что вы, может статься, родились в тот год, когда Либет опубликовал свое первое исследование, и теперь, спустя столько лет, вы уже достаточно взрослый, чтобы вашу любимую музыку называли «классическим» роком, да и сами уже, вставая со стула, покряхтываете, как это свойственно людям среднего возраста… а ученые все еще ломают копья, обсуждая эксперимент Либета. Но, как я уже говорил, это все равно что пытаться понять фильм, посмотрев только последние три минуты{40}.
Это обвинение в близорукости не должно звучать уничижительно. Близорукость – инструмент, с помощью которого мы, ученые, пытаемся отыскать что-то новое, узнавая все больше и больше о все меньшем и меньшем. Однажды я потратил девять лет на один эксперимент; он может стать центром очень маленькой научной вселенной. И я не обвиняю систему уголовного правосудия в том, что она близоруко фокусируется исключительно на наличии умысла – в конце концов, при вынесении приговора учитывается и то, откуда взялся умысел, и биография обвиняемого, и возможные смягчающие обстоятельства.
Где я намеренно пытаюсь звучать уничижительно и даже хуже, так это в тех случаях, когда такой внеисторический взгляд на поведение перерастает в морализаторство. Почему, анализируя чье-то поведение, вы игнорируете все, что происходило с этим человеком вплоть до настоящего момента? Да потому что вам попросту неинтересно, по каким таким причинам он от вас отличается.
В этой книге я нечасто сознательно перехожу на личности, но здесь как раз один из таких случаев – речь идет о рассуждениях Дэниела Деннета из Университета Тафтса. Деннет – один из самых известных и влиятельных философов, ведущий компатибилист, который излагает свои взгляды как в специальных трудах в своей области, так и в остроумных и увлекательных книгах для широкой публики.
Он безусловно принимает эту внеисторическую позицию и обосновывает ее с помощью метафоры, которая часто встречается в его трудах и дискуссиях с коллегами. Например, в книге «Пространство для маневра: виды свободы воли, которой стоит хотеть» (Elbow Room: The Varieties of Will Worth Wanting) он предлагает читателю представить себе забег, в котором один из бегунов стартует с отставанием от остальных. Будет ли это несправедливо? «Да, если речь о забеге на сто ярдов». Но если речь идет о марафоне, то никакой несправедливости Деннет не видит, ведь «в марафоне такое относительно небольшое изначальное преимущество не считается, поскольку можно с уверенностью ожидать, что другие случайные отрывы будут иметь больший эффект». Резюмируя свою точку зрения, он пишет: «В конце концов в долгосрочной перспективе удача усредняется»{41}.
Да нет же, не усредняется[37]. Предположим, вы родились у матери, злоупотреблявшей наркотиками во время беременности. И что, стремясь уравновесить это невезение, общество спешит обеспечить вам воспитание в относительном достатке и предоставляет всевозможное лечение, чтобы помочь преодолеть отставание в неврологическом развитии? Нет, в подавляющем большинстве случаев вы родитесь в бедности и в ней же и останетесь. Ну тогда, говорит общество, давайте хотя бы позаботимся о том, чтобы мать вас любила, была бы психически стабильна и располагала бы массой свободного времени, чтобы читать вам книги и водить по музеям. Да, конечно; насколько нам известно, мать ваша, скорее всего, захлебывается в ужасных последствиях своего жизненного невезения, и о вас, скорее всего, не будут заботиться, будут подвергать насилию и перекидывать из одной приемной семьи в другую. Но, может быть, общество хотя бы соберется с силами, чтобы уравновесить это дополнительное невезение, обеспечив вам жизнь в безопасном районе с отличными школами? Нет, вероятнее, в вашем районе орудуют банды, а школа не получает достаточного финансирования.
В нашем мире вы начинаете марафон, отстав на несколько шагов от остальных. И вопреки утверждению Деннета, примерно через полкилометра, поскольку вы все еще заметно отстаете, именно вас хватает за пятку какая-нибудь дикая гиена. На восьмикилометровой отметке, в палатке для восстановления водного баланса, почти закончилась вода, и вы можете сделать лишь несколько глотков подозрительно мутной жижи. На шестнадцати километрах у вас скручивает желудок. К тридцати двум километрам путь вам преграждают люди, которые считают, что гонка закончена, и уже подметают улицу. И все это время вы наблюдаете за удаляющимися спинами остальных бегунов, каждый из которых считает, что имеет право, что заслужил приличный шанс на победу. Удача не выравнивается со временем, и, по словам Леви, «мы не можем устранить последствия случая с помощью другого случая»; вместо этого наш мир практически гарантирует, что и везение, и невезение со временем только усугубляются.
В том же абзаце Деннет пишет, что «хорошему бегуну, стартующему позади группы, если он действительно настолько хорош, чтобы ЗАСЛУЖИТЬ победу, вероятно, выпадет достаточно шансов преодолеть первоначальное отставание» (выделено мной. – Р. С.). Это даже круче веры в то, что Бог придумал бедность, чтобы наказывать грешников.
Но и это еще не все! Послушайте, как Деннет подытоживает свою моральную позицию: переключаясь с легкоатлетических метафор на бейсбол и предполагая, что вы считаете, будто есть что-то несправедливое в том, как устроены хоум-раны, он пишет: «Если вам не нравится правило хоум-ранов, не играйте в бейсбол; играйте в какую-нибудь другую игру». Да, я хочу другую игру, говорит наше уже повзрослевшее дитя наркоманки из предыдущего абзаца. На этот раз я хочу родиться в обеспеченной, образованной семье трудяг из IT-сектора в Кремниевой долине, которые, как только я решу, что мне нравится, скажем, фигурное катание, оплатят занятия в спортивной секции и будут подбадривать меня с первых шатких шагов на льду. К черту эту жизнь, в которую меня бросили; я хочу сменить игру.
Считать, будто нам достаточно всего лишь знать о намерении в настоящем, – это не просто интеллектуальная слепота. Это даже хуже, чем верить, будто намерение – это самая первая черепаха, висящая в воздухе. В таком мире, как наш, это еще и серьезный этический изъян.
Пора посмотреть, откуда берется намерение и как удача и близко не выравнивает положения в долгосрочной перспективе{42}.
3
Откуда берется намерение?
Из-за того, что нам ужасно нравятся всякие либетовские штуки, мы усаживаем вас перед двумя кнопками; вы должны нажать одну из них. Но о том, что будет впоследствии, вы получаете самую общую информацию: говорят только, что в результате неправильного выбора погибнут тысячи. Теперь выбирайте.
Ни один скептик в отношении свободы воли не возьмется утверждать, будто бывает так, что вы формируете намерение и уже тянетесь, чтобы нажать соответствующую кнопку, но тут вдруг ни с того ни с сего молекулы, составляющие ваше тело, толкают вас под руку и вынуждают нажать другую.
Напротив, в предыдущей главе было показано, как в рамках либетовской парадигмы обсуждается, когда именно вы сформировали намерение, когда вы осознали, что сформировали его, активировались ли к этому моменту нейроны, отдающие команды мышцам, и в какой момент вы еще могли наложить вето на свое намерение. Плюс ведутся разговоры о ДМО, лобной коре, миндалевидном теле (или миндалине) и базальных ядрах – что́ им становится известно и когда. Тем временем в соседнем зале суда юристы спорят о природе вашего намерения.
Предыдущая глава заканчивается заявлением, что все эти миллисекунды не имеют ни малейшего отношения к вопросу о том, почему свободы воли не существует. Потому-то мы и не стали вставлять в ваш мозг электроды, прежде чем усадить перед двумя кнопками. Они нам не сообщили бы ничего существенного.
Все потому, что либетовские войны не ставят наиважнейший, фундаментальный вопрос: почему вы сформировали именно такое намерение?
В этой главе будет показано, что в конечном итоге вы не властны выбирать, какое намерение сформировать. Вы хотите что-то сделать, намереваетесь это сделать, а затем так и поступаете. Но как бы горячо и отчаянно вы того ни желали, у вас не получится заставить себя захотеть сформировать другое намерение. Вы не отыщете выход и уровнем выше – вы не можете успешно использовать инструменты (скажем, бо́льшую самодисциплину), которые помогут вам выбрать, чего желать. Никто из нас на такое не способен.
Вот почему нет никакого смысла вставлять электроды вам в голову, чтобы посмотреть, чем заняты нейроны в те миллисекунды, когда вы формируете намерение. Чтобы понять, откуда взялось намерение, нужно знать, что происходило с вами в те секунды или минуты, что предшествовали появлению намерения нажать на одну из двух кнопок. Еще следует знать, что происходило с вами на протяжении часов и дней, предшествовавших этому моменту. А также на протяжении лет и даже десятилетий до него. А еще – что с вами происходило в отрочестве, детстве и в утробе матери. И что случилось, когда сперматозоид и яйцеклетка, которым суждено было стать вами, слились воедино, сформировав ваш геном. И что происходило с вашими предками столетия назад, когда они создавали культуру, в которой вас воспитывали, и с вашим биологическим видом миллионы лет назад. Да-да, вот это все.
Все эти черепахи одна на другой показывают, что намерение, которое вы формируете, как и личность, есть результат всех предшествующих взаимодействий биологии и окружающей среды. От вас здесь ничего не зависит. Каждое влияние плавно вытекает из всех влияний, что предшествовали вашему намерению. В этой последовательности нет такой точки, куда можно было бы вставить свободу воли, которая находилась бы в этом биологическом мире и вместе с тем не принадлежала бы ему.
Давайте же посмотрим, каким образом то, кем мы являемся, есть результат предыдущих секунд, минут, десятилетий и геологических периодов, не подвластных нашему контролю. И почему везение и невезение никогда не уравновешивают друг друга.
ЗА СЕКУНДЫ И МИНУТЫ ДО…Для начала вопрос о происхождении намерения мы поставим следующим образом: какая сенсорная информация, поступавшая в мозг в предыдущие секунды и минуты (в том числе неосознаваемая), помогла вам сформировать намерение?[38] Ответ может быть очевидным: «Я сформировал намерение нажать на кнопку, поскольку услышал жесткое требование сделать это и увидел пистолет, направленный мне в лицо».
Но все может быть не настолько очевидным. Вам на долю секунды предъявляют фотографию человека, который что-то держит в руках; вы должны решить, что это – мобильный телефон или пистолет. В эту секунду на ваше решение могут повлиять пол изображенного на фотографии человека, его раса, возраст и выражение лица. Нам хорошо известны жизненные версии этого эксперимента, в результате которого полицейский по ошибке стреляет в безоружного, а также влияние скрытых предубеждений, которые повышают шансы ошибиться{43}.
Некоторые примеры того, как влияют на намерение нерелевантные на первый взгляд стимулы, изучены особенно хорошо[39]. В их числе вопрос, как чувство отвращения влияет на поведение и отношение к людям и явлениям. В одном широко цитируемом исследовании испытуемые высказывали мнение по различным общественно-политическим вопросам (например, «Оцените, насколько вы согласны со следующим утверждением, по шкале от 1 до 10»). И если испытуемые сидели в комнате, где плохо пахло (по сравнению с нейтральным запахом), средний уровень доброжелательности к геям снижался как у консерваторов, так и у либералов. Ну конечно, подумаете вы, если вас блевать тянет, вы будете испытывать меньше теплых чувств ко всем без исключения. Однако этот эффект проявлялся только в отношении геев; уровень доброжелательности к лесбиянкам, старикам и афроамериканцам не менялся. Другое исследование показало, что отвратительные запахи снижают уровень одобрения однополых браков (и ухудшают отношение к другим политизированным аспектам сексуального поведения). Более того, одна только мысль о чем-нибудь отвратительном (поедании личинок) лишала консерваторов желания общаться с гомосексуальными мужчинами{44}.
А еще есть забавное исследование, где испытуемым либо причиняли дискомфорт (заставляя держать руку в ледяной воде), либо внушали отвращение (заставляя держать руку в тонкой перчатке в жидкости, имитирующей рвотные массы)[40]. Затем испытуемые должны были определить наказание нарушителю норм, связанных с чистотой (например, «Джон потер чужую зубную щетку о пол в общественной уборной» или в высшей степени выразительное «Джон толкнул человека в мусорный бак, кишащий тараканами»), или же норм, с чистотой не связанных (например, «Джон поцарапал ключом чужую машину»). Участники, которым внушали отвращение (но не те, что испытывали дискомфорт), строже наказывали за нарушение норм чистоты{45}.
Как отвратительный запах или тактильные ощущения могут изменить не имеющую к ним никакого касательства моральную оценку? Этот феномен связан с областью мозга под названием «островок» (или островковая доля). У млекопитающих она активируется запахом или вкусом испорченной пищи, заставляя рефлекторно ее выплевывать или вызывая рвоту. В общем, островок обрабатывает обонятельное и вкусовое отвращение и защищает от пищевых отравлений – эволюционно полезная вещь.
Но многофункциональный человеческий островок реагирует еще и на стимулы, которые кажутся нам отвратительными с моральной точки зрения. Функция островка млекопитающих «еда испортилась» оформилась, по всей видимости, примерно 100 млн лет тому назад. Гораздо позже, всего пару десятков тысячелетий назад, люди сконструировали такие понятия, как мораль и отвращение к нарушению моральных норм. По эволюционным меркам прошло слишком мало времени, чтобы в мозгу появилась новая область, которая обрабатывала бы моральное отвращение. Вместо этого его добавили в портфолио островка; как часто говорят, эволюция не изобретает, а латает и по мере сил импровизирует (элегантно или нет) с тем, что имеется под рукой. Нейроны островка не отличают отвратительных запахов от отвратительного поведения, что объясняет смысл метафор о моральном отвращении, от которого во рту возникает неприятный вкус, одолевают тошнота и рвотные позывы. Вы ощущаете что-то отвратительное, бе-е… и бессознательно вам приходит в голову, что если такие люди делают А, то это отвратительно и неправильно. Активируясь, островок передает сигнал в миндалину, область мозга, отвечающую за гнев и агрессию{46}.
Естественно, у феномена физического отвращения есть и обратная сторона: отведав сладких лакомств (в отличие от соленостей), испытуемые начинают считать себя людьми в высшей степени добрыми и отзывчивыми и присваивать высокие оценки по шкале привлекательности лицам других людей и произведениям искусства{47}.
Спросите испытуемого: послушайте, заполняя опросник на прошлой неделе, вы ничего не имели против поведения А, но теперь (в этой вонючей комнате) оно вам претит. Почему? Они не станут объяснять, как вонь сбила с толку их островок и снизила их моральный релятивизм. Они скажут, что некое недавнее озарение, наряду с фальшивой свободой воли и якобы сознательным намерением, заставило их решить, что все-таки поведение А ненормально.
Повлиять на намерение может не только физическое отвращение, но и красота. Тысячелетиями мудрецы провозглашали внешнюю красоту отражением внутренней добродетели. И хотя в открытую мы сегодня не осмелимся утверждать, что красота равна добродетели, на подсознательном уровне этот посыл до сих пор сохраняется; привлекательных людей считают более честными, умными и компетентными; их чаще избирают и нанимают, им больше платят; их реже осуждают за преступления, и тюремные сроки они получают меньшие. Да ладно, неужели мозг не способен отличить красоту от добродетели? Не особенно. В трех разных исследованиях испытуемые, помещенные в аппарат для сканирования мозга, попеременно оценивали красоту чего-либо (например, лица) и нравственность какого-либо поведения. И то и другое занятие активировало одну и ту же область мозга (орбитофронтальную кору, или ОФК): чем красивее или высоконравственнее было предъявленное, тем сильнее активировалась ОФК (и меньше островок). Это выглядит так, словно неуместные эмоции по поводу красоты мешают мысленному созерцанию весов справедливости. И это было показано в другом эксперименте: после того как у испытуемых на время отключили ту часть префронтальной коры, которая передает в лобную кору информацию об эмоциях, их моральные суждения перестали зависеть от эстетического впечатления[41]. «Интересно, – говорят испытуемым, – на прошлой неделе вы отправили человека в тюрьму на всю жизнь, а теперь вы смотрите на другого, совершившего точно такое же преступление, и готовы выдвинуть его в члены конгресса, как так?» Поверьте, ответа «Убийство – это плохо, но боже мой, вы только посмотрите в эти глаза, в эти глубокие прозрачные озера» вы не дождетесь. Откуда берется намерение, стоящее за такими решениями? Все дело в том, что мозг еще не успел сформировать отдельные нейронные контуры для оценки морали и эстетичности{48}.
Еще вопрос: хотите подтолкнуть кого-нибудь к мысли вымыть руки? Попросите его признаться в каком-нибудь плохом и неэтичном поступке. После этого он с большей вероятностью вымоет руки или воспользуется санитайзером, чем если бы рассказывал о каком-нибудь своем этически нейтральном действии. Испытуемые, которых просили солгать, проявляли больше интереса к моющим средствам (в отличие от других предметов), чем те, которых просили быть честными. Другое исследование продемонстрировало примечательную телесную специфичность: люди, солгавшие устно (в голосовых сообщениях), чаще выбирали ополаскиватель для рта, а письменная ложь (по электронной почте) повышала желание приобрести дезинфицирующее средство для рук. Одно нейровизуализационное исследование показало, что ложь посредством голосовых сообщений, усиливающая привлекательность ополаскивателя для рта, активирует одну часть сенсорной коры, а ложь по электронной почте, заставляющая тянуться за санитайзером, – другую. Нейроны считают, что ложь в буквальном смысле пачкает рот – или, соответственно, руки.



