 Полная версия
Полная версияДожди над Россией
– Интересно, – тянет меня ревность за язык, – он и там пьёт воду на спор, чтоб заработать лишнюю губу?
– А к чему это ты про воду?
– А помните?.. Или забыли? Я Вам уже рассказывал… Как-то… Года три назад… В жару не манило дёргать чай. И бригадир, любезный Капитошка, скажи мне с Глебом: «Выпьете вдвоём ведро воды, запишу по полнормы чая». Мы по-геройски выкушали целое ведро. Меня сразу сорвало, оптом вылетела вся водица. А у Глебика колом стояла в горле, вырвать не мог. Неделю ненавидел воду, не пил ни водинки.
Мама грустно вздохнула:
– Ну и глупёхи были… А воду пить надо, – заметила назидательно. – Конечно, не цистернами… В воде все мита… мита… мины. Вот скажи, почему холодная вода укусней тёплой? Даже аж сладит навроде?
– В холодной воде больше свободного кислорода, потому и вкусная.
– А что такое кислород? Да ещё свободный? От чего свобода? От физкультуры в школе?
– Ну-у… Вам и за год не объяснишь. Лучше скажите, что это у Вас вид бледный стал?
– Дела! Да умылась с мылом!.. Вот ты хвораешь, я тоже прихворнула как-то в Криуше. Уже год взамуже була. Ага… Мама с татом ушли до церкви. Дома я да Никита. Пришёл слепой с отакенной толстючей книжкой. Говорит, назови какое число, месяц-год рождения. Я сказала. Тогда он и говорит: выедете вы отсюда, дети маленькие. Выедете в чужой край. Одно из вас возьмётся, одно останется. И кто останется, трудно будет жить с детьми и будет жить, если не умрёт в сорок лет, или семьдесят три или восемьдесят три. Три запомнила, а первую цифру потеряла. Головешка по путю не робэ… Если семьдесят три, мало осталось. Иногда мне сдаётся, что семьдесят три тоже уже проехали, и я думаю, довезёт ли бричка до станции Восемьдесят Три? А может, на восьми десятках перекинется?.. Что мы знаем?.. Одна смерть честная. Никто от неё не откупится, никто не отмолится. Хоть бы кто нарошно рассказал, как т а м. Хóроше ли, плохо ли?.. Одна жинка россказувала. Её сестры муж пас коров. Утром выгонял, ничего. Прибегают: иди, помер твой. Побежала… Умер у коров… Обмыли, сховали. Вечером люди мимо кладбища проходили, слыхали голос. Взяли мужиков. Раскопали. Чем укрывали – скомкано в ногах, перевёрнутый вниз лицом… Вот… Что мы знаем?.. Пока будем шкандыбать… Да, жизня… Не так просто… Ничего, меньше греха напутаешь, если меньше жить… Всё сбылось, что говорилось.
– Ма, Вы б рассказали про себя, про своих, про Родину. А то всё смешком, смешком. Слово скажете, два в уме. Расскажите! Спешить некуда. Косохлёст всё равно не выпустит сегодня на чай.
– А шо, хлопче, россказувать? Ну шо? Или не знаешь, шо мы русского воронежского корня?.. Из хутора Собацкого под Калачом? Цэ я из Собацкого. А батько ваш из Новой Криуши… Там рядом… Тато, а тебе дедушка, всегда писáлись Долгов Владимир Арсеньевич. А маму, тебе бабушка, писали до замужа Кравцова Александра Павловна. Чего щэ? По-уличному наших звали Панасковы. Панаски.
– Родители были хорошие?
– Хорошие.
– В чём это выражалось?
– А я знаю это выражение?.. Голодом не сидели… Земля своя. Хлеба багато. Хороше жили. В доме всё було. И картохи, и капуста, и огурцы…
– Да Вы не кулаки были?
– Иди ты! Не кулаки – дураки были. А и то… На дураках свет стоит.
– Плохой свет.
– А разве хороший? Я до си не расцарапаю своим умком, шо ж тогда навертелось. Я уже за мужем жила, в Криуше, як стали сгонять, табунить в колхоз. И кто сгонял? Ну, приезжали уполномоченные. Рукойводители. Ручкой водили. Уполномоченный сидит, як пешка на яйцах. Подсыпать, так, может, хоть курчат высидел бы… А загоняли свои своих! Загоняли кнутом. Загоняли свинцом. Загоняли по колхозам. Загоняли по Сибирям… Перевернулся мир! Вчера этот лодаришка, безграмотник, гулькяй, сатюк, сидяка не желал и куска хлеба поднять со с в о е й земли. Лень да дурь скрутили! Бросал лодырюка, не обихаживал с в о ю землю и как собача с голода скаучал, за одну еду разготов бечь к кулаку. Кулак добрый. Кулак его кормил. Без кулака этот талагай, гуляка подох бы с голоду… Медалька перевернулась, и неучка, лодыряка влез в честь! Кусок лодыря активистиком стал! Вскочили активистики, как дождевые пузыри. Злые, как волки на привязи. И кинулись учить кулака жить. Хозяина учить? Я и под пулей скажу, кулак – золота ком. Кормил всех без разбору. Завистливому паразиту-лодарю не понаравилась его хозяйская удаль. Объявили кулака врагом. Какой же он враг? Трудяга из трудяг! Ломил, як лошадь! Руки в кровавых музлях. Света за работой не видал. Ско-оль поту вливал в своё поле?!
– Ваши чужих внаймы брали?
– Зачем? Своих рук нема?.. Ни одного работника не держали!.. И стали лоботрухи править. Поп-лы-ыл горлопанистый навоз по вешней реке. Залез навоз во власть. Теперь он гыс-по-да-а… Гм… Господа… Из тех же господ, только самый испод… Где партбожок… где секретарёк… где председателишко… где бригадирик, где учётчик… Присосались… Этот кусок лодаря скоренько рассортировал кого куда. Кого в колхоз. Кого в Сибирь. И присмирели… Колхоз катком сплющил всех ровно. Сидят все одинаковые. Все нищие. Все голодные. Все до беспамяти злые… Воровитые… Хо-зя-ва… Да плоха вору пожива, где сам хозяин вор… Чего они добились? Видано ль, чтоб на воронежском чернозёме – лучший в мире! – возрос голод? А активистики добились. Им и это сказалось по плечу. Веками никто этого не мог добиться, а они в считанные год-два уклались. Что же так люди ненавиствовали?
– Эта песенка, ма, до-олгая. Ещё дьяк Висковатый сказал вон тому дяде Ване Грозному, царю, – ткнул я пальцем на свёрнутую в трубку картину в углу, – что «мы, русские, ни в еде, ни в питье не нуждаемся, но друг друга едим и тем сыты бываем». Сказал ого-го-го сколько веков назад. Что же было ждать от наших борзых активистиков?
– А! С дурака масла не набьёшь. И такая хорошая жизня закрутилась в колхозе, такая расхорошая, что взвыли мы от ихней хорошести и завербовались на север на лес. Кого ссылали на север, а мы своей волей…
– Постойте, постойте! Вы что же, были в колхозе? Я что-то такого от Вас раньше не слыхал.
Мама смешалась, покраснела и бросила на меня быстрый тревожный взгляд:
– Да иди ты!.. Наговоришь… Ще посадять…
– За что?!
Мама отмахнулась.
– И слухать не хочу! Были мы в том колхозе, не были – тебе-то какое горе с того? Давай этой беспутный разговор замолчим.
– Почему?
– И что ты присикався с тем колхозом? Надоело вольно ходить по земле? Давай эту пустословку бросим! Иля ты взялся загнать меня за решётку?
– Вы что? Какая решётка? Кто слышит? Дождь с улицы?
– И твой дождь, и стены…
Она что-то недоговаривала. Неясный страх толокся в её глазах, и я отлип с расспросами.
Мы долго молчали.
Наконец она не выдержала молчания, первой заговорила как бы оправдываясь:
– Не понаравилось… Сели да поехали…
– Своей волей? – не удержался я от вопроса.
– Божьей! – сердито выкрикнула она.
– Я и на божью согласен, – уступчиво усмехнулся я. – Только не гоните, ма, так быстро коней. Вы пропустили, как познакомились с отцом, как сошлись.
– Иди ты! – в смущении отмахнулась она. – Что там интересного?.. Ну… Пошла шайка дивок в Нову Криушу. На какой-то праздник. Шагали пишки – девять километрив. Царёхи невелики, коней не подали… Попервах я увидала его в церкви. Пел в хоре с клироса. Белая… – или кремовая? – рубашка, синий галстук, чёрный кустюм… Подкатил коляски на улице. «Пошли на качелях качаться». Никакого слова я ему не ответила, только кивнула и пошла следом. Девка, как верба, где посадят, там и примется… Ну… доска на два человека. Хлопцы становят девчат, кто кому наравится. И там договариваются…
– Раньше Вы вроде вмельк говорили, что катались с ним на карусели…
– Можь, и на карусели… Разь до этих годов всё допомнишь в полной точности?
В печальном укоре мама подняла глаза к портретнице на стене. Оттуда на неё смотрели смущённые молодые она сама и отец с удивлёнными весёлыми листиками ушей. Глаза у него были полны радости.
– Жанишок… сватач набежал хватик… Смола-а… Как подбитый ветром целый час угорело качал, всё жу-жуж-жу-жу-жуж-жу про сватов, пока не согласилась. «Я приду сватать». – «У меня есть мать, батько. Отдадуть – пойду, не отдадуть – на этом прощай». Проводил до околицы… Отстал… Мои подружки Манька Калиничева, Проська Горбылиха так потом про него казали: «На лицо нехороший, а характером хороший». Видали ж только на качелях! Сколько там видали? Когда и успели его характер расковырять, до сегодня не пойму.
– А Вы и тогда красивые были?
– Да себе наравилась. На личность чуть Глеб сшибает, но он худяка. Лицо у меня круглое було, полное. Темно-русая толстая коса падала за пояс… Она и посейчас ниже пояса… Розовая юбка, розовая кофта, белый шарф. Наряжаться люби-ила… Ну, отжили мы лет с восемь, поехали кататься… Север… лес… лесозавод…Батько катал крюком брёвна к пилке… Я стояла на пилке-колесе. Доски шли по полотну. Поперёд меня бракёр вычёркивал негодный край. Доска доходила до меня, я отрезала. Ногой нажмёшь на педальку и доска расхвачена. Хорошее бросаешь в хорошее, брак в брак.
– В Заполярке на какой улице Вы жили?
– На какой улице?.. Зовсим забула… Тилько помню… Там, там, там двор, а кругом вода. Земли и жменю не наберется.
– И что, лесной завод на воде стоял?
– Кто же завод на воду посадит? Стоял-то на земле, а земли не видать. Всё в досках выстлано… В Заполярке ты нашёлся…
– Долго искали?
– Не дольше других… Девять месяцев. Толстыш був. В яслях був ще один Антон, худячок. Придут кормить, няня няне: «Какого Антона пришла мать?» – «Хорошего»… На севере питались мы хорошо.
– А чего ж уехали?
– А-а… – усмехнулась мама. – То полгода темно, то полгода не видно… без света… Полгода ночь, полгода день… Беспорядица… А тут ещё финн под боком замахивается войной… Разонравилось. Снова увербовались теперь аж в Грузию… Сюда…
– И только своей волей?
– Своей! – с вызовом ответила мама.
– А что же не вернулись в Криушу?
Мама грустно покивала головой.
– Чего захотел… – И с натугой улыбнулась. – Криуша дужэ близко…
– А Вам надо через всю страну! С севера на юг! С воды на воду!.. Подальше куда…
– Надальше, надальше да потеплишь… Тут, в Насакиралях, хватали мы лиха полной ложкой. Живуха досталась… Война, голод… Часто и густо без хлеба сидели. Неплохо досталось. Всё батьково улопали. Сменяли в грузинах на кукурузу. И сапоги… и все пальта, и все кустюмы… Я чула, по хороших, богатых домах берегут вещи покойного. Стул его всегда в углу под иконой. Не стало, скажем, батька, как у нас. В праздник подвигают той батьков стул к столу, наливают полный петровский стакан водки, становят напроть батькова стула. И никто на той стул не сядет, никакой запоздалый гостюшка не схватит его стакан. А мы, нищеброды, всё батьково улопали. Будет нам грех великий!
– А может, Боженька ещё простит? Не от сладкой же жизни…
– Да уж куда слаще? Получишь в день кило триста хлеба. На пятерёх! Хочь плачь, хоть смейся. По тонюсенькой пластиночке отхвачу вам… А всё кило Митька бегом в город. За сто рублей. На ту сотнягу возьмёт кило муки. А на киле муки я ведро баланды намешаю. Кинетесь хлебать, друг за дружей военный дозор. Как кто черпнул загодя снизу – ложкой по лбу. Чего со дна скребёшь? На дне все комочки, вся гущина, вся вкуснота! И заплясала драка не драка, но крику до неба. Ты с Глебом гуртом против Митьки. Двох он сразу не сдолеет, отложит на потом. По одному потом подловит, сольёт сдачи… И нащёлкивал вас, и кормил. Большак, старшина наш… Как воскресенье, часто и густо бегала я с ним к грузинам взатемно. Тохали кукурузу. Наравне. Десять лет, а он не отставал. Понятья не знал, как это устать и отстать от матери. А давали мне за день одно кило, а ему полкила кукурузы… И без меня, один тайкома уныривал на заработки. Три раза поесть и пять кочанов домой. И весь дневной прибыток. Кру-уто досталось…
– Ма, а Вы помните Победу?
– А не то! Девяте мая, сорок пятый. Люди гибли тыщами на тыщи. И на – замирились. Объявили Девяте нерабочим. Думаю, надо сбегать на огород, досадю кукурузу. А Аниса Семисынова и каже: не дуракуй, девка, язык твой говорит, а голова и не ведает. Пойшли лучше в город празднувать. А то ночью заберут… Побрали всю свою детворню, поскреблись в город, на базарь. Грошей нема ни граммулечки… Подумали-подумали у яблок на полках и вернулись с пустом. Весь и праздник. Зато вечером обкричались. Кричи не кричи, батька криком разве подымешь? Хотя… Чего ж ото здря языком ляскать? Сколько було… Придёт похоронка, платять пензию. А туточки тебе сам с хронта вертается… Треба ждать… Обида по живому режет… К другим идуть, а наш не… Как Христос, в тридцать три годочка отгорел. Что он ухватил шилом жизни?
– А Маня и того меньше, – под момент сорвался я и спёк рака (покраснел).
Во весь наш разговор я боялся проговориться про Маню.
Ну зачем скользом ковырять болячку?
Но вот само слетело с языка.
И мне кажется, мама уже знает, что я был сегодня у Мани и скрываю, ничего про это не говорю.
– Я, ма… – покаянно валятся ватные мои слова, – к Мане ездил.
– И хорошо, что проведал. А то одной там скучливо.
– Да нету её там! Всего кладбища нету! Понатыкали дурацкого чаю… Плакатики кругом… Даёшь семилеточку в три дня!.. Или в три года… Чёрт их разберёт!
– Не шуми… Я всё знаю… Маня родилась в сорок втором, в пятницу девятнадцатого июня. Кажинный год в этот день ходю к ней. Ни одного рождения не пропустила.
– Знали и молчали?
– А что ж всех булгачить? Что это поменяет?.. Боже, что же происходит? Куда мир идёт? Усач выдушил село. Малахолик Блаженненький додушил остатки. Личный скот кинул под нож, поотхватывал огороды по порожки, все лужочки перепахал. Что же он каменья с Красной площади не повыкинет и не зальёт ненаглядной своей кукурузой? Какие пропадают площадя?.. А то поглядывай из Кремля, как она растёт. Сам бы полол… Целину убил… нигде вольной травинки. Козу некуда вывести… Церква поприщучил… Сломали житьё живым. Дорвались до мёртвых. Сровняли кладбище, забили чаем. Невже с того совхоз озолотится? Да и какой чай на детских косточках? К чему всё идёт?
– К счастливому будущему, ма… Через двадцать лет будете купаться в благах коммунизма!
– Не утонуть бы в тех твоих благах-морях.
– Они не мои. Они коммунякские.
– Охо-хо-о… Включи брехаловку – через край хлобыщет разливанный той радиокоммунизм. Выключишь соловья – тихо, нема коммунизму. И когда ни послухай того соловья – тип! тип!! тип!!! – Мама глянула на приёмничек «Москвич» на подоконнике. – Они что, курят скликають?
– То не тип. То целый Дип! Догоним и перегоним! Лозунг такой. Догоним и перегоним Соединенные Штаты Америки по производству продуктов питания на душу населения! Ну, налетай! Наши и дунули. Раз «разрешён обгон Америки».
– И как?
– Да в Рязани, по газетам, уже догнали вроде по молоку. Бегут ноздря в ноздрю… И догоняли комедно. Хозяйства скупали масло в магазинах и прямиком везли на молокозавод в зачёт уже своего молока. Вроде как сами произвели… И закружились одни и те же ящики с маслом по одному и тому же замкнутому кругу: магазин, колхоз, молокозавод, магазин… Магазин, колхоз, молокозавод, магазин… Фирменный советский ци-и-ирк! И хлынули по Рязании бумажные молочные реки! И даже первым захлебнулся тем «молочком» сам первый секретарь обкома партии Ларионов. Не столько захлебнулся, сколько застрелился. Первый не вынес первым «изобилия». Не вынес, как мир стал хохотать над творцом бумажных молочных океанов.
– Ё-ё-ё!.. Страм якый… Догонять оно, конечно, надо. Но перегонять Боже упаси.
– Почему?
– Видно, как голый зад будет сверкать… Дёргаются из края в край, как неприкаянные в ночи. Кто ходит днём, той не спотыкается… А кто ходит ночью, спотыкается: нету света с ним… Нету…
Мама отрешённо уставилась в окно.
Я немного помолчал и поинтересовался:
– Что новенького на горизонте?
– Да… Каков ни будь грозен день, а вечер настанет. Настал… Дождь посмирнел… Митька прогнал коз в сарай. Треба идти убиратысь.
42
Розы хороши, пока свежи шипы.
Л. ЛеонидовМитрофан ворвался ураганом, аврально затряс ладошками, как птица крыльями, что хотела полететь, но не могла и сдвинуться с места.
– Подъём! Подъём! Подъём, мусьё Лежебокин! – Стукнул кулаком пустое ведро в бок. – Наряд вне очереди, якорь тебя! Бегом за водой!
– Извините, я в некотором роде больной.
– Именно. В некотором роде! Воспаление левой хитрости?
– Правой! – огрызнулся я.
– Пластаться на велике мы здоровы. А принести родной матери ведро натуральной воды – мы неизлечимо больны? Ну чего торчишь, как лом? Топай! Расхаживай ножку! А то мне одному слишком жирно будет. Устал, извилины задымились… Летел с чайного фронта, по пути захватил коз и без передышки дуй на новый фронт! На дровяной!
– На какой?
– На дро-вя-ной, якорь тебя! – Митрофан прокудливо хохотнул. – Ну что задумался, как поросёнок на первом снегу?
Он схватил утюг и побежал к розетке, куражисто напевая:
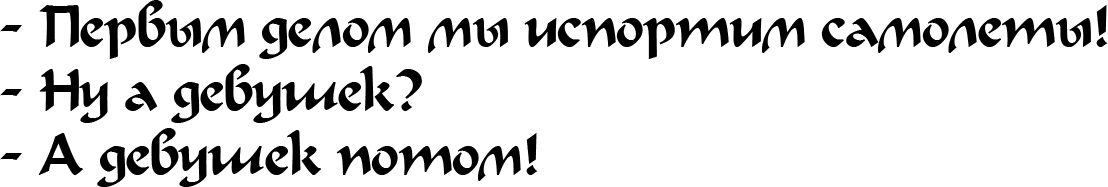
Он воткнул утюг в розетку, кинул одеяло на стол.
Степенно раскладывает свои флотские брючата по одеялке.
– Да знаете ли вы, сударёк, что одно удовольствие с защёлкой равносильно разгрузке втроём вагона дров? – строго экзаменует он меня.
– Это ещё надо посмотреть, что там за девуля…
– Есть такая пассия! – лозунгово выкрикнул Митрофан, вскинув руку топориком, как Ленин на памятниках. – Не переживай. Мне сегодня предстоит исполнить великую миссию. Лохматый сейф взломать![197] Тело в тело – любезное дело!
– Круто разбегаешься… Не перебивай… Надо ещё посмотреть, что там за девушка, какой там вагон и что за дровишки…
– Сильно не переживай якорь тебя! Герлушка на ять и дровишки – соответственно. Не уснёшь! Эх, подопри меня колышком до самого донышка! Размагнитимся в полный рост! Дунечка с мыльного завода, поди, уже ждёт своего колобаху![198] – постучал он себя в грудь. – Так что я сейчас бегу на разгрузку. И мне некогда крутиться с водой. Надо ещё погладиться. Чтоб чин чинарём! Чтоб безотбойно!
– И что, вагон уже подан под разгрузку?
– Подан, дорогуша, подан, якорь тебя! Вчера всю ночь гонял по путям, к месту подлаживал. Наверняка стоит ждёт в боевой готовности номер один. – Щёлкнул по часам на руке. – Опаздываю! Уже простой! Штраф настукивает охеренный. А у меня брючки без стрелок. Авария!.. Чтоб псиной не воняло…
Он оросил себя одеклолоном, набрал в рот этого своего тройного, важно запрокинул голову и, ополоснув зубы, проглотил, проговорив:
– Чтоб благоухал изо всех щелей, со всех флангов! Ну, клара целкин,[199] па-а-аберегись!!! – в исступлении потряс он кулаками.
– А главное… Ничего в отходы! – подхалимно подпустил я. – Замкнутый цикл!
– Так точно, наивный албанец! Безотходное у нас производство. Не мелькай перед глазами, как гюйс.[200] Кыш, кыш за святой водичкой! Не надейся на меня. За водичкой мне бежать некогда. Дровяную битву я не отменю. И не отложу на потомушки. Один дальномудрый дядько как говорил? Не откладывай работу на субботу, а самое сладенькое – встречу на Эльбе! – на старость. Я с ним, ёлки-ебалки, вполне солидарен! Ничего на старость! Ну! Хватит изображать шум морского прибоя.[201] Кыш!
Он помотал мне двумя пальцами.
Я костыль в одну руку, ведро в другую и поскрипел.
После дождя всё кругом развезло.
Медленно, ощупкой обминул я дом, бочком спустился по стёртым каменным ступенькам на дорогу, что одним концом утягивалась широко в город, а другим в центр нашего совхоза.
Внизу, в овраге, жила криница.
Отмыто, свежо смотрели с кручи пальчатые листья каштанов.
Я заглянул с дороги вниз, в сырой мрак, и мурашки побежали по мне. Господи, там не то что руки-ноги – костыль вывихнешь!
Может, пойти к колодцу у столовки?
К колодцу далеко. А к кринице кубарем катись?
Была не была. Не робь!
Я тряхнул звончатым ведром и бочком посунулся по террасной тропке к воде.
– Замри! Замри!
Я остановился.
Из-за ёлки, будто из самой ёлки, из самой сказки, вышла тоненькая, стройненькая девчоночка. Она была такая красивая, что я бы и безо всяких указов замер, увидевши её.
С простодушной улыбкой она подошла ко мне, потянула за дужку.
Я не отпускал. Замри так замри!
– Пальчик, хорошенький, – тихочко погладила она мой большой, наладонный, палец, – отомри, дружочек, на секундушку.
Я приподнял палец.
Она стеснительно взяла ведро. Шепнула:
– Снова замри.
И её белое радостное платье быстрым парашютиком поплыло вниз по винту стёжки.
Зачарованно пялился я в овраг, в темноту, и темнота пятилась перед нею; белый веселый столбик пролетел к кринице, постоял там, пока набегало из трубки в ведро, и заторопился назад.
– Замри! Замри! – бархатно приказал голосок, когда она проходила мимо, и пропала. Понесла воду в дом?
Я стоял лицом к оврагу и не смел повернуться для подглядки.
Я мёртв.
А разве мёртвые вертятся, как сорока на штакетине?
– Отомри, костылик!
Она вернулась неслышно, мягко подпихнула меня в локоть, и я послушно пошёл с нею рядом.
– Воду я поставила у вас на крыльце и бегом сюда… Я что скажу… Этот глазопял… Этот водоплавающий мокрохвост в бескозырке тебе братеник?
– Ну. Из техникума брали. В Евпатории служил. На флоте.
– Этот рыбий корм[202] армию целую отбухал! А в голове у шпрота[203] пустыня!.. Площадка[204] на макушке – хоть футбол гоняй! Осталось там в хозяйстве две волосинки в семь рядов. Старей чёрта! А по нахалке липнет… Какую моду выдумал? Лезет, куда и самой совестно лезть… Скажи, пускай занапрасно не старается этот разваляшка. Ещё фигуряет морской формой. Подумаешь! Меня его ленточки не колышат. Так и скажи. Не надейся, дед, на чужой обед. Уплыла Женечка к покудрявее… Сейчас сюда примчится этот гиббон. Айдаюшки на чай?
По желобку канавы мы спустились немного вниз меж чайных кустов. И остановились.
– Так скажешь?
– Угу.
– Ты настоящий друг, костылик.
Женя скользом коснулась щекой моей щеки и хорошо засмеялась.
Дух во мне занялся.
– Рыжик-костылик, а почему у тебя веснушки? Ласточкины гнёзда разорял?
– Не разорял я ласточкины гнёзда. Веснушки совсем от другого… От рождения…
– Или рискнуть и для начала повериться на слово?
– Я б лично без колебаний поверил.
Женя хлопнула себя по лбу:
– Придётся! Вспомнила… У вас же над окном ласточкино гнездо. А ласточки вьют гнезда, где живут хорошие люди!
– Вот видишь… И вышли мы на хороших… А ты ещё сомневалась. Веснушки со мной с рождения… Без обманства…
– А хочешь, я каждую твою веснушку поцелую?
Я не удержался. Я не хотел, но руки как-то сами обняли её, подпихнули ко мне, и я мёртво вжался в её губы плотно стиснутыми губами.
Она ласково отдёрнулась, тихонько засмеялась.
– Ну кто же, клещ, так целуется?
Я ни слова не мог сказать.
– Верно ведь как… Не давай младенцам целоваться: долго немы будут… Какой же ты запущенный? Даже целоваться не умеешь, чики-брики. Но не тушуйся. Со мной не пропадёшь. Запишем ко мне на курсы молодого гусара?.. Научу!
Ученик я был не такой уж и безнадёжный, и наука была не такая уж неприступная… Не такие бастионы брали!
Светил месяц.
Капли на чаинках горели жемчугами.
Повыше, в сотне шагов от нас, за дорогой, на волейбольной площадке напротив Женина окна кипели танцы.
На голенище[205] ватно пиликал наш Митечка. Сидел непроницаемый. Как сфинкс.
Ни Женя, ни я не любили танцы. Ну какие сладости в этом дрыгоножестве, в этом рукомашестве?
Но Митечкино пиликанье нам не мешало. Вокруг и в нас самих было столько счастья, что его хватило бы всему миру.
– У моей у милки уши,Что раздавленные груши.Лоб крутой, гора горой.Нос загнулся, как пробой.Губы ну как есть ватрушки,Щеки словно две подушкиИ глядят во все глаза,Да не видят ни аза.А как с ней плясать пойдёшь,Так живот лишь надорвешь.Это Юрик мой чудит.
Охохошек знает он вагон и тележку.
Интересно, кто с ним выбежит пострадать?
– В тем краю милёнка бьют,В этим отдаётся.Хорошенько подлеца,Пущай не задается!Это резанула круглявая Саночка Непомнящая, новая симпатия Юрика.
Все танцы хохочут. Даже волейбольные столбы и их единственная верная подружка сетка.
Нет бы Саночке смолчать. Или про что сердечное. А то такую оплеушину в ответ!
Не боись, Юрик за себя постоит!
– Моя милка семь пудов,Аж пугает верблюдóв.От неё все верблюды́.Разбежались кто куды.Ах, так? Получай же!
– Не садися на коленки,Много места на бревне.Ты с другими задаёсся,Интересту мало мне.Нельзя же без конца обносить словами, перекоряться!

