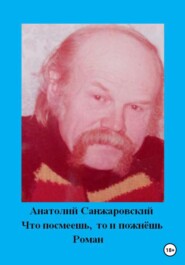 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– Ка-ак впервые? А Лаптево?.. А Ряжск?.. А святцевская эпо́пия?.. А спиридоновская?.. Столькое наворочал в моей кривой житухе! Спрямлял всё… Задал мне трезвону… Ну да вспомни. Вспомни! А!?..
Машина рывком взяла с места.
4
У нарядной, облицованной цветной плиткой, станции грудился народ.
Пошёл, заглядываю старухам в лица.
Не она…
Не она…
Не она…
Всякий раз, когда мама прибегала сюда, вниз, в город – центр села с магазинами в Гнилуше называли городом, – прибегала за хлебом ли, за молоком ли, за какой другой мелочью к столу, она часами выстаивала автобус из Воронежа. А ну нагрянет сынок и – никто не встрене! Как же это так? Нельзя так! Не надо так!
Заявлялся я всегда без доклада, и всякий раз она, виноватая за свою тоску материнскую, за свою старость, за морщины, за верёвочно толстые жилы на разбитых сызмалу тяжким трудом руках, которые то и дело норовила подобрать повыше куда в рукава – а Боже праведный, да за что только не казнит себя без вины старый человек! – всякий раз, виноватая и удивлённая счастьем негаданной встречи, роняла она тепло слёз у автобусных приступок.
И теперь всё то отошло? Отошли встречи? Отошли слёзы у автобуса?
Надо идти домой – боюсь.
Ступнёшь шаг и станешь, задумаешься. А чего задумаешься, и себе не скажешь…
«А что, если…»
По прямушке, через сквер, выскочил я духом на свою Воронежскую улицу с падающими тополями. Молодые частые тополя наперегонки тянулись к солнцу – нависли телами над проездом улицы, того и жди, опрокинется тополиная стена.
«А что, если…»
Раза два падал я в грязь, падал и вскакивал и бежал снова…
«А что, если… Прибегаю… Дома народ, полно чёрного народу?..»
Вылетел я из-за угла – Глеб.
По двору колыхался от барака к раскрытому сараю.
– Гле-еб…
Глеб сиротливо оглянулся.
Вывалились у меня из рук чемодан, портфель; ткнулся я в небритую щёку и заплакал.
– Ну, чего ты? Всё обойдётся с мамой. Всё будет хорошо…
– Хорошо, хорошо… – повторял я, а слёз унять не мог.
Он бережно снял с моих плеч рюкзак и понёс в сенцы.
– Пшенцо приехало… Наш золотой запас… А ты догадчивый. Я не писал тебе, что ваше летнее пшено кончилось. Ты будто из Москвы это увидел и взял… Спасибо, брате…
Глеб вошёл в сарай, и только тут я увидел у него в руках корчажку с мешанкой. Поставил он её на пол – со всех углов, с насестов посыпались к кормежке куры.
– Ну, зверью своему обед дал. – Щепочкой Глеб счистил с пальцев остатки месива, бросил в белую куриную толкотню. – Ни курам, ни поросёнку до вечера ничего не выноси… Пошли в дом.
В нашем баракко с тонкими стенками, засыпанными шлаком, студёно. Гулко звенят-охают под ногами простуженные половицы.
Сунулся я кружкой в ведро, хрустнуло вроде стекла.
Наклонился, вижу: у закраинок лаково поблескивают лопаточки льдинок.
– Да, батенька, пар костей у тебя не сломит. Ты так вместе с тараканами и себя заморозишь. Ты чего такую холодень развёл?
– А-а… Как отвёз в больницу, так ни разу не топил. За день вмёртвую устаю. Приду, упаду… Никакие холода не берут.
Страшно несло от окна. В верхней шибке вместо стекла зеленела сетка. С лета осталась.
– Хотя б газетой прикрыл…
– Вот теперь сам и прикроешь. Конечно, надо б стекло на место поставить. Да где… На погребку отнёс, нечаянно сапожком, – Глеб с иронией покосился на свои сапожищи сорок последнего размера, тяжёлые, в грязи, – нечайно сапожком ступнул, оно и хрусь в мелочь… А мне, – поднял глаза к верху окна, откуда катило зимой, – как-то без разницы. Всё время дует, дует… Не продует. Толстокорый я. Вот было б швах, если б то дуло, то не дуло. Перемен я не перевариваю… Ладно. Довольно трепологии. Давай к столу, а то, – кивнул на цокавший на рукомойнике с зеркальцем будильник, – обед мой кончается.
Выскок Глеб в сенцы. Не притворяя за собой двери, хвать с газа сковороду и на стол.
– Ближе подчаливай… Вот вилка, вот хлеб, вот горчица. Ну, чего не начинаешь? Ждёшь амнистии? Не будет.
– Кто же начинает со второго?
– Я! В моей дярёвне, – кривит в усмешке лицо, – будь добр, кланяйся моим порядушкам. Это я приедь к тебе на Зелёный, там бы всё по-вашему, по-городскому: пей змеиный, из пакета, супчишко да ещё нахваливай до поту. А матушка дярёвня не любит обижать желудки. Лично я предпочитаю сначала мять досхочу курятинку с лучком, что и тебе советую по-братски. А уж потом – останься в желудке место – добавлю ложку какую жидкого.
– Да где ж столько набрать курятины?
– А во-он! – пустил Глеб глаз в окно. – Сколько её по двору бегает! Пока всех порубаешь, уже весна. Опять подсыпай квочек…
Какое-то время мы едим молча.
Глеб подмигнул мне:
– Как говаривал усатый кремлёвский нянчик, что навариш, то и будэш эст. Ешь. Не спи. Замёрзнешь!
– А пугать зачем?
В окно я вижу, как под яблоню, под навес кучками вжимаются уже сытые куры. Утихомирившись, нахохлившись, каждая прячет по одной ноге под крыло. Почему они все, важные, безучастные, стоят на одной ножке? У них что, соревнование, кто дольше простоит на одной ножке? Или кто кого перестоит?
– Послушай, – говорю я Глебу. – А ты почему мне телеграмму не дал? Я б уже давно был у тебя в работниках.
По лицу вижу, Глебу не хочется об этом говорить, да и некогда. Он молча потыкал начатой румяной куриной лодыжкой в суматошно хлопавший на рукомойнике будильник. Но всё же, прожевав, грустно заговорил:
– Что письма, что телеграммы… Поднялась бы скорей… Ты думал, она у нас железная? Не-ет… Забываться стала… Пойдёт на низ, в город. Ходит, ходит по магазинам, вспоминает, чего надо взять, вспоминает – вертается ни с чем. Какая-то напуганная, потерянная. «Вы чего?» – «Я, Глеба, забула, за чим пошла в город». – «За хлебом Вы ходили». Повернётся молча, снова в магазин. А то с месяцок назад… Была у Митьки, сидела день с больной Людкой. Сошла с порожек – круги перед глазами, упала. Соседи подняли, отнесли к Митьке. Отлежалась, пошла домой. Идёт, идёт – не в ту сторону взяла с развилки. Видит, незнакомые дома, свернула. Шла среди улицы. Ка-ак машины не сбили… Хорошо, что было уже поздно, машины не бегали…
5
Залепил, заклеил я газетой окно. Натаскал воды полный чан (колонка во дворе ветеринарки, неблизкий свет). Притаранил из сарая дров, угля.
Затопил.
Вернулся в этот бомж-отель живой дух…
Смотрю, настучал уже мне будильник гарантийный срок, даже с напуском, как я из облздрава.
Дотёр я с кирпичом по-быстрому пол, покидал в сумку поспелей груши и в больницу.
«Постой! Охолонь, хлопче. А если не переправили ещё? Позвони сперва, узнай».
Наискосок, через улицу, маслозаводишко. Из проходной набрал приёмный покой, спросил, привезла ли из Ольшанки такую-то.
«А что это за царевна, – отвечают, – что станут её по грязюке по такой раскатывать из больницы в больницу? Лежит на здоровье в Ольшанке, там и будет до победы».
Вот тебе и обещание!
Ну что ж, сударыня Виринея Гордеевна, играть так играть!
Я в райком.
Только взлетаю на ступеньки – сверху скатывается Митрофан.
Раскис, обрюзг, как старый груздь, небогат ростком… Колобок с одышкой.
– О брательник, якорь тебя! Держи петуха! – весело выкрикивает он.
Никак не могу привыкнуть к его манере здороваться. Просто подать руку он не может. Он отводит её сначала за себя, и уже оттуда с разгона стремительно выбрасывает тебе навстречу красный тяжёлый кулак. Такое первое впечатление, что он непременно чувствительно саданёт тебя в живот, поэтому я инстинктивно дёргаюсь в сторону, и он, довольный, уже у самого моего живота разжимает кулак и ловит мою оробелую руку.
С лета, когда мы виделись в последний раз, лицо у него, мяклое, одутловатое, ещё заметней налилось какой-то нездоровой краской. Кумачом полыхала и открытая пухлая шея. Рубашка была на нём расстёгнута на две верхние пуговицы, и всё равно она тесно давила вверху.
– Ну что? Жизнь всё хуже, а воротник всё ýже?
– Само собой, брателло! – посмеивается он. – Живём же у Бога за дверьми… Не дует… Ты к нам в командировку?
– Да нет… Как вы тут?
– А-а… Как в самолёте. Всех тошнит, а не выйдешь.
– То есть? Так как вы тут?
– Ну-у! Вот так на порожках всё и выкладывай! Вообще-то… всё пучком, нормалёк… А желаешь детали, айда ко мне. – И настоятельней, твёрже добавил: – Без деталей айдайки. О! – он стукнул себя по лбу. – Главное не сказал! Да ты ещё не знаешь, что в нашем долговском кулаке весь район!
– Ты чё куёшь? С горячего перехлёбу?
– А ты подносил?.. Лика – первая ледя района!
– Это как?
– По закону! Накинула хомуток на самого Пендюрина! На первого! А над первым она – первая! С ним в рейхстаге[43] намолачивает. В ранге помощницы. А по факту – он у неё в помощниках. За ней первое слово, кому чего отвесить, кому чего дать, кому чего там намылить, а кому и подождать… Нормальный ход поршня!..[44] О-о-о!
– И как же свертелась эта карусель?
– А уж это чёрт его маму знает!
6
Дважды в месяц Пендюрин выскакивал на своём бугровозе, на райкомовской чёрной «Волге», в обкомовский спецмагазин за едой-питьём, за тряпьём.
Отоварившись, на обратном пути он обычно заскакивал на психодромную автостанцию. И тщательно, с тимуровским рвением выискивал, кому бы срочно помочь.
Вот и на этот раз…
Было прохладновато.
Грустные сентябрьские облака катило к югу.
«Что-то жестковато… А не приискать ли мне на время пути разъездную раскладушечку?»[45] – лениво подумал он, и, не придя ни к какому мнению, привычно свернул на дорогу к автовокзалу, что маячил слева впереди.
Пендюрин подъехал к станции и, не выходя из машины, на вздохе задумчиво запел в ключе лишения привычного:
– Осень наступила, отцвела капуста.До весны увяло половое чувство.Выйду на дорогу, свой кину пестик в лужу:Всё равно до марта он теперь не нужен…Но тут в оконце меж облаками усмехнулось солнце.
В этом Пендюрин увидел вещий знак.
«А может, ещё рано разбрасываться?» – подумал стареющий тимуровец и подошёл к крикливой, суматошной очереди у кассы на Гнилушу.
Лучи солнца опахнули его теплом ещё недавнего лета, и жизнерадостный южный мотивчик завертелся у него в голове:
«Кто-то в сакля мне стучит.– Я сейчас не жду никто!– Это девочка пришел,Он любиться нам принес!»Он тихонько пел, и его усталый взгляд похотливо ползал с коленки на коленку стоявших в очереди молодок.
Наконец Пендюрин наткнулся на пару очаровашек коленок да ещё в комплекте с роскошным «конференц-задом», и Пендюрин примёр взглядом на месте, оцепенел. При этом, однако, не забыл с бескомпромиссной партийной прямотой обсудить накоротке с самим собой злободневный вопроселли: а как эти ножки этой козеба́ки[46] будут смотреться на фоне моих плеч?
Пендюрин склонился к тому, что такое соседство будет лучшим букетом в его жизни, и он державно подошёл и отпустил от себя на волю дежурную запатентованную глупость:
– Барышня! Мне глубоко кажется, у вас ножка отклеилась!
Это донесение было адресовано Лике.
Цыпа гордо хмыкнула, окинув кислым взором обшарпанного и потрёпанного тимуровца, бывшего когда-то юным и при барабане:
– А что, у вас есть клей покрепче?
– Есть такой клей! – готовно выкрикнул Пендюрин.
– А если я сомневаюсь?
– А если я уверен?
– Подарите себе свою уверенность и до свидания.
– Когда свидание?
– Никогда!
– А я назначаю сегодня. Сейчас!.. Побудете третьей?
И, не давая девуле разразиться гневной тирадой на тему «Да за кого вы меня принимаете!?», живо доложил:
– Двое уже есть. Я и машина, – и показал на неприступную чёрную «Волгу» в сторонке. – Мы с нею ищем…
«Волга» всегда производила неотразимое впечатление.
Лика не была исключением.
Не дав договорить Пендюрину, кинула:
– Можете не продолжать. Вашей тачанке повезло!
7
Они едва выжались из городской окраины, как в Пендюрине что-то серьёзно сломалось.
Он сперва держал себя в рамках приличия, попеременно с цепким интересом посматривал то на дорогу, то на девичьи колени.
Раздвоение никогда до добра не доводит, и его интерес принял ярко выраженную однобокость. Он сосредоточил свой глубокий и принципиальный интерес на её божественных коленочках.
– Так мы можем куда-нибудь не туда заехать, – осторожно уведомила она.
Он знающе улыбнулся и духоподъёмно запел в треть голоса:
– Пароход упёрся в берег,Капитан кричит: «Впер-рёд!»Как такому раздолбаюДоверяют пароход?– Вот именно! – довольно подкрикнула Лика.
– Нах! – усмехнулся Пендюрин и пустил свою чёрную тележку ещё круче.
– Вы не слышите? – забеспокоилась Лика. – Так мы можем куда-нибудь не туда ж залететь!
– Мне глубоко кажется, мы летим только туда! – ералашно выкрикнул Пендюрин, не отрывая хваткого взгляда от её коленей. – И чем быстрей, тем лучшей! У нас нет времени на медленный танец!
– А я вот сомневаюсь… Ещё вляпаетесь в аварию с железом[47]. Для вежливого разнообразия вы хоть бы изредка поглядывали и на дорогу.
– Много чести этой дороге! Что, я её не видел? Лично мне дороже этот волшебный Млечный путь! – и он накрыл потной ладонью её коленку, так сжал, что где-то что-то, кажется, тревожно хрустнуло.
– Извините, у вас домик не поехал?
– Было б странно, если б при встрече с вами не поехал…
– Будьте благоразумны… Возьмите себя в руки…
– Не могу. У меня и так все руки заняты.
– Да перестаньте вы тайфунить! Распустили цапалки…. Вы что, со мной в одном танке горели?
– Это упущение исправимо. За честь сочту сгореть вместе с вами!
– Хорошо говорите… Не хватает вам только броневика… Ой, ну… Не притесняйте, пожалуйста, мою коленку. Она вам ничего плохого не сделала… Ну не жмите же так! Неандерталец! Как вы смеете? Да что вы делаете?
– Мне глубоко кажется, я ничего не делаю…
– Но вы держите меня за коленку. И больно ведь!
«Живот на живот и всё заживёт!» – хотел успокоить он, но слова почему-то выбежали другие:
– Я тоже так думаю… Да, держу… Тут двух мнений быть не может… Но я, извините, ничего не могу поделать. Заклинило… Это у меня от столкновения с прекрасным… Я не могу разжать пальцы. Проклятый радик![48].. Знаете, есть такие свиноподобные собаки… Как схватит и не отпустит мерзавка, пока кость не перекусит!
– Я слыхала про разных собак. Но на таких не нарывалась… Ой, тише!.. Да вы что, махнутый? Вы сейчас станцуете леньку-еньку![49] Куда вы так летите, не глядя на дорогу?
Он сделал вид, что не слышал её и угрозливо загудел в пенье сквозь зубы:
– Гаи, гаи, м…моя звезда…
– У вас же машина для перехода с одного света в другой! – сердито прокричала она. – Куда вы так несётесь?
– Действительно, куда… – меланхолично бормотнул Пендюрин и на скучном вздохе пояснил: – Куда послал нас великий Ильич, туда и летим. Он ведь ясно сказал: «В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской революции». Летим к созвучной…
– К-куда-а?
– К созвучной… – ещё меланхоличней проговорил Пендюрин и на полном скаку крутанул руль влево.
Машина сорвалась с трассы на тоненький рукавчик, отбегавший сквозь сталинскую лесополосу на открытое поле.
Через какое-то мгновение «Волга» воткнулась в соломенную гору и приглохла.
– Вот мы, радость моя всенародная, и приехали к родимой револ-люции! – прохрипел Пендюрин, судорожно подпихивая под себя хрусткое молодое тело и ласково в пенье грозя:
– Изведу, замучаю,Как Пол пот[50] Кампучию!– Я, как умная Маша, доверилась вам! А вы? Что вы делаете с беззащитной девушкой? Орангутангел! Что ж вы вытворяете напару со своим руководящим органом? – кричала снизу Лика, круче сжимая скрещённые ноги. – Оба ух и наглюхи!.. Полканы!.. Тарзаны!.. Муджахеды!..
Кричала Лика без энтузиазма, просто для приличия. Высокий момент обязывал. Негоже приличной женщине без боя в первые же минуты знакомства сдавать в бесплатную аренду дорогие родные достопримечательности. А потому кричала не слишком громко, чтоб не привлечь внимание проезжающих и не отпугнуть своей невоспитанностью и грубостью орденоносного вождя краснокожих. Пусть знает, что и мы можем за себя и постоять, и полежать!
Пендюрин это прекрасно чувствовал и твёрдо ломил свою выстраданную в жестоких муках партлинию:
– Дрожит бедро…[51] М-моя красавушка… Витаминушка Цэ… Да кончай ты этот брыкастый дрожемент…[52] Эх! Замы́каться б с тобой, марьяжушка, куда-нибудь на Канарики!.. Будут и Канарики с ненаглядными Багамиками!.. Будут!.. А пока… Не бойся, дуроська… Не бойся, святая моя первочка…[53] Закон абрека Болта-Мариотта… Честное партийное! Не трону! Ей-богу! Ёкс-мопс! Да ей же Богу! Да честное ж партийное!!.. Да!!!..
– Да знаю я ваше честное и особенно партийное! Какой-то махновец!.. Бельмандюк!.. Ну-ка!.. Ну!.. Дуболомное парткомарьё!.. С чужой коняги среди грязи ды-ыл-лой!
Лика осторожно попробовала скинуть его с себя – напрасные хлопоты. Энцефалитным клещом впился!
Это ей нравилось.
Но надо и не забывать подавать признаки борьбы. Этикет обязывает. Иначе что он после подумает о ней? Что она ударница лёгкого поведения?.. Сдаваться надо с гордым достоинством. Оптимистически! С верой в свою победу!
– Ужастик!.. Кузнец счастья!.. Я кому сказала, джигит? Ды-ыл-лой! В квадрате!
– Ах, леди, как вы запели[54]… Мне глубоко кажется, вы недобросовестно информируете общественность, муси-лямпампуси… Лежите вы не в грязи, а на бархате откидного кресла. Пятизвёздный лепрозорий![55] Ленин с нами![56] Чего ещё надо для полного счастья!? И потом… Какая ж вы чужая? Была чужая – стала родная!
– И когда ж вы породнились со мной?
– Не помню… С незапамятных времён!
– Ну… Если по-родственному… Где уж нам уж выйтить замуж, я уж так уж вам уж… – и мысленно: – «дам уж»…
С баловливым зовущим смешком она чуть развела ноги.
«Сейчас я ей впендюрю ужа!» – хорохористо подумал Пендюрин и широко посветлел лицом, но скоро стал кисло морщиться.
– У вас что, там кактусы?
– Зашлите партгосконтроль. Проверьте…
Он привстал и увидел, что радостно курчавые золотистые врата рая были прикрыты кукишем. Выходит, что он, Пендюрин, всё своё красноголовое счастье со всей партийной принципиальной ответственностью впихивал в синеватый острющий коготок её большого пальца? Так жестоко посмеяться над первым лицом в районе?! Над самим генеральным чабаном?![57]
Он онемело уставился на неё и не мог ни слова сказать.
Вот так дебютик! Вот так мочиловка! Вот так бенц!
Она ядовито засмеялась и с ласковой укоризной попеняла:
– Шофёры! Не вам ли сказано: «Бойтесь тех мест, откуда выбегают дети!»
Она не стала больше делать вид, что не знает, кто с нею, и дурашливо выкрикнула:
– Ну что, дорогой партайгеноссе неувядаемый Владлен Карлович! Вы убедились, что если низы не захотят, то верхи ни фигушки не смогут!?
Он тоже кинул открытые карты на стол:
– Ты права, Лика. Диалектика!
На радостях Лика уважительно взяла за уши Пендюрина, наклонила к себе и вскользь поцеловала в щёку:
– Вот мы и познакомились!
– Поступило предложение обмыть наше знакомство, – сказал Пендюрин.
– Обмыть! Обмыть! – захлопала в худые ладошки Лика – Чтоб чистенькое было!
И побежала за скирд.
8
Бежать ей пришлось долго. Потому что скирд горбился на полстадиона. И пока забежала за него, было чуть не пролила сахарок.
Но всё обошлось, и к Пендюрину она возвращалась в добром расположении духа.
Она весело обошла машину.
Однако Пендюрин почему-то так и не попался ей на этом ответственном отрезке жизненного пути.
– Глуп Глупыч! Ау-у-у-у!!! – повыла она на все стороны.
Но и это не помогло.
От её воя Пендюрин не появился.
– Глу-у-упов! – строго позвала она.
– На своём боевом посту! – послышался откуда-то сверху его торжественный голос.
Она подняла голову и увидела Пендюрина на краю скирда. Пендюрин увешал себя венком домашней колбасы, как портупеей. С плеча на бок, наискосок. В одной руке бутылка грузинского коньяка, а другая кончиками пальцев касалась виска. Служу Даме!
– Как вы туда взлетели?! – изумилась она.
– На крыльях ваших чар! – не опуская руку от виска, торжественно отрапортовал Пендюрин.
Он подал ей конец слеги, что была прислонена к скирду.
– Пожалуйте, ледя, отмечать наше знакомство на соломенных небесах! Предлагаю такое вот муроприятие.
Лика уцепилась за слегу, и он быстренько встащил её наверх к себе.
Они вырыли глубокое и широкое гнёздышко, весело плюхнулись в него и заворковали голубками.
– Пьём за знакомство! – Пендюрин поднял воображаемый бокал. – Говорят, каждая женщина должна быть Евой, умеющей создавать свой маленький рай вокруг себя. Пожелаем молодой хозяйке создать, – он обвёл взглядом соломенное, духовитое гнёздышко, – создать в новом доме рай: уют, тепло, покой, атмосферу любви, дружелюбия и жизнерадостности. Женщина – хранительница домашнего очага, и это её прямая забота. За хозяйку, за её тёплые, заботливые руки, за то, чтобы этот дом радовал наши сердца!
Лика не осталась внакладе.
– Сдвинем наши бокалы за дорогого Владлена Карловича, за того волшебника, который старается изо всех сил делать нашу жизнь из так себе и не по себе в ничего себе и даже в о-го-го себе. За здоровье милого друга! Ура!
Они чокнулись, и Пендюрин галантно подал ей бутылку коньяка:
– Играй горниста!
Не чинясь, она отпила прямо из горлышка несколько затяжных, колымских глотков и уже трудно подала бутылку назад.
Пендюрин не мог обойти себя, соснул пару глотков и повелел:
– А закусывать будем мной! – и потряс на себе портупейную колбасу. – Экзотики будет полный чувал! Только, чур, к портупее руками не прикасаться. И насквозь не прогрызать. Чтоб домашний венок не упал с плеча.
Они с хохотом рвали вкусную портупею, не забывая потесней прижиматься друг к другу. Коньяк добросовестно делал своё хулиганкино дело.
Пендюрину же казалось слишком долгим это предисловие. Он в нетерпении подторапливал:
– Всё! Кончаем грызть меня! Надо чего-нибудь оставить и на потом. Наливаем! Радостинка, ваш бокал!
Лика поднесла воображаемый бокал.
– Держим ровней, сударушка… Та-ак… Слушаем новый тост… Гарем султана находился в пяти километрах от дворца. Каждый день султан посылал своего слугу за девушкой. Султан дожил до ста лет, а слуга умер в тридцать. Мораль… Не женщины убивают нас, а беготня за ними! Так выпьем же за то, чтобы не мы бегали за женщинами, а они за нами! Ведь женщины, как считает наука, гораздо выносливее мужчин и живут значительно дольше!
Лика радостно покивала:
– Всё верно. Было сказано когда-то мудрецом: берегись козла спереди, лошади сзади, а женщину сверху. Ибо, если зазеваешься, она сядет к тебе на шею. Мужчины, если у вас остеохондроз шеи, не запускайте его, лечите. А самое главное, всё же берегите зрение. Ваша зоркость на страже границ личного суверенитета!.. Дорогой! Я поднимаю бокал за то, чтобы тебя посадили в сто твоих лет – за изнасилование с извращением!
– Спасибо! Спасибо, родимушка! Буду стараться! Честное… партийное…
Он протянул ей бутылку, но она как-то вяло махнула ручкой, мол, я мимо.
– Я тоже мимо, – осоловело качнулся он, всё же помня, что лез он на скирд не напиваться. – Армянский тост. Мне глубоко кажется, было это очень давно, когда горы Армении были ещё выше, чем сейчас. У скалы стоял обнажённый Ашот. На его голове была шляпа. К Ашоту подошла первобытная обнажённая женщина. Ашот прикрыл шляпой низ живота. Женщина сначала убрала одну руку Ашота, потом другую. Шляпа продолжала прикрывать низ живота. Так выпьем же за силу, которая удерживала шляпу!
Они чокнулись, но выпить не успели.
Нетерпение подожгло Пендюрина и понесло.
– Не бойся… не трону… Честное ж… партийное ж… – по инерции занудно заскулил он, вероломно подгребая её под себя.
– Не верю! – по-станиславски прочно крикнула она. – Тост за что был? Вы-пьем!.. Сначала надо выпить. А ты что делаешь?
– Ну?.. Чего ты?.. Неужели я не по-русски говорю? Ну не трону ж… Да ну ей-богушки!
– И глупо! – вдруг засмеялась она, инстинктивно обхватывая и прижимая к себе просторные пендюринские плечи.
Когда они проснулись, была уже ночь.
Тёплая, уютная сентябрьская ночь.
Пахло хлебом, свежевспаханной землёй.
Вдали, по трассе, блуждали редкие неприкаянные огни машин.
Пендюрин потянулся, вскинул высоко руки.
И тут он увидел, что так и спал, обвитый изъеденной колбасной портупеей.



