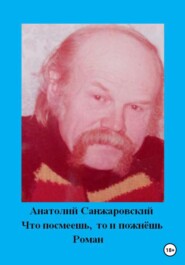 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– Но ведь утренний поцелуй и письмо – лишь жалкий айсберг! – выкрикнул Васюган. Жабье его лицо пошло пятнами. – Вы что, не допускаете, что они встречаются вечерами? И далеко не при её марксах?[33] И что у них не бывает ничего такого?
– А вот за такое ответите! – шатнулась Валентина в сторону Васюгана и резко повернулась к Конскому: – Вызывайте сюда врача! Пусть посмотрит меня и скажет, было ли у меня такое напару с этаким!
Тут вскочил Трещенков.
– Врач уже прибыл! – и сажает себя кулаком в грудь. – Я врач! Я готов осмотреть, где что скажут. Готовность номер один!
Конский махнул ему рукой.
– Садись, рёхнутый! Ты особо не морщь коленки[34]… Не пойму… Или у тебя в мозгах запоринг?.. Не паясничай! Прикрой свою ржавую калитку… Извини, у тебя в заднице есть резьба?
– Как-то не замечал, – замялся пучешарый Трещенков, опускаясь на свой стул.
– Вишь, горе какое. Такой молодой, а уже сорвали!.. Хоть тыпо диплому и пинцет[35], да не смотреть тебе… Всего-то ты лишь ухом в горло и в нос!.. Или как там?.. Зубной, что ли… Конечно, я не собираюсь превращать свой кабинет в кабинет работника органов.[36] Еще не хватало установить здесь трон на раскоряку…[37] Не бюро, а какой-то психодром!.. Я хочу понять, что у нас сегодня за бюро?
– Я вам помогу, – сказала Валентина. – Васюган прифантазировал себе жуткую историю с растлением. И теперь навязывает эту историю всему бюро. Спросите, на что ему эта глупь? А чтоб выкинуть из газеты Антошу. Сам Васюган до редакции подвизался у папы в институте каким-то младшим… Есть ли у него хоть институтский поплавок? Не знаю… Писал в институтскую стенновку… И вдруг выплыл в областной молодёжной газете. Васюган смертно ненавидит тех, кто в работе способней него. Он давил, давил, давил Антошу. Без конца браковал его материалы. У Антоши лопнуло терпение. И одну забракованную свою статью Антон передал по телефону в «Комсомолку». Вот эту!
Она достала из сумочки газету, аккуратно развернула и белым куполком опустила её на стол.
Пузатистый Дуфуня как-то кисло глянул на газету и побагровел.
– Нет, это полный обалдайс! Слушайте, девушка! Не слишком ли много вы себе позволяете?! Что вы тут нас учите? Я понимаю, что вы слишком много, понимаешь, понимаете! Не хватит ли тут пуржить? Ну вам ли судить о профессиональных качествах редактора? Ваша история с «Комсомолкой» – чистый домысел! И что вы нам навязываете нелепую байку со статьёй Антона в «Комсомолке»? И мало ль чего там печатает «Комсомолка»? Печатает, ну и пускай печатает на здоровье. Мы не возражаем… Вы тут самая молодая, а пришла без зова и взбулгачила всех членов бюро! Понимаешь! Кого вызвали на бюро, – Дуфуня скользом глянул на меня, – рта и разу не открыл. А кого не вызывали – рта не закрывает! Ну и молодёжь пошла! Девушка! Выйдите, пожалуйста, отсюда. Без вас как-нибудь решим судьбу вашего парня… За дверью подождите… Ну всех членов бюро взбулгачила!
– Значит, вы с Васюганом заодно? – положила Валя руки на бока. – Значит, никакая правда вам не нужна?
– Идите… Идите со своей правдой… Всему бюро надоели…
– Я не знаю, какие вы члены, но чёрных жеребцов среди вас предостаточно!
– Девушка! Вы где находитесь?! Это не психарка, а бюро обкома! За такое поведение я вас выкину из комсомола!
– А я выкину вас из партии и из этого обкомовского кресла! Не вам вершить судьбы молодых! В грязи слишком глубоко сидите! Обрюхатили её, – Валентина ткнула в секретаршу Конского, вела протокол бюро – и строите из себя святого борца за коммунизм!? А ребёночку-то в ней уже шесть месяцев…
Секретарша заплакала:
– Валя! Ты зачем это сказала? Я ж просто как подруга подруге… Просто так сказала…
– А я, Люда, тоже просто так сказала… Не за деньги… Допекли…Пускай всё бюро знает, какой у них вождяра!
Людмила упала в обмороке на пол.
– Нашатырь! Нашатырь!
Нашатырь нашёлся тут же. В шкафу.
Поднесли ватку с нашатырём – Людмила очнулась.
Загремели отодвигаемые стулья.
Не до бюро.
Рохлец Конский трудно наклонился к сидевшей на стуле Людмиле:
– Благонравова! Откуда ты знаешь эту ромашку?
– Да как же мне её не знать… С пятого класса дружим… Она мне ровесница. Из-за болезни в девятом я взяла на год академический отпуск…
– Сама печатала повестку дня. Что же не сказала про эту неизгладимую розочку?[38]
– Да кто же думал, что она придёт?
Я не знал, что мне делать. Уходить? Без решёнки вопроса? Ждать? Чего ждать?
Валя взяла меня под руку.
– Айдатушки из этого коммунального сюра.
Повернулась на ходу и бросила, ни к кому не обращаясь отдельно:
– Тронете моего Тони – не обрадуетесь!
7
Через час я был в научно-исследовательском институте у отца Валентины.
Его холодность, трудно подавляемая неприязнь били по моему самолюбию, но я его понимал. А на что я мог рассчитывать после такого скандала? На отеческую ласку? Уж ладно и то, что хоть снизошёл до первой встречи со мной.
Я рассказал про бюро, поклялся, что ничего худого не было у нас с Валентиной.
– Не было, ну и не было… И на том спасибо, драный сынок…
– Я чувствую, вы не верите…
– Что из того, верю… не верю? Раз пустил ветры, то штаны уже не помогут…
– Никаких ветров я не пускал… Тут Васюган постарался.
– С какой стати?
– Он всё жучил меня…Забраковал мою приличную статью, не дал в нашей газете. А я ту забраковку и опубликуй вчера в «Комсомолке». Ветры и взыграли…
– Гнусь эти бурильщики… На высылке в Воркуте насмотрелся я, репрессированный, на эту публику. Думал, отпустила Воркута, всё, сгинут они с моих глаз. А… Сидел этот мениск[39] Васюган… бугринка на равнинке, круглый нуляк… Никаких признаков творческий жизни не подавал. Всё приплясывал перед институтской стенгазетой да постукивал… – поднял он палец кверху. – Тук-тук, я ваш друг! Достучался вот до областной молодёжки… Достучится этот нихераська и до самого комитета глубокого бурения… В какую грязь дочку втоптал… Вишь, от катящегося грязного камня какие куски отваливаются?.. Что ты собираешься дальше делать?
– А жить. По горячему желанию Васюгана из газеты я не уйду. Дело принципа… А дальше… Что бы Вы ответили, попроси я у Вас руки Валентины?
– Не рановато ли? Ей ещё полгода надо… Школу кончить… И раньше третьего курса – никакого замужества! Сначала надо хоть немного укрепиться в жизни. Любишь – будешь ждать! Насчёт Васюгана… Я бы посоветовал уйти от него. Это ничевошество станет тебе мстить… Вечные подсидки… Подальше от грязи – чище будешь! И вообще я бы посоветовал тебе уехать из Светодара.
– Уехать? Но…
– Никаких но. Это мои условия. Поговорим через три года.
Я уехал в Москву.
Перебивался случайной газетной подёнщиной. Без московской прописки кто ж возьмёт тебя в штат редакции?
Я снимал койку в ветхом деревенском доме у одинокой больной старушки в Бутове, сразу за кольцевой.
Валя была уже на втором курсе, когда умер отец. Сердце. Хватило его лишь на полвека. Сказалась долгая жизнь репрессированного в Воркуте.
Месяца через три после похорон приезжаю я к Вале, а мать её, увядающая, но всё ещё с рельефной фигурой, в подковырке и спроси:
– Частые письма, одна-две встречи в месяц… Не надоело? Не собираетесь ли вы, ромева,[40] быть вечным женихом?
– Вот перейдёт Валентина на третий курс…
– А почему у вас такое условие?
– Да не моё, а вашего благоверика Нифонта Кириллыча. Он поставил условие: вот будет Валентина на третьем курсе, тогда и…
– Ахти мнеченьки!.. О Господи! Нашли какого дуралейку слушать! Один дурак послушался другого. Какая несурядица! Вы б спросили у него, сколько мне было, когда я стала его женой. Шестнадцать! А Вале уже было семнадцать. Не к тому человеку вы шатнулись на серьёзный разговор. Не к тому! Да приди ко мне, в то же лето, после выпускного, и свертели б свадьбу!
Через месяц мы расписались с Валентиной.
В Светодаре я снова прилип к своей газете.
К той поре Васюганом там уже и не пахло. Он окончательно и полностью внедрился в святую работу Коммунистического Государства Будущего. Тук-тук-тук! Я ваш вечный друг!
Вдруг из Москвы нагрянула строгая бумага. Строжайше предписывалось мне получить квартиру в доме-новостройке в Москве!
И всё это по воле старушки, у которой я когда-то снимал койку.
Старушка была единственной дочкой у расстрелянных репрессированных родителей. Их расстреляли только за то, что отец сказал, а мать подпела, что у нас строителям мало платят, а на Западе хорошо платят. Они были строители.
Старушка завещала мне свою халупку, без слезы не взглянешь. Халупка гнила в черте столицы. Вскоре после смерти старушки домок её пошёл под снос.
Вот так по завещанию мне выпала новая квартира в Москве.
В каком кино такое увидишь?
И мы с Валентиной переехали в Москву.
Глава третья
Зачем в люди по печаль, коли дома плачут?
В ветреный день нет покоя, в озабоченный день нет сна.
1
Грохоча коваными сапогами, по вагону тяжело семенила проводница. Мятым, сырым со сна шумела голосом:
– Ряжск!.. Ряжск!.. Ряжск!.. Никто у меня не хочет проспать Ряжск? – И тише, себе одной: – Вот поперёчная! Сама проспала…
В конце вагона не то пожаловалась кому, не то спросила себя:
– А ведь лежал тут один до Ряжска?
– Стрянулась! Да он уже далече. Палкой не докинешь… Уже, поди, дома у сестре чёртову кровь со́дит!
– Так-то оно ловчее, – успокаиваясь, согласилась проводница и заколыхалась назад, к своему купе, зябко поводя просторными плечами и кутаясь в платок.
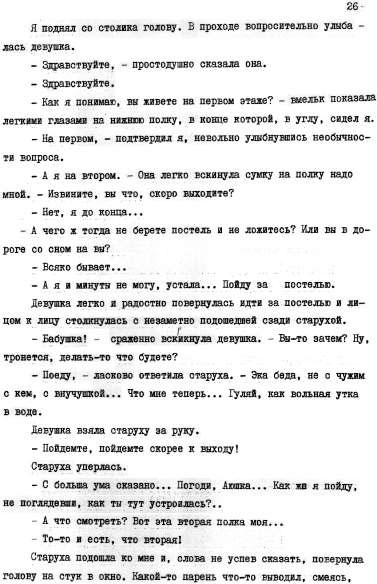
Роман «Что посмеешь, то и пожнёшь» Страница рукописи. Черновик.
От двери потянуло свежаком.
Топот. Голоса:
– Серёж! Гнездись тут!
– Дальшь, ма, дальшь! Это ещё не наши места.
– Сядем – наши будут.
– А придут с билетами? Что тогда?
– Там война план скажа. А покудушки садись.
Легло молчание.
Но уже через минуту откуда-то издали заспешили молодые торопливые шаги.
Звуки шагов росли, росли, росли…
Оборвались где-то совсем возле.
Я поднял со столика голову.
В проходе вопросительно улыбалась девушка.
– Здравствуйте, – простодушно поклонилась она.
– Здравствуйте.
– Как я понимаю, вы живёте на первом этаже? – вмельк показала лёгкими глазами на нижнюю полку, в конце которой, в углу, сидел я.
– На первом, – подтвердил я и невольно улыбнулся необычности вопроса.
– А я на втором. – Она легко вскинула сумку на полку надо мной. – Извините. Вы что, скоро выходите?
– Нет. Я до конца…
– А чего ж тогда не берёте постель и не ложитесь? Или вы в дороге со сном на вы?
– Всяко бывает…
– А я не могу. Устала… Пойду за постелью.
Легко и радостно девушка повернулась идти за постелью и лицом к лицу столкнулась с незаметно подошедшей сзади старухой.
– Бабушка! – сражённо вскрикнула девушка. – Вы-то зачем? Ну, тронется. Делать-то что будете?
– Поеду, – ласково ответила старуха. – Эка беда! Не с чужим с кем, с внучушкой… Что мне теперь… Гуляй, как вольная утка в воде.
Девушка взяла старуху за руку.
– Пойдёмте. Пойдёмте скорее на выход!
Старуха упёрлась.
– С больша ума сказано… Погоди, аюшка… Как же я пойду, не поглядевши, как ты тут состроилась?
– А что смотреть? Вот эта вторая полка моя.
– То-то, другонька, и есть, что вторая!
Старуха подошла ко мне и, слова не успев сказать, повернула голову на стук в окно.
Какой-то парень что-то выводил, смеясь, пальцем на стекле.
Старуха с досадой махнула на него.
– Ты-то, верченый провожальщик, что? Дороо́гой, дружа, надо было говорить! А не для чего теперище на пальцах плантовать.
И, отвернувшись от окна, теплея лицом, просительно обратилась ко мне:
– Мил человек, любезна душа… Ежли я вас очень попрошу… Уважьте старуху, учтите моё подстарелое женское положение…
Старуха, косясь на девушку, наклонилась ко мне, видимо, лишь за тем, чтобы девушка не слышала её слов.
Лицо старухи показалось мне как будто несколько знакомо. Я стал собранней всматриваться в неё.
И лицо, и голос вроде знакомы. Где я её мог видеть? Когда? Интересно, а я ей ничего не говорю? Наверно, ничего. Иначе разве б она смолчала?
– Мил человек, – зашептала старуха. – Внучушка моя не в спокое спит, кобырнуться может с верхов. Поменяйтесь, пожалуйста, с нею местами…
Я согласился.
– Бабушка! – с укоризной всплеснула руками девушка.
– Не бабушкай! Высватала тебе царску местность внизу, спи лиха сна не знай… С ясной душенькой теперь можно и идтить…
Поклонившись мне со словами благодарности, старуха приняла протянутую внучкой руку, и они заторопились к выходу.
Едва они отошли, сунул я сумку молодой попутчицы в рундук, снял ей матрас с верхотуры, а сам лёг на её полку, в головы – кулак.
2
Утром, ещё только расступилась ночь, был я в облздраве.
Ни чемодан, ни портфель, ни рюкзак с пшеном и колбасой в камеру на вокзале сдавать я не стал. Очередина! И побрёл под дождём со снегом по городу со всем своим богатством.
Уже тут, у угла на развале, подкупил я в полупустой портфель свежих помидоров, из последних.
Вваливаюсь как есть при всём при своём хозяйстве в приёмную с красно-кровавыми по полу коврами дорогими. Шапку с головы, оглядываюсь.
Стол. Телефон. Проводок чёрными завитушками льётся, покачиваясь, к пухлянке секретарше.
Секретарша ноль на меня почтения. Знай грохочет в трубку.
Снял я с плеч рюкзак. Стою.
Пошёл я оттаивать.
Лужицу подо мною налило. Будто сам потёк.
Присутствие и вовсе от меня отворотилось.
Села секретарша в хрустком кожаном кресле квадратной спиной ко мне, в трубку со смехом:
– Штучка твоя на уровне! Клевяцкая. Но, мать, извини, отпустила уже ма-а-аленькую бородку. Брить пора. Вот мой вчера приволок! Кинешь Буланчикову на сон грядущий – ржачку гарантирую! Да, да. Слушай… Начальник, значит, интеллигентно послал на три буквы подчиненного. Тот, обиженный, как заяц, бегом жаловаться в партком. Начальника вызвали, указали на грубость. Начальник снова вызывает подчиненного: «Я тебя куда посылал? А ты куда пошёл?» Ржёшь?.. Говоришь, аж матка в трусишки провалилась! То-то! Где наше не пропадало… Выдаю ещё… Замужнему женатику… Да, да, за-муж-не-му!.. Почему называю мужика замужним? Не женатым же называть. Мужики пошли хилей уже малого пукёныша, беспомощные, беззащитные. Именно они выходят замуж, а не мы. Баба нынче и заработает, и за семью где хошь и постоит, и доблестно полежит! И дома она герой – за бабьей спиной вольго-отно они разжились! Кобелянты вообразили, что они сильный пол. Но мы-то с тобой знаем, кто на самом деле сильный пол-потолок. Ну, не заставляй меня философию размазывать. Значит, замужнему мужику позвонила тайная левая дамуля – понимаешь меня, да? – и говорит, что она переехала на новую квартиру и что у неё новый телефон. Кнурик[41] записал пальцем номер на стекле – его дура, в просторечии жона, в последнем десятилетии окна не мыла. Не мыла, не мыла, а тут возьми да и помой! Он…
Лопнула у меня терпелка, саданул я ребром ладони по рычажкам.
Жалобное пиканье, частое, надсадное, закапало из трубки.
– Да вы где находитесь? – взвилась мамзелиха, швырнув трубку на телефон и подперев себя с крутых боков мячами-кулачищами.
– Где и вы.
– Как ведёте-то себя?
– Как уж заставляете. Если думаете, что я за тыщу вёрст пёрся слушать ваши анекдоты, ошибаетесь. К заведующему мне!
– Заведующего нет. На сессии… Но вы не отчаивайтесь, – неожиданно как-то быстро переменившись, вроде участливо обронила она. – Я провожу вас к первому заму. Вещи пускай тут… Пойдёмте.
Жестом она пригласила следовать за ней. Первой вышла и уже из коридора держала настежь распахнутой дверь, ожидая, покуда не пройду я.
Стыд за выходку с телефоном накрыл меня.
Я смешался.
Было неловко идти рядом, я приотстал. Всё не видеть её глаз…
Вышагивая с опущенной головой следом, прикидывал, с чего начать извинения, как вдруг говорит она в приоткрытую дверь, что была по соседству с приёмной:
– Виринея Гордеевна! Тут товарищ… Примете?
– Что за вопрос!
Маленькая чопорная женщина с гладко причёсанными волосами вышла из-за заваленного грудами бумаг стола, энергично здороваясь, дёрнула за руку книзу, предложила сесть и села сама.
– Я вся внимание. Пожалуйста.
– Позвольте узнать, как ваше самочувствие?
В ответ она усмехнулась дряблыми, в утренней спешке не прикрытыми пудрой уголками тонкого рта, с наслаждением выпрямилась в кресле с сине-серыми вытертыми подлокотниками.
– А разве мой вид вызывает беспокойство? Надеюсь, не в этом вся важность дела?
– Отнюдь.
Ей нравилась её тонкая, еле уловимая ирония, с которой она просто изящно уходила от прямого ответа, уходила, оставляя чувствительную царапину на моём самолюбии. Опытный ум не мог не сказать ей этого.
– И всё же, как самочувствие? – повторил я глуше, настороженней.
– Можно подумать, – со смешанным чувством отвечала она, – что вы только за тем и пришли, чтоб справиться о моём самочувствии.
– Представьте.
– Спешу успокоить. Отличное! – Сухими ладошками она пристукнула по краям стола. – Бессонницей не страдаю.
– Вот только поэтому сегодняшнюю ночь в поезде я провёл без сна. Хотел было сразу к районному руководству. Потом решил: ан нет, зайду сперва порадую облздрав.
– У вас жалоба? Из какой вы редакции?
– Не из редакции я вовсе… Позавчера получил я из Верхней Гнилуши письмо. Брат пишет, тяжело заболела мама. Живут они через два дома от центральной районной больницы – отправили в Ольшанку. За двадцать километров! Немыслимо! Что-то я не слыхал, чтоб, скажем, москвича везли лечить на Чукотку. А тут…
– А тут, молодой человек, надо понять. У нас больницы поделены по профилям. В одну больницу везут со всего района с одним заболеванием, в другую – с другим… В такие профильные больницы мы даём лучшее специальное оборудование, шлём наиболее опытных специалистов. Наверно, вашу маму просто-напросто направили в профильную больницу. Только и всего. Оснований для паники я не вижу.
– Особенно когда не хочешь видеть… Понимаете, брат один. Работает. Навестить даже проблема. За двадцать километров не набегаешься вечерами. А автобусы не ходят, дорогу раскиселило. А представьте, каково старому больному человеку одному среди чужих? И будь профильная та больница хоть раззолотая…
– Эко-о… Подумать есть над чем. Вот что… Обязательно переведём больную в райцентр. В течение трёх часов! Не успеете даже приехать! Есть блестящая возможность проверить обещание моё.
– Проверим, – кивнул я ей в прощанье и пошёл к двери.
– Молодой человек! А вы меня не узнаёте?
Я внимательно посмотрел на неё с плеча и медленно покачал головой:
– Не узнаЮ́.
– Между прочим, – на капризе выкрикнула она, – я вас тоже не узнаЮ́!
– Вот мы и квиты.
Уже в коридоре она обогнала меня и преградила мне путь самым решительным выпадом:
– Послушайте! Да по какому это праву вы не узнаёте меня?
– А по какому праву я обязан вас узнавать? Я вижу вас впервые.
– Не впервые! Мы видимся в четвёртый уже раз! Ну да вспомните! Чаква!.. Бахтадзе! Пляж!.. Ну… История с халатом наконец!
– Хоть на конец, хоть на начало… Я предпочитаю истории без халатов.
– Грубо. И поделом. Я сама была груба с вами первая… На этой работке озвереешь… Однако мне бы не хотелось вот так расстаться. Мы узнали друг друга. Я это чувствую. А почему же вы не хотите в этом сознаться? Через четверть века встретиться! Есть мнение. Давайте на радостях поцелуемся!
– А минздрав на сей счёт никаких предупреждений не даёт?
– То есть?
– На пачках с папиросами он грозно сигнализирует: «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья». А насчёт поцелуев с незнакомыми при первой встрече он ничего не порекомендует? А то без цэушек минздрава я боюсь и вздохнуть…
– Обиделись… Крепко обиделись на меня… Ну извините и вспомните нашу четвёртую встречу. Насакирали… Совхозная больничка… К вам приезжает…
– … девушка с первым моим фельетонов в газете?
– Да! Вспомнили?! Это я была. Рина!
– Газету вспомнил. А девушку нет.
– Должок!.. Долгов! Ну чего кукситься? Я ж та дурочка Рина… Приезжала к вам в больницу и упрашивала вас написать про старушку Бахтадзе… Ну вспомнили?
– Старушку вспомнил… Уже из Москвы, от журнала, приезжал именно к ней… А насчёт девушки – толстый прочерк.
– Я и на прочерк согласна… Знаю, вы в Москве… Как-то попалась мне на глаза ваша статья в «Комсомолке»…
– Ну, мне про меня можно не рассказывать. Я кое-что знаю о себе. Вы-то как здесь оказались?
– Просто. Поступила в местный мед.
– А почему не в Тбилиси? Там же ближе?
– Мне нужны были нормальные русские знания. А не покупной диплом. Кончила… Семья… Работа… С боями докувыркалась до кресла первого зама в облздраве. Всё фонарём![42]
– Своё кресло вы любите.
– Люблю и людей вытаскивать из хвори… С того света…
– Это уже лучше.
– Медицина наша крепенько стоит на своих копытцах.
– Что вы говорите!
– Что слышите. Советская медицина – самая передовая в мире!
– Что вовсе не мешает ей прочно удерживать девяносто шестое место по медобслуге на душу населения и сто тридцать седьмое место по продолжительности жизни мужчин!
– Зато по продолжительности жизни женщин мы на девяносто пятом месте. Разве это не прогресс?
– Величайший.
В ней что-то отталкивало, и я больше не мог болтать с нею.
– Ну, поговорили ладком, пора и расставаться.
– За маму не переживайте. Всё будет тип-топушки. Прямо с автобуса идите проведать в районную больницу. Будет на месте! Гарантирую. Возможно, возникнут какие неясности… На этот случай вот вам, – подала визитку – мои телефоны. Служебный, домашний. Звоните в любое время.
3
Дождь со снегом не прекращался.
На посадочной площадке автовокзала было ветрено, холодно, пустынно.
Слепились люди у выхода, выгладывает всяк свой автобус.
Разгневанная старуха в чёрном, с клюкой, за рукав выловила дежурного в толпе:
– Любезнай! Энта чё ж не пущаете у свой час антобус у Гниулушу?
– В рейсе задерживается… Пожди чуток.
– Кода ж будя?
– Слушай, бабка, радио. Объявим.
И боком дежурный полез к кассам, с силой прожимаясь сквозь людскую тесноту.
Скоро мы поехали.
Стылый автобус наш был наполовину пуст.
Все сидели поодиночке.
Прямо передо мной покачивалась старуха в чёрном. Покачивалась, покачивалась… Привалилась, припала острым плечом к стеклу, задремала под унылый шлепоток из-под колёс.
Чёрная старуха…
Чёрное зеркало дороги…
Чёрные, пустые, без урожая, поля…
Чёрные, тяжёлые, едва не гладят брюхом землю, тучи… Да не снег – чёрную беду сеют…
Чем ближе оставалось до дома, тем страшней становилось мне. Забыть бы, куда еду, забыть бы, зачем еду, забыть бы всё… Хорошо б повернуть совсем назад. Да куда ж назад?
Последний пригорок… Последний спуск…
Вороным крылом ударил слева в глаза наш пруд. За прудом сворот влево, к нам, а прямо если чиркнуть – на Курск.
Можно ж на ветру прочь проскочить прямо, можно ж обминуть беду. Но на кой это понадобилось шофёру притормаживать, брать влево?
Уже в селе, на развилке у прокуратуры, автобус стал.
Прокинулись как-то враз люди, посыпались из двери, точно зерно из пробитой ножом чёрной дыры в мешке.
Я всегда выходил здесь, не ехал до конца, до станции. Чего ж ехать туда, чтоб потом идти назад? Я всегда выходил здесь.
Но сейчас я смотрел, как в спешке вываливались другие, налезая друг на дружку.
Остановки здесь нет. А автобус остановился.
Не дай Бог увидит сам прокурор. Тот-то будет шофёру!
Я смотрел на давку у двери и не мог встать. Вези, беда, куда завезёшь…
На станции автобус опустел. Я остался один.
Из-за занавески выглянул шофёр.
– А вы чего ждёте? Между прочим, конечная. Дальше поезд не идёт.
Я почему-то пожал плечами и медленно побрёл к выходу.
– Ба-а! – разнося в стороны крепкие долгие лапищи, будто готовясь обнять меня, в удивленье вглядываясь в меня, пробасил шофёр. – Да я тебя, голубь ты мой белый, как облупленку знаю! Где понову свела судьба?! Воистину мир тесен!
Я остановился перед ступеньками, коротко окинул взглядом шофёра и, машинально проговорив, что впервые вижу его, стал сходить.



