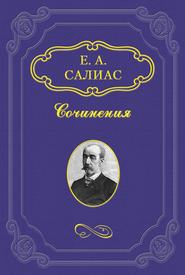 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Аракчеевский сынок
– Ну, – нетерпеливо отозвался Шумский.
– Вот я и хочу вам доложить, что Марфуша эта девушка тихая, кроткая, доброты бесконечной, характера совсем овечьего, – тонким и ласковым голосом начал Шваньский.
– Глупа, как пень, остолоп с головы до пят, – тем же голосом продолжал Шумский, как бы подделываясь. – Ну дальше-то что же? – прибавил он.
– Вот я все, Михаил Андреич, обсудив, и решился на благое дело.
– Жениться, что ли на ней? – усмехнулся Шумский.
– А хоть бы и так.
Шумский громко расхохотался и, наконец, вымолвил:
– Ах, ты дура, дура! Право, дура!
– Почему же-с?
– Почему? Ну, это, брат, в три дня не расскажешь. Во всяком случае…
И Шумский, глядевший в это время в окно на улицу, вскрикнул так, как если бы его ударили ножом. Шваньский вздрогнул от этого крика и остолбенел.
– Авдотья! Авдотья! – прокричал Шумский, бросившись к окну.
Действительно, к крыльцу дома подъехала на извозчике его мамка.
– Ну, вот! Где Пашута? – грозно обернулся Шумский, подставляя кулак к самому лицу своего Лепорелло. – Где Пашута? В городе?! скотина эдакая? Иди, беги, тащи ее сюда. Она, черт, целый час расплачиваться будет с извозчиком. Тащи!
Но последнее слово Шумский уже крикнул вдогонку, так как Шваньский рысью пустился к парадной двери. Шумский стоял в халате в дверях гостиной и, понурив голову, тихо шептал себе под нос:
– Все пропало! Прибежала Пашута, все рассказала, а эту прогнали…
Но в то же мгновенье Шваньский опрометью вбежал из передней в гостиную и воскликнул:
– А вот нет же. Не было ее там. Не приходила туда. Авдотья к вам сама явилась.
Шумский встрепенулся.
– Она не приходила! Не была! – кричал Шваньский, чуть не прыгая от радости. – А коли за всю ночь не пришла и до сих пор ее не было, то и не будет, по-моему. Побежала просто куда в город, а не к барону.
При виде Авдотьи, тихо шагающей из передней, Шумский вскрикнул:
– Да иди же! Иди! Что у тебя ноги-то отнялись, что ли?
И он тотчас же закидал женщину вопросами. Она об Пашуте ничего не знала и только широко раскрывала глаза.
– Да нешто она у вас ушла? – выговорила, наконец, Авдотья. – Каким же это способом? Как же это вы не доглядели?
– Ну, ладно, – махнул рукой Шумский. – Ты тут будешь еще других учить. Иди, рассказывай.
И приведя Авдотью к себе в спальню, Шумский начал подробно расспрашивать мамку обо всем, что есть нового. Вести были самые лучшие. Баронесса очень жалела свою любимицу, но вполне верила во все и ожидала возвращения Пашуты через два или три дня. Авдотью она согласилась оставить тотчас же, обращалась к ней ласково и, вообще, ничего не подозревала.
– Ну, слава Богу! – несколько раз повторил Шумский и, произнеся эти слова в десятый раз, прибавил:
– Тьфу, прости Господи! И я тоже, как Шваньский, за всякую гадость славословлю Творца Небесного.
И Шумский расхохотался.
– Ну, Дотюшка, теперь коли все обстоит благополучно, то принимайся за главное дело, для которого я тебя из Грузина выписал. Время терять нечего. Вот тебе прежде всего пузырек, береги его, яко зеницу ока. Помни одно, что эта скляница с бурдецой сто рублей стоит.
– О-ох! – вздохнула Авдотья.
– То-то, ох! Тебе это главное. Оттого я и говорю. Есть ли у тебя красный платок, хоть маленький, что ли?
– Нету, родной мой. Откуда же ему быть?!.
– Ну, сейчас купить пошлю. Ну, слушай, теперь.
– Вот что, родной мой, – перебила Авдотья. – У меня с утра маковой росинки во рту не было. Позволь мне чаю напиться. Я живо, в одну минуту, а там и рассказывай.
– Ну, ладно.
Шумский отпустил мамку и совершенно довольный, насвистывая какую-то цыганскую песню, начал шагать из угла в угол. Через несколько времени он вышел в коридор и увидал вдали за чайным столом три весело беседовавших фигуры – мамку, Шваньского и швейку.
– Жених с невестой, – выговорил Шумский и рассмеялся. – Эка дура! Во всем-то Питере лучше не разыскал, – прибавил он, глядя издали на Марфушу.
Но затем, помолчав с минуту и пристальнее приглядевшись к девушке, он задумался.
– Нет, – произнес он, – я вру, а не он врет. Издали она еще пуще смахивает на Еву. Только волосы обыкновенные, белокурые, а будь они светлее, совсем бы на нее смахивала. Вестимо вдурне. Так если Ева для меня пара, то Марфуша для Шваньского и совсем пара. Даже, пожалуй, Шваньский ей не пара. Стало, Иван Андреич мой, – губа не дура. А что швея она, так ведь и он не генерал-фельдмаршал.
Шумский вернулся к себе, оделся в мундир и, выйдя в кабинет, крикнул Копчика.
«Тьфу забыл, что заперт, – подумал он. – Но за что же я его посадил? Ведь все-таки же виноват Шваньский. А, может, и он. Дело нечисто. А выпустить все-таки надо, без него как без рук. Все в квартире вверх дном станет».
Шумский вышел снова в коридор, кликнул своего Лепорелло и приказал немедленно выпустить заключенного. Через минуту Васька, смущенный, появился на глаза барина. Он, очевидно, ожидал побоев. Лакей испуганно и робко переступил порог, готовый каждую минуту броситься на колени и, по-видимому, то, что он намеревался сказать, было уже у него приготовлено заранее.
– Слушай ты. Если ты тут ни при чем, ничего не будет тебе, но мне сдается, дело нечисто, замок не ножом оторван.
– Помилуйте, Михаил Андреич, – начал Копчик слезливым голосом. – Верьте Богу, что я…
– Молчи. Я не из тех, что верят всему, что с языка сбросит всякий болтун. Язык без костей. Я знаю не то, что мне говорят, а знаю то, что знаю. Если это дело твоих рук, то оно окажется после. И когда окажется, быть тебе в Сибири. И это еще слава Богу. А то похуже приключится. Быть тебе запоротым насмерть в конюшне грузинской. Ну, пошел и покуда делай свое дело. Зови сюда Авдотью.
Через минуту женщина несколько более в духе, так как успела выпить несколько чашек чаю, который она обожала, явилась к своему питомцу.
– Ну, садись, Дотюшка, и слушай в оба. Самая теперь суть пошла у нас, самое что ни на есть светопреставление начинается.
– Ох, типун вам! Что это ты, родной мой, – перекрестилась Авдотья.
– Ну, ладно. Слушай.
– Грех эдакие шутки шутить.
– Слушай, тебе говорят, – перебил Шумский серьезнее.
Собравшись с мыслями, молодой человек подробнее, чем когда-либо, повторил три раза подряд то, что должна была мамка сделать в тот же вечер. По мере того, как он говорил, доброе расположение духа мамки исчезло. Она снова понурилась и снова лицо ее было печально и тревожно.
– Ну, пугайся сколько хочешь, – прибавил Шумский. – Это твое дело. А все-таки все, как я приказываю, должно быть сделано ныне ввечеру. А что из сего светопреставления выйдет, это не твоя забота. В сотый раз тебе говорю, я в ответе, а не ты. Ты была здесь, и нету. Что ни случись, уедешь в Грузино, и никакими собаками там тебя никто не достанет. Настасья Федоровна не выдаст. Да и кто посмеет хвататься за человека графа Аракчеева. Да и мне-то, что ни случись, ничего не будет. Неужто ты по сю пору не понимаешь, что мы с тобой, чего ни захотим, то все в столице и сделаем. Хоть народ вот станем грабить на Невском проспекте, и нам никто ничего не сделает. Пойми ты, что я сын царского друга, графа Аракчеева. Значу в Питере больше, чем он сам. Он ради срама дрянного дела не затеет, а я все могу и никто тронуть меня не смеет. Мало ли, какие я тут фокусы проделывал, еще когда был в Пажеском корпусе. Все с рук сходило. Теперь говори, поняла ли ты, что тебе делать.
– Вестимо, поняла, – глухо отозвалась Авдотья.
– Говори, главная в чем суть? Повтори.
– Что же повторять-то?
– Повтори, тебе говорят.
– Ну, значит, дать испить этих сливочек в чаю или в питье каком вечернем.
– Предпочтительно – в чаю, помни это. Не захочет чаю, отложи до другого дня. А затянется дело, тогда уж в питье.
– Понятно, знаю.
– Ну, потом? Повтори.
– Ну, красный платок, стало быть, на окошко повесить, как заснет, и дверь из дома во двор оставить незапертую.
– Ну, вот умница! – усмехнулся Шумский. – Не забудь ничего и не перепутай. А теперь собирайся…
Авдотья поднялась, но при этом вздохнула глубоко.
– Что из всего этого будет вам? – пробурчала она вдруг.
– Сегодня же ввечеру, т. е. около полуночи, я наведаюсь, – произнес Шумский, как бы не слыхав слов мамки.
– Беда из всего этого будет! Твоя погибель, – сказала Авдотья.
– Ну, это не твоя забота. Ты не рассуждай, а действуй! – резко и грубо отозвался Шумский. – Твоих советов мне не надо. И не твое это дело. Ты за себя боишься… не финти!..
– За вас… а не за себя. Бог с вами!..
– Ну, вот что, Авдотья, – медленно вымолвил Шумский. – Будет тебе, положим, хоть распросибирь, хоть распрокаторга и распродьявольщина всякая, хоть подохнуть тебе придется через день после содеянного… а все-таки ты все по моему приказу исполнишь.
Слова эти были произнесены таким голосом, что мамка, привыкшая все слышать от своего питомца за двадцать пять лет, все-таки невольно почувствовала теперь в его голосе грубое оскорбление. В звуке его голоса и равно в каждом слове звучало насилие. Шумский пристально взглянул на женщину, прошелся по комнате и затем, остановясь перед своей мамкой, выговорил мягче:
– Я тебя заставить, собственно говоря, не могу насильно. Хочешь ты это сделать, сделай, не хочешь, не делай. Но вот тебе крест, – Шумский перекрестился, – что если ты не сделаешь этого нынче ввечеру или завтра ввечеру, как будет удобно по обстоятельствам, то знай… Я тебя позову сюда, притворю вот эту дверь и тут же на твоих глазах прострелю себе башку из этого вот пистолета. В этом даю тебе священную клятву перед Господом Богом.
– Ах, что ты, что ты! – завопила вдруг Авдотья и замахала руками.
– Будь я проклят на том и на этом свете, если я не застрелюсь перед тобой. Ты дура баба. Ты не понимаешь, что когда человек влюбится в девушку, как я, в первый раз от роду, то ему или добиться своего, или не жить.
– Господи помилуй, да разве инако нельзя! – воскликнула Авдотья. – Так женись на ней!
– Жениться! Нет, мамушка, дудки. Я не сделаю того, что всякий дурак умеет сделать. Ну, а теперь нам с тобой толковать не о чем больше. Сейчас принесут красный платок, бери его и марш восвояси служить и услуживать верой и правдой и баронессе, и мне. Прощай. В добрый час! Ввечеру часов в одиннадцать или около полуночи я буду у дома. Коли нет платка на окошке – вернусь. Коли есть платок – в дом шагну.
Авдотья тихо пошла из горницы, держа пузырек с жидкостью.
– Помни. Дай меньше половины, – весело прибавил Шумский ей вслед, – а остальное сохрани, как зеницу ока. На другой раз может пригодиться.
И, оставшись один, он подумал:
«Не люби меня эта дурафья, ничего бы не поделать с ней. Беда – бабы!..»
XXXII
В одиннадцать часов вечера Шумский выехал из дома. Несмотря на полную тьму в улицах, он ехал довольно быстро по направлению к Васильевскому острову. Молодой человек волновался чрезвычайно и часто жадно вдыхал свежий ночной воздух, как если бы у него были припадки удушья. Происходило это от тех мыслей, что роились в его разгоряченной голове, заставляя нервно-порывисто стучать сердце.
«Наконец-то!»
Вот слово, которое не сходило с его языка, не выходило из головы и сердца.
Да, наконец, после многих дней, он был на шаг от достижения заветной, преступной, но тайно взлелеянной цели.
Тому назад часа два Шумский посылал Ваську в дом барона Нейдшильда за вестями, и Авдотья дала знать барину, что надеется, почти наверное, исполнить все его приказанья, иначе говоря, предать ему, хотя и в собственном ее доме, но совершенно беззащитную девушку.
«А ведь, ей-Богу, я молодец!» – самодовольно думал теперь Шумский, обсуждая свой дикий замысел, который удавался.
А затеянное им дело было и мудрено, и просто. Мудрено, по-видимому, потому, что Ева была у себя, в своих горницах, за шаг от своего отца, но просто – вследствие чрезвычайной дерзости двух преступных людей, действующих при помощи дурмана.
Дверь заднего крыльца на двор бывала всегда расперта, калитка ворот и подавно оставалась настежь по ночам. Встретить на крыльце или в прихожей кого-либо из людей было, конечно, возможно… Но это было бы случайностью, о которой Шумский не думал, ибо заранее решил дерзко вывернуться и все-таки войти в дом. Лень и тупость людей барона были за него…
Разумеется, в иные мгновенья Шумский сомневался в успехе своего дерзкого предприятия. Мало ли какая мелочь может вдруг нежданно явиться помехой. Но затем тотчас же ему снова казалось, что никакая преграда его остановить не может. Все в дерзости!
«Найдусь как-нибудь, – думал он. – Даже выйду из дома и отъеду. И опять вернусь… И все-таки пройду и буду у нее… Не сейчас, то позднее, среди ночи, наконец, на заре… Вздор! Все на свете вздор, для того, кто смел и презирает весь этот мир. Что он? Людская комедия в мишурных костюмах при размалеванных декорациях. И чего не выдумали эти актеры, живущие уж сколько тысяч лет на этой планете. Добродетель, долг, нравственность, совесть, честность и всякая такая абракадабра, чтобы сделать жизнь тяжелой и невыносимой, чтобы только дурак был счастлив; а умный, смелый, предприимчивый, желающий жить истинной жизнью, сиди, как скованный в кандалах, именуемых законами. И того нельзя, и этого нельзя. Черт знает, что за чепуха. Ну, да я, спасибо, не из тех, что верят в святость всех этих кандалов человеческих. Подавай мне то, чего я захотел! А хорошо ли, дурно ли – это уж философия. Стало быть, хорошо, коли мне хорошо! А коли вам от него же дурно приходится, так это не мое дело. Пожалуй, даже оно тем мне и лучше, что от него вам, человекам, плохо».
Шумский, мечтая и раздумывая, несмотря на быструю езду, самодовольно ухмылялся, иногда ворчал вслух и чувствовал себя вполне счастливым. Изредка, при мысли, что через несколько мгновений он очутится близ существа, которое он страстно обожает, и при том это существо будет беззащитно, в его полной власти, – заставляло странно замирать его сердце, прерывало дыхание, и он глубоко, жадно вдыхал в себя свежий воздух.
Наконец, Шумский был уже за несколько домов от квартиры барона. Он остановил кучера и, приказав ему дожидаться себя, пошел пешком. Среди полной темноты ночи дома барона было не видно, но Шумский знал, что дом находится от него в сотне шагов. Он шел быстро, нервно, и по мере приближения к дому волнение все более овладевало им.
– Даже не верится! – прошептал он. – А как давно!.. С какими усилиями! Сколько хлопот, стараний…
Миновав лавочку, которую он хорошо знал, Шумский вдруг замедлил шаг и пристально впился глазами в то место, где приблизительно должны были находиться ворота дома барона…
– Что это? Что такое? – чуть не вслух произнес он.
Он сделал еще несколько шагов… Нет, он не ошибся, это не обман зрения. Около самого дома стоит карета.
Шумский приостановился и глядел.
«Что это? Зачем она тут?» – подумал он, и странное, ни на чем не основанное, подозрение, нечто в роде предчувствия, сказалось в нем.
Он знал хорошо, что у барона гостей почти никогда не бывало, а если кто из приятелей его приезжал к нему вечером, то никогда не засиживался позже десяти часов, время, в которое барон аккуратно всю жизнь ложился спать.
Постояв минуту, Шумский смело двинулся вперед, поравнялся с каретой и воротами дома и уже хотел пройти мимо, чтобы взглянуть на второе от угла окно… Здесь виднелся свет, и должен был висеть красный платок…
Но в то самое мгновенье, когда Шумский, проходя, глядел на кучера, дверка кареты неслышно отворилась, и из нее вышел человек. Несмотря на темноту, Шумский сразу разглядел фигуру в военной форме и в кивере.
Он приостановился и невольно, бессознательным движением, быстро обернулся лицом к этому военному.
– Прошу вас дальше не идти! – раздался тихий и твердый голос.
Шумский вздрогнул и застыл на месте, как пораженный громом. Это был голос фон Энзе.
Наступила пауза. Шумский превратился в истукана, но только руки его дрожали, и он медленно поднимал стиснутые яростью кулаки. Еще несколько мгновений и он, казалось, бросится на врага, как разъяренный зверь.
– Советую вам послушаться меня. Я не один здесь, – снова тихо и как-то просто, или ребячески простодушно, заговорил фон Энзе. – Вот здесь, за забором, на соседнем дворе, дежурят двое моих друзей-улан. В случае вашего упрямства они перемахнут сюда, и с вами будет нехорошо поступлено.
– Даже очень нехорошо, – раздался голос за забором и затем двойной сдержанный смех.
От этого смеха Шумский как бы вышел из своего столбняка и, быстро отбросив шинель, выхватил шпагу из ножен.
– Я вас всех тут… Негодяи!.. – задыхаясь, вскрикнул Шумский, наступая с обнаженной шпагой на фон Энзе. Тот сделал движение и вытянул на Шумского руку, в которой был пистолет.
– Прострелю голову, положу тело в карету и, отвезя, брошу в Неву! – тихо, просто, точно будто нечто ласковое проговорил фон Энзе.
И оба, молча, замерли так, друг против друга, не шевелясь. Шумский первый опустил шпагу, за ним и фон Энзе принял руку с пистолетом.
– Я требую у вас удовлетворенья за эту комедию, – выговорил Шумский сдавленным от гнева голосом. – Завтра же утром вы должны драться насмерть.
– Ни завтра, ни когда-либо, – вымолвил фон Энзе спокойно. – С такими людьми, как вы, честные люди не выходят на поединок.
– Как вы смеете? – вскрикнул Шумский. – Вы подлый трус и прикрываетесь…
– Не кричите, перебудите мирных обывателей, и срам будет… Драться я с вами, даю честное слово, никогда не стану. Буду только постоянно до известного срока оберегать этот дом от вас.
– Так я вас завтра же просто застрелю при встрече! – вне себя едва выговорил Шумский.
– Можете… и пойдете в Сибирь, или в солдаты. Если же Аракчеев вас защитит, то ваш адский план все-таки не удастся, ибо товарищи передадут барону объяснительное письмо от меня. Если же вы уступите, удалитесь отсюда и, вообще, бросите вашу подлую и преступную затею, то ни барон, ни «она» никогда не узнают ничего… Теперь же, в случае вашего упорства, повторяю, мы вас не пустим в дом. Убить себя здесь ночью я вам не дам, а убью вас и тотчас же увезу в карете, чтобы избежать соблазна около дома барона… Удалитесь!..
– Хорошо… Но завтра я заставлю вас драться со мной законным образом, – вымолвил Шумский глухим голосом и двинулся от дома.
Только пройдя несколько шагов, он вспомнил о шпаге, которую все еще держал обнаженною в руке.
Он всунул ее в ножны и провел рукой по горевшему лицу… Бешеная злоба душила его, глаза застилало туманом, и он слегка пошатывался, как пьяный. Тяжело ступая, несколько раз останавливался Шумский и стоял середи панели, бормоча что-то бессвязное.
Когда шаги и звук шпор замолкли, фон Энзе произнес несколько громче, обернувшись к забору:
– Ну, победили!.. Выходите… Он далеко…
Через минуту двое улан явились из калитки соседнего двора. Какой-то мещанин в длиннополом кафтане провожал их.
– Может быть, завтра опять придем на дежурство, – сказал один из улан, обращаясь к нему.
– Пожалуйте. Рады служить, хотя и не знаем в чем.
– И знать вам не полагается…
Уланы сошлись с фон Энзе и переговорили шепотом.
– А если опять вернется? – сказал один из них, по имени Мартенс.
– Никогда! – отозвался фон Энзе. – Это было бы уже безумием. Но если б он оказался безумцем, то я, мой милый друг, и один с ним справлюсь.
Фон Энзе сел снова в карету, тихо затворив дверцу. Карета не двинулась… Уланы, переговариваясь и смеясь, зашагали по направлению к Неве…
– Если он пешком, и мы его догоним, – сказал Мартенс, – то я его назову мерзавцем.
– Зачем?
– Уж очень хочется.
Впереди раздался грохот двинувшегося экипажа.
– Удрал, проклятый! – произнес Мартенс.
XXXIII
Когда Шумский вернулся домой, то гнев его прошел, яростного озлобления не было и следа. Он впал в какое-то странное, ему самому непонятное, состояние. Он уже не думал о неудаче, не вспоминал о том, что даже забыл поглядеть на окно, чтобы убедиться, висит ли красный платок в виде условного знака. Равно не думал он о виновнице его безумной страсти. Все мысли сосредоточивались на одном, на страстном желании мести, даже на нравственной необходимости отмщения. Помеха или преграда в достижении твердо намеченной цели явилась неожиданно в лице совершенно постороннего человека, о существовании которого он и думать забыл. Чужой человек стал на дороге, как какое-то дьявольское наваждение, хотя было понятно, что главной пособницей его была Пашута.
Теперь все сводилось к одному – стереть с лица земли, уничтожить фон Энзе. Как? Всячески.
И в разгоряченной, а отчасти и как-то отуманенной голове Шумского возник вопрос: драться с ним на поединке, рисковать собой или просто убить, хоть бы из-за угла? На том скользком пути, на который вступил теперь молодой малый, подобные вопросы имели логическую возможность возникать.
Войдя в свою квартиру, Шумский через несколько мгновений поневоле сам себе удивился. Он удивился своему спокойствию. Действительно, он вошел в свой кабинет тихо и молча, разделся, надел халат, затем раскурил трубку, позвал Копчика и, спокойно приказав подать себе чаю, даже перекинулся двумя-тремя фразами с явившимся Шваньским. Он был совершенно спокоен и чувствовал, что не способен рассердиться ни на что. И в самом деле, что же, какая мелочь, могла бы рассердить его и взволновать после такого страшного удара, вынесенного сейчас сердцем и мозгом.
Однако, приглядевшись мысленно к себе самому, Шумский сознался или догадался, что состояние его не есть спокойствие; он не спокоен, а просто раздавлен. Он ясно ощущал на себе гнет чего-то громадного, упавшего вдруг, и навалившегося на все его существо. И в ответ на этот гнет явилась одна мысль – освободиться… так или иначе;, во что бы то ни стало, каким бы то ни было образом.
– Надо его убить! – мысленно, а затем и бормоча вслух себе под нос, повторял Шумский.
И вся ночь вплоть до восьми часов утра прошла в том, что молодой человек, просидев молча полчаса, иногда и час, или пройдясь несколько раз по горнице взад и вперед, снова повторял на бесчисленные лады все ту же фразу:
– Надо его убить!
Действительно, другого исхода для него не было. Или отказаться от всего, или уничтожить фон Энзе, как сильную преграду на пути.
Среди ночи Шумский решил бесповоротно просто застрелить фон Энзе каким-нибудь предательским образом. Подлым, мошенническим образом заманить куда-нибудь, отравить, задушить и, в крайнем случае, застрелить. Не через неделю, так через месяц, наконец, через несколько месяцев. Весь вопрос заключался не во времени, а в том, чтобы преступление было совершено умно, тонко, талантливо, без следов и, стало быть, безнаказанно. А если действовать так, чтобы попасться, то уж гораздо проще: приставить ему ко лбу пистолет да при всем честном народе и повалить замертво.
Но тотчас же Шумский испытал на себе самом, что из всех преступлений убийство, лишение человека жизни, есть самое трудное дело. Он, легко решившийся на позорно-преступный поступок с обожаемой им женщиной, теперь чувствовал, что у него не хватит духу на подлое, предательское убийство.
К утру Шумский решил, что надо поневоле рисковать своей жизнью и драться с фон Энзе на поединке. И решив равный бой, а не предательское убийство, он как-то успокоился. На улице уже брезжил свет, когда он взял с постели подушку, бросил ее себе под голову и, не раздеваясь, в халате, улегся на узеньком и неудобном диване, и тотчас же заснул глубоким сном, как человек истомленный физически и нравственно.
Около полудня Шумский открыл глаза, пришел в себя и вновь вспомнил все происшедшее. Прежде по поводу иного чего он тотчас же взбесился бы, вскочил и стал бы придираться к Копчику или к Шваньскому, или злиться на самого себя. Теперь же он поднялся, сел на диване и тяжело вздохнул. Тот же гнет, то же чувство пришибленности сказалось снова. Он был по-прежнему ошеломлен и раздавлен всем случившимся накануне.
И с тем же внешним спокойствием, с тем же хладнокровием, которое равно заметили и Шваньский, и Копчик, и которое немало поразило их обоих, Шумский начал одеваться, собираясь со двора. Несмотря, однако, на это наружное спокойствие, на лице его, вероятно, было что-нибудь особенное, потому что Копчик по малейшему приказанию или движению руки его швырялся, как угорелый, а Шваньский, несколько раз заглянув в лицо своего патрона, отводил глаза в сторону и не заговаривал ни о чем. На лице Шумского было слишком ясно написано, что с ним случилось нечто чрезвычайное. Обращаясь с своим патроном все-таки довольно храбро, Шваньский видел и чувствовал, что теперь было опасно рисковать самым пустым вопросом.
«Убьет еще!» – думалось ему.
Однако Лепорелло и лакей ломали себе голову, придумывая и стараясь отгадать, что могло случиться. Когда барин отъехал от квартиры, Шваньский встретился в столовой с Копчиком, и оба молча поглядели друг другу в лицо несколько мгновений. Копчик первый опустил глаза. Он подумал:



