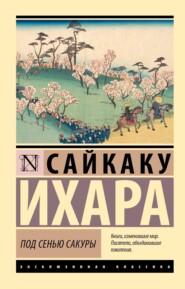скачать книгу бесплатно
– В саду уже созревает хурма. Давайте сорвем спелые плоды с верхних веток.
Мачеха согласилась, и они вместе вышли в сад. Тут Манноскэ, улучив удобный момент, зашел в тень дерева и стал дергаться и извиваться, как будто его ужалила пчела.
– Поймайте, поймайте же скорее! – крикнул он мачехе.
Та, не чуя подвоха, просунула руку в его левый рукав и принялась искать пчелу.
– Кажется, ничего нет, – молвила женщина, – но боюсь, как бы пчела снова тебя не ужалила. Сними-ка одежду, я как следует погляжу.
Все это видел отец, затаившийся у живой изгороди.
«И впрямь не лжет мальчишка», – подумал он, и в тот же миг всю его любовь словно ветром сдуло. Ничего не объясняя, он заявил жене, что дает ей развод.
– Не пойму, отчего вы вдруг так ко мне переменились, – вздыхала несчастная. – Коли я в чем-то провинилась перед вами – скажите, ведь мы не чужие. Горько терпеть от вас такую обиду.
Но Мандзаэмон не желал ее слушать, и бедной женщине ничего не оставалось, как остричь волосы и искать утешения в монастыре.
Правду говорят, что худая слава разлетается быстро. Как это произошло – неизвестно, только вскоре слухи о злокозненном поступке Манноскэ облетели всю округу, и не было в тех местах человека, который не возненавидел бы негодяя. Пришлось ему покинуть родные края и податься в Камигату[34 - Камигата – город Киото с его окрестностями и близлежащими провинциями.]. Однако не успел он отъехать на семь с половиной ри, как неожиданно грянул гром небывалой силы. Возница же как ни в чем не бывало продолжал вести под уздцы его коня и лишь потом, оглянувшись, увидел, что всадника на нем нет. От этого самого возницы и стало известно о загадочном исчезновении нечестивца Манноскэ.
Общество восьмерых пьяниц
В портовом городе Нагасаки, где шум волн напоминает веселое постукивание барабанчиков, восемь знаменитых пропойц заключили между собой союз. Выбрав место для своих сборищ в зарослях криптомерий, – ведь ветки этого дерева служат знаком любого питейного заведения, – они прикатили туда две бочки сакэ – сладкого и терпкого – и, поклоняясь божеству виноделов Мацуноо-даймёдзин, проводили время в безудержном пьянстве. Вот кто входил в этот союз: Дзиндзабуро по кличке «Змей», Каннай по прозвищу «Сютэндодзи»[35 - Сютэндодзи – имя грозного демона, персонажа японских легенд. Первый компонент этого имени, «Сютэн», в буквальном переводе означает «Пьяница», отсюда его использование в шуточном прозвище одного из восьми пьяниц.], Тоскэ – он же «Дунпо из Ямато»[36 - «…Дунпо из Ямато…» – Дунпо – знаменитый китайский поэт Су Дунпо (1036–1101). Его стихотворения о вине были широко известны в Японии. Ямато – старинное название Японии.], Мориэмон «Беспробудный», Сихэй «Веселья на троих хватит», Рокуносин «Выдуй мерку», Кюдзаэмон «Необузданный» и Кикубэй «Хризантемовая водка»[37 - «…Кикубэй – Хризантемовая водка» – Хризантемовая водка – сакэ с плавающими в нем лепестками хризантемы. Его пили в Праздник хризантем, который отмечался девятого числа девятого месяца по лунному календарю.]. С первого и до последнего дня года никто не видел их трезвыми.
Всякий раз, приступая к попойке, они напевали мелодию «Тысячекратная осень»[38 - Мелодия «Тысячекратная осень» – старинный напев, сулящий счастье и долголетие. Первоначально исполнялся в завершение придворных торжеств.], которой полагается завершать пир, – даже в те редкие мгновения, когда к ним возвращалась способность хоть что-то соображать, мысли их тонули на дне сосудов с вином. Пьянство было для них самым большим удовольствием на свете. Глядя на них, многие из тех, кто не прочь повеселиться да пропустить чарку-другую, примыкали к сей беспутной братии и расстраивали свое здоровье, пропивали, как говорится, собственную жизнь.
Жил, например, в Нагасаки некто Дамбэй по прозвищу «Рисовальщик», мастер картин «сима-э»[39 - «Сима-э» – вид гравюры на дереве с применением штриховки для передачи светотени. Возник под влиянием европейской живописи.]. Совсем недавно перебрался он в эти края из Окуры, что в провинции Бидзэн. Родившись в семье, где исстари много пили, он и сам сделался заправским пьяницей, во всяком случае, равных себе он пока еще не встречал. Однажды, когда Дамбэю исполнилось девятнадцать лет, он побывал в столице. Наглядевшись там на состязания лучников у храма Сандзюсангэндо[40 - …состязания лучников у храма Сандзюсангэндо… – Сандзюсангэндо – храм буддийской школы Тэндай (Опора небес) в Киото. В старину на галерее этого храма проводились ежегодные состязания лучников.], он решил устроить такое же состязание по выпивке сакэ, и, надо сказать, проявил себя не хуже, чем Хосино Кандзаэмон и Васа Дайхати[41 - Хосино Кандзаэмон, Васа Дайхати – имена самураев, удостоившихся титула «лучший лучник во всей Поднебесной». В 1669 г. на состязании у храма Сандзюсангэндо Хосино Кандзаэмон установил рекорд, поразив цель восемью тысячами стрел. Этот результат превзошел Васа Дайхати в 1686 г.] в искусстве стрельбы из лука. Вскоре о нем заговорили как о первейшем пьянице во всей Поднебесной, и владелец знаменитой винной лавки «Мандариновый цвет» пожаловал ему подарок – вяленых моллюсков в золотой обертке. Тут Дамбэй совсем возгордился, точно лучник, которому вручили золотой жезл[42 - …точно лучник, которому вручили золотой жезл… – На состязаниях лучнику, сумевшему поразить цель пятьюстами стрелами, вручался золотой жезл.], и, решив, что теперь ему пристало жить только в Нагасаки, где, как известно, любителей сакэ больше, чем где бы то ни было еще, в скором времени туда перебрался и завел торговлю винными чарками.
Однако же, на его беду, оказалось, что в тех краях даже самый рядовой выпивоха, почитай что трезвенник, способен обскакать на пиру любого, кто в иных провинциях слывет воеводой. Затесавшись в общество восьмерых пьяниц, Дамбэй пил с ними на протяжении тринадцати дней и тринадцати ночей, но поскольку те были против него настоящими богатырями, он в конце концов изрядно умаялся, хотя храбрился изо всех сил и сдаваться не хотел.
Тут как раз явилась матушка Дамбэя и принялась его увещевать:
– Прошу тебя, перестань этак напиваться. Отец твой, Данъэмон, тоже не знал удержу в таких делах и однажды за пирушкой во время игры в го[43 - Го – настольная игра китайского происхождения.], длившейся всю ночь, повздорил с лекарем-иглоукалывателем Утидзимой Кюбоку. Хотя спор между ними разгорелся из-за сущей безделицы, спьяну они наговорили друг другу столько обидного, что в итоге схватились за мечи да и закололи друг друга насмерть. В глазах людей они выглядели посмешищем и, сойдя в могилу, покрыли себя позором. Даже мне, женщине, горько об этом вспоминать. Я надеялась, что, зная о бесславном конце Данъэмона, никто из его потомков не возьмет в рот ни капли сакэ, но куда там! Ты пропускаешь мои слова мимо ушей и заделался отчаянным пропойцей. Пойми, пьянство до добра не доводит. Прошу тебя, остановись, утешь мать на старости лет. Конечно, одним махом с этой привычкой не разделаться. Так и быть, до исхода лета я разрешаю тебе пить понемногу – три раза днем и три ночью, но за один раз выпивай, уж, пожалуйста, не больше пяти мерок[44 - …не больше пяти мерок. – Одна мерка (го) соответствует 0,18 л.].
Дамбэй бросил на мать злобный взгляд и отвечал ей так:
– Вам-то, мамаша, никто не запрещает пить чай. Пора бы уразуметь, что сакэ для меня – единственная радость в жизни, ради которой мне и помереть не жалко. К слову сказать, когда я помру, тело мое обмойте не водой, а добрым сакэ, и гробом мне пусть послужит бочка из-под вина, что делают в Итами[45 - Итами – местность в провинции Сэтцу (ныне префектура Хёго), славившаяся производством сакэ.]. А похоронить меня прошу на горе с вишневыми деревьями или же в лощине, где растут клены. Когда люди придут полюбоваться на весеннее цветение вишен или на клены в осеннем багрянце, они прольют на землю хоть немного сакэ, и оно дойдет до моих косточек. Поймите, мамаша, если я и после смерти не собираюсь расставаться с сакэ, могу ли я отказаться от него при жизни?!
С тех пор Дамбэй стал бражничать пуще прежнего, не разбирая, ночь стоит на дворе или день. Случалось, что по пять, а то и по семь дней кряду он валялся в постели мертвецки пьяный. Немудрено, что все остальные дела пошли у него побоку.
Беспрестанно тревожась о сыне, матушка Дамбэя занемогла и вскоре скончалась. А Дамбэй даже в день ее смерти был не в силах подняться с постели. Лишь по прошествии времени, чуточку протрезвев, он спохватился и принялся горевать, да было уже поздно.
Кичливый силач
Судья поднял свой веер[46 - Судья поднял свой веер… – Жест, символизирующий начало состязаний борцов сумо. Сумо – традиционный японский вид борьбы, известный с глубокой древности.] и стал посередине площадки, огороженной четырьмя столбами. Вслед за ним на помост вышли нанятые устроителем состязаний борцы высшего разряда Маруяма Дзиндаю, Ваканоскэ и Цутаноскэ, а также их противники: Тобира Татээмон, Сиогама и Сирафудзи. Представившись публике, они заняли свои места по левую и правую сторону от помоста, после чего началась предварительная часть соревнований, в которой выступали новички да всякая мелкая сошка.
По мере того как на помост поднимались всё более именитые борцы-тяжеловесы, число зрителей стало возрастать, а поскольку соревнования были приурочены ко дню праздника храма Компира[47 - Храм Компира – знаменитый храм в провинции Сануки (ныне префектура Кагава), в котором чтят божество Компира, покровительствующее мореплавателям и рыболовам. Праздник этого храма отмечался в десятом месяце по лунному календарю.], о чем людей оповестили заранее, вскоре народ повалил толпой, и между круглыми подушками для сидения даже шила негде было воткнуть. Да и кому не захочется поглядеть на сноровистых борцов из Камигаты и деревенских силачей!
После этих состязаний увлечение сумо распространилось по всей провинции Сануки, и многие тамошние жители, вплоть до пастухов и сборщиков хвороста из горных селений, обзавелись набедренными повязками из узорчатого шелка и, как одержимые, принялись осваивать все сорок восемь приемов борьбы. Пристрастившись к этому дурацкому занятию, они даже не боялись на всю жизнь остаться калеками.
Жил в тех краях юноша по прозванию Марукамэя Сайхэй, который если и мог чем похвастаться, то разве только своею силой. Не так давно снискал он славу на поприще сумо и взял себе имя Араисо, что значит «Неприступный берег». Будучи сыном богатого горожанина, владельца известной меняльной лавки, он мог бы избрать для себя занятие и поприличней. Люди порядочные ради удовольствия играют на кото[48 - Кото – старинный музыкальный инструмент, японская цитра.] или в го, занимаются каллиграфией или живописью, обучаются чайной церемонии[49 - Чайная церемония – своеобразное эстетическое времяпрепровождение. Приготовление чая и чаепитие обставлены сложным церемониалом, ведущим к внутренней сосредоточенности и молчаливому созерцанию. Возникшее из особого ритуального чаепития, практиковавшегося монахами, искусство чайной церемонии получило широкое распространение не только в привилегированных слоях японского общества, но и в городской среде.], игре в ножной мяч[50 - Ножной мяч (кэмари) – игра, отдаленно напоминающая футбол; игроки подкидывают мяч из оленьей кожи в воздух и передают его друг другу так, чтобы он не коснулся земли.], стрельбе из лука или пению утаи[51 - Утаи – фрагменты лирических драм, исполняемых в классическом японском театре Но.]. Все это вполне достойные занятия. А что хорошего в развлечении, при котором надобно раздеться догола да еще подвергать опасности свое здоровье? Сумасбродство, да и только!
– Послушай, сынок, – говаривал отец Сайхэю. – Бросил бы ты свое сумо, завел себе хороших товарищей и читал бы с ними Четверокнижие[52 - Четверокнижие – общее название книг конфуцианского канона: «Да сюэ» («Великое учение»), «Чжун юн» («Середина и постоянство»), «Луньюй» (изречения Конфуция) и «Мэн-цзы» (сочинения Мэн-цзы).].
Но Сайхэй пропускал мудрые сии слова мимо ушей. А между тем, если бы он послушался своего родителя, тот уже год или два назад вручил бы ему ключи от хозяйства и доверил вести все дела.
Как-то раз матушка Сайхэя, пустив в ход все свое хитроумие, потихоньку подозвала к себе сына и сказала ему:
– Нынешней весной тебе исполнится девятнадцать лет. Вот и поехал бы в столицу[53 - …поехал бы в столицу… – Несмотря на то что с начала XVII в. официальной столицей Японии стал город Эдо (ныне – Токио), в произведениях Сайкаку под словом «столица» («мияко»), как правило, подразумевается Киото, служивший резиденцией императоров и сохранявший престиж культурного центра страны.], полюбовался тамошними вишнями в цвету, а заодно и поразвлекся. Мы с отцом для того и копили деньги, чтобы ты мог их тратить. Непременно наведайся в веселый квартал Симабара[54 - Симабара – знаменитый веселый квартал в Киото.] и, если захочешь, перезнакомься со всеми таю. Или же поезжай в Осаку, сведи дружбу с тамошними актерами – какой тебе понравится, того сразу и выкупай. А вдобавок присмотри себе хороший дом на улице Мицудэра-мати, чтобы впредь было где остановиться. Даже если ты истратишь тысячу, две тысячи рё[55 - Рё – весовая единица для золота, ок. 10?г. Во времена Сайкаку имели хождение золотые монеты кобан номиналом в 1 рё.], нашего богатства от этого не убудет. Положись во всем на меня, я тебе дурного не посоветую.
Но Сайхэй остался глух к ее речам.
– Напрасно стараетесь, матушка. Для меня нет большего удовольствия в жизни, чем сумо, – отрезал он.
И на сей раз не пожелал он отказаться от своего пристрастия, – видно, таким уж упрямым уродился. Единственное чадо в семье – этим все сказано. Родители поняли, что уговорами ничего не добьешься, и махнули на него рукой.
Даже приказчики в лавке, и те его осуждали:
– При таких родителях можно было бы кутить в веселых кварталах сколько душе угодно. Чем не райское житье? А молодой хозяин только и знает что жилы из себя тянуть.
Теперь, когда никто уже не докучал ему своими поучениями, Сайхэй стал налегать на мясную пищу и от этого сильно прибавил в весе. В девятнадцать лет он выглядел на все тридцать, за короткое время стал совершенно неузнаваем.
Тут вся его родня собралась на семейный совет, и в итоге решили, что, ежели Сайхэя женить, нрав его может измениться к лучшему. Вскоре нашли ему подходящую невесту и справили свадьбу. Но Сайхэй так ни разу и не вошел в комнату своей молодой жены. Не зная, что и думать, родители попросили поговорить с ним кормилицу, которая нянчила его с младенчества.
– Будет обидно, если в самом расцвете сил я растрачу их зазря, – ответил ей Сайхэй. – Я поклялся богу Хатиману[56 - Хатиман – синтоистский бог войны, покровитель воинов.], богине Мариси[57 - Мариси – в японской буддийской традиции владычица небесных сфер, воплощение солнечного и лунного света. Почиталась воинами как защитница от поражений и дарительница воинской удачи.] и Светлому Владыке Фудо[58 - Фудо («Неколебимый владыка») – один из пяти грозных защитников буддийского учения; изображается посреди языков пламени. Отсюда – «гореть мне огнем».], что не лягу в постель с женщиной. Гореть мне огнем, коли нарушу эту клятву!
Как это ни печально, все оставалось по-прежнему: молодая жена была брошена в одиночестве, точно ненужное украшение, а Сайхэй продолжал спать в своей комнате.
– Нет у меня иных радостей, кроме сумо, – говорил он и упражнялся с еще большим рвением.
Со временем сила и сноровка его умножились, и он стал лучшим борцом сумо на всем Сикоку. При одном лишь упоминании об Араисо противники бежали, не чуя под собою ног.
– Теперь вряд ли кто осмелится выйти со мной на поединок. Я любого заткну за пояс! – бахвалился он. Неудивительно, что все вокруг его возненавидели.
Однажды в соседнем селении накануне тамошнего храмового праздника устроили состязание борцов сумо. Явился туда и Сайхэй. И вот какой-то парень из местных, подвизавшийся грузчиком, решил с ним сразиться. Он без труда приподнял Сайхэя и ловко повалил его наземь, так что сам несравненный Араисо с переломанными ребрами рухнул на помост, подобно лодке, разбившейся о неприступный берег. Сайхэя тут же водрузили на носилки и отправили домой.
Чего только ни делал Сайхэй, чтобы исцелиться, все было впустую, и он срывал злобу на окружающих. Стоило домочадцам допустить какую-то оплошность, как он набрасывался на них с грубой бранью. А слуг до того запугал, что они не решались войти к нему в комнату. Теперь родители были вынуждены сами растирать ему ноги и прибирать у него в постели, когда он справлял большую или малую нужду. Казалось, само Небо отвернулось от него. «Родительское наказание» – вот какое прозвище следовало бы ему теперь дать!
Из сборника «Дорожная тушечница»
Чертова лапа, или Человек, наделавший много шума из ничего
Однажды некий человек увидел, как в полдень увядают цветы вьюнка «утренний лик», и понял, что пора его собственного расцвета тоже незаметно миновала. Воистину, жизнь быстротечна и подобна дороге, по которой поспешает в сумерках странник, не ведая, где остановится на ночлег. И вот, проникшись этой мыслью, решил он отправиться в паломничество по святым местам.
Людские сердца несхожи меж собой, как цветы на разных деревьях. Даже в цветущей столице всяк перебивается на свой лад, а в отдаленных провинциях – так и подавно. «Хорошо бы записать обо всем, что я там увижу. Со временем из этих записей, как из семян, могут вырасти рассказы!» Снаряжаясь в путешествие, он приготовил дорожную тушечницу и запасся изрядным количеством туши, дабы черкать обо всем подряд, не жалея слов.
«Луна светит для всех одинаково, но каждый видит ее по-своему», – любил повторять этот чудак и не уставал дивиться тому, как много в нашем изменчивом мире любопытного и забавного. Жил он неподалеку от храма Тодзиин в Китаяме[59 - Китаяма – название гор, окружающих Киото с севера. Тодзиин – буддийский храм, воздвигнутый в XIV в. по приказу сёгуна Асикага Такаудзи.]. Крытая бамбуковым листом уединенная хижина, где проходили его дни, отнюдь не казалась убогой и была построена с большим тщанием. Звался этот человек Бандзаном. Его тронутые сединой волосы были острижены до плеч и гладко зачесаны. Носил он черную накидку, какую обычно носят благочестивые миряне, на мирянина он, однако, не походил, да и на монаха тоже.
По утрам и вечерам бил он в деревянный гонг и читал нараспев сутры, но не для того, чтобы, подражая Шакьямуни [60 - Шакьямуни (Будда Гаутама) – индийский мудрец и проповедник IV в. до н. э., получивший имя Будды, т. е. Просветленного; основоположник буддийского учения.]или Бодхидхарме[61 - Бодхидхарма (440?—528?) – буддийский монах; по преданию, в 475 (?) г. приехал из Индии в Китай и стал проповедовать там учение «чань» (яп. «дзэн»).], достигнуть просветления, а ради удовольствия, как иные распевают утаи. Обычно он обходился постной пищей, но ежели перепадал случай полакомиться рыбой или дичью, не отказывал себе в этой радости. После долгих часов молчаливого созерцания он любил проводить время в обществе хорошеньких женщин и вдыхать аромат алоэ, исходящий от их рукавов. Однако со временем он понял, что этот аромат, равно как и запах толченых благовоний[62 - Толченые благовония (макко) из ароматической древесины аквиларии и сандала использовались во время буддийских богослужений.], хранящихся у него в бумажном мешочке, – всего лишь дым, напоминающий о призрачности всего мирского, и отправился в путь.
Надев короткое дорожное платье и соломенные сандалии, Бандзан зашагал по ухабистым, мощенным мелким камнем улицам Киото. Но тут внезапно начался ливень, что нередко случается в весеннюю пору, и тяжелые капли застучали по его дождевой шляпе. Из-за долгих дождей вода в реке Сиракава поднялась, затопив перекинутый через нее мост и дорогу, по которой женщины из предместий носят в столицу хворост и дрова на продажу. Волны в реке вздымались высотою с дом, и пока люди беспокоились, как бы не обвалился берег, прорвало плотину. Жители окрестных деревень били в барабаны, оповещая всех об опасности, а тем временем по течению, словно огромные плоты, неслись рухнувшие в воду деревья. У Третьего проспекта творилось что-то невообразимое: вода подступила к воротам храма Тёмёдзи[63 - Храм Тёмёдзи – храм буддийской школы Нитирэн-сю в Киото.] и хлынула внутрь. Вот уж когда святому Нитирэну полагалось сочинить свою молитву о спасении в водной бездне![64 - Вот уж когда святому Нитирэну полагалось сочинить свою молитву о спасении в водной бездне! – Согласно легенде, монах Нитирэн (1222–1282), основатель буддийской школы Нитирэн-сю, отправляясь в ссылку на остров Садо в 1271 г., написал молитву о спасении в волнах.] Как ни пытались монахи сдержать поток, под его натиском обрушились южные врата, и статуи обоих благодетельных царей Нио[65 - Нио – два царя, божества индийской мифологии, вошедшие в буддийский пантеон как боги-хранители и защитники учения Будды. Статуи царей Нио воинственного и грозного вида помещались по обе стороны ворот, ведущих в буддийский храм.] оказались в воде. Барахтаясь в волнах, бедняги задыхались и беспомощно пускали пузыри, но спасти их никто не мог. Кончилось тем, что они ударились о край скалы и разбились.
В тот самый день, под вечер, человек по имени Дзиндаю, торговец дровами с Седьмого проспекта, вооружившись железными граблями, вытаскивал из воды принесенные течением деревья и неожиданно поймал отломившуюся руку одного из стражей врат. В простоте душевной он изрядно подивился находке и сказал своему помощнику:
– Не иначе это лапа самого черта! Сделаю-ка я ее семейной драгоценностью, только ты об этом пока помалкивай.
Дзиндаю велел помощнику принести из дома небольшой сундук, спрятал в него находку, а воротившись домой, обвязал сундук веревкой «симэ»[66 - Веревка «симэ» – толстый жгут из соломенных веревок с вплетенными в них полосками белой бумаги. В соответствии с синтоистской традицией, используется для огораживания сакрального пространства. Комизм описываемой Сайкаку ситуации заключается в том, что в качестве святыни выступает лапа черта.] и поставил в кладовую.
На следующий день Дзиндаю сам повсюду растрезвонил, что вытащил из воды лапу черта. Поначалу ему не верили, но поскольку торговец слыл человеком правдивым, многие загорелись желанием увидеть чудесную находку и стали его упрашивать:
– Дайте хоть одним глазком взглянуть на ваше сокровище. То-то будет о чем рассказать внукам и правнукам!
Даже среди стариков были такие, кто говорил:
– Эх, только бы увидеть чертову лапу! После этого можно и помирать спокойно.
На молодых же и вовсе не было удержу, они осаждали дом Дзиндаю, не задумываясь о последствиях. Лишь у тех, кто побогаче, кому было что терять, хватило ума не лезть на рожон.
В итоге набралось одиннадцать доброхотов, отважившихся взглянуть на сокровище Дзиндаю. Прежде чем отправиться к нему, каждый приготовился на свой лад: кто-то на прощание выпил с женой по чарке сакэ, кто-то надел кольчугу, кто-то прицепил к поясу меч, передававшийся в его семье из поколения в поколение, а кто-то сунул за пазуху горсть бобов, оставшихся с праздника Сэцубун. Остальные вооружились палками, дубинами и деревянными кольями. И хотя все они дрожали от страха, толпясь у ворот Дзиндаю, им не терпелось поскорее увидеть чертову лапу. Ныне, как и в старину, немало простецов!
Но вот наконец наступил вечер – время, которое Дзиндаю счел наиболее подходящим для осмотра своего сокровища. Сам он снарядился еще более тщательно, чем прочие, и, взяв в руку свечу, пригласил всех в кладовку.
– Лапа находится в этом сундуке, – объявил он. – Сейчас я открою крышку.
Переглянувшись между собой, все окружили сундук и заглянули внутрь. И – о, чудо! – в этот миг чертова лапа как будто шевельнулась. От испуга люди едва не лишились чувств, а тот, кто пришел с мечом, вытащил его из ножен да впопыхах и поранился. Как бы то ни было, весть о диковинном происшествии вмиг облетела город, и весь вечер в ворота Дзиндаю ломились любопытные.
А наутро стало известно о двух статуях, унесенных водой из храма Тёмёдзи, и теперь все вокруг потешались над событиями минувшего вечера. Дзиндаю же, который наделал столько шума из ничего, с тех пор величали не иначе, как «Вторым Ватанабэ-но Цуна»[67 - Ватанабэ-но Цуна (953–1024) – храбрый самурай, по преданию прославившийся тем, что отсек лапу черту.].
Долгий путь к знакомому изголовью
На побережье Авадзи, где, по слову поэта, разносится «чаек пролетный крик»[68 - «…чаек пролетный крик…» – цитата из пятистишия (танка) Минамото-но Канэмаса (конец XI в.). Перевод?В. С.?Сановича.], Бандзану довелось услышать одну поистине печальную историю. Занесло его в те края потому, что корабль, на котором он плыл, сделал остановку в бухте у острова Эдзима, и ему поневоле пришлось дожидаться здесь утра. Унылое это было место. В старинной песенке поется о «цветущем Эдзима». И где только привиделись цветы тому, кто сложил эту песню? Стояла весна, но нигде не видно было ни единого вишневого деревца, и вокруг было пусто, как в осенние сумерки. «Лишь в бухтах – бедные рыбачьи шалаши…»[69 - «Лишь в бухтах – бедные рыбачьи шалаши…» – цитата из пятистишия Фудзивара-но Садаиэ (1162–1241). Перевод А. Е.?Глускиной.]
В поисках ночлега Бандзан заглянул в один из этих шалашей, а там собрались местные жительницы, чтобы за чаем посудачить о том о сем. Как водится, те, что постарше, были не прочь позлословить о своих невестках.
– Поспешность никогда не доводит до добра, – произнесла одна из них с таким важным видом, что Бандзан решил расспросить ее поподробнее.
И вот что она рассказала.
Жил в той бухте рыбак по имени Китагиси Кюроку. Каждый год уходил он в восточные моря на лов сардин и тем добывал себе пропитание. Обычно вместе с ним отправлялись на промысел и его приятели-рыбаки, но прошлой осенью Кюроку отправился в одиночку.
Шло время, а Кюроку все не возвращался. Весточки о себе он подать не мог, потому что не знал грамоты, вот и получилось, что, сам того не желая, он заставил своих близких тревожиться понапрасну. К тому же осень в том году выдалась непогожая, и рыбачьи лодки тонули одна за другой.
– Видно, нашего Кюроку уже нет в живых, – сокрушались его домочадцы.
А тут еще пронесся слух, будто кто-то собственными глазами видел, как лодка Кюроку ушла под воду, а вместе с ним погибло еще двести пятьдесят рыбаков.
– Недаром было у нас недоброе предчувствие. Хорошо, что мы дома остались, – говорили друзья Кюроку, и от этого на душе у его близких становилось еще тяжелее.
Но горше всех было, конечно, жене Кюроку – она так страдала, что готова была лишить себя жизни. Войдя в семью на правах мужа-примака, Кюроку жил с ней в любви и согласии и родителей ее почитал. Лишиться такой опоры было великим несчастьем, и все вокруг ее жалели.
Наступила зима, за нею – весна, миновал почти год, а от Кюроку по-прежнему не было ни слуху ни духу. Теперь ни у кого не оставалось сомнений в том, что он погиб. Считая день, когда он покинул родное селение, днем его кончины, близкие Кюроку пригласили священника и отслужили по нем поминальную службу, а вещи его отправили в родительский дом.
Проходит время, и горе постепенно забывается – так уж устроена жизнь. Глядя на жену Кюроку, овдовевшую в самом расцвете молодости, родственники принялись ее уговаривать:
– В твои годы обидно оставаться одной. Нашла бы ты себе мужа, утешила родителей на старости лет.
Но та и слышать ничего не хотела. В скором времени намеревалась она отречься от бренного мира, остричь волосы и провести остаток жизни, возжигая благовония и ставя цветы на божницу в память о покойном муже. Но родственники не отступались.
– Рассуждать так может лишь дочь, забывшая о своем долге перед родителями, – твердили они и в конце концов уговорили ее снова выйти замуж.
Вскоре выбрали счастливый день и назначили свадьбу. В мужья ей достался Коисо-но Мокубэй, рыбак из того же селения. И наружностью своей, и сноровкой превосходил он Кюроку, – и захочешь придраться, да не к чему. Готовясь к встрече нового зятя, родители женщины радовались, а родственники и подавно воспрянули духом. Чтобы не ударить в грязь лицом, свадьбу сыграли по всем правилам: жених, как положено, облачился в хакама[70 - Хакама – широкие штаны в складку, первоначально принадлежность костюма придворного и воина-самурая; впоследствии их стали носить и простолюдины в качестве церемониальной и праздничной одежды.], а невеста украсила прическу самшитовым гребнем. Когда молодые приступили к троекратному обмену чарками сакэ, в дощатую дверь их ветхой лачуги полетели камешки – подобный обычай существует повсюду и объясняется не чем иным, как завистью к счастливым жениху и невесте. С наступлением ночи, когда шум поутих, новобрачные улеглись в постель и сдвинули изголовья. Тут женщина как-то само собой забыла прежнего мужа и отдала свое сердце Мокубэю.
Утомившись за вечер, все в доме крепко спали, когда из дальних краев нежданно-негаданно воротился Кюроку. Войдя в дверь без спросу, как и пристало хозяину, он прямиком направился в спальню к жене, по которой сильно стосковался за время разлуки. Сквозь оконце, выходящее на юг, уже пробивались солнечные лучи, и небрежно рассыпавшиеся по изголовью волосы показались Кюроку еще прекрасней, чем прежде. «Краше моей жены нет женщины в нашем селении», – с гордостью подумал он и пристроился в постели рядышком с нею. Женщина тотчас же проснулась и, вскрикнув от неожиданности, залилась слезами. Вслед за тем из-под одеяла показалась голова оторопевшего Мокубэя.
– Как это понимать? – произнес Кюроку, закипая гневом.
Женщина стала объяснять, отчего да почему так произошло, но Кюроку не пожелал слушать никаких оправданий. Вот что значит злая судьба! Самым обидным для него было то, что из всех мужчин его жена выбрала именно Мокубэя, с которым они давно уже враждовали! В тот же миг в душе Кюроку созрело решение, но прежде, чем его осуществить, он рассказал жене о мытарствах, которые ему пришлось претерпеть, пока его лодку носило по бушующему морю. После этого он взял нож, убил сначала жену, потом Мокубэя, а напоследок себя самого. Для жителя захолустного рыбацкого поселка это был поистине удивительный поступок!
Чудесные звуки барабанчика, завлекшие странника
Как ни хотелось Бандзану подольше остаться в Киёмигата[71 - Киёмигата – название части морского побережья в нынешней префектуре Сидзуока.], с первыми рассветными ударами колокола он пробудился ото сна, покинул свой ночлег и снова отправился в путь.
Холодный ветер раскачивал сосны на мысу Ми-хо. Слева от бухты Таго высился мрачный горный перевал Сатта, откуда доносились унылые крики обезьян. С побережья вспорхнула стая чаек, и от этого окрестный вид сделался еще более печальным. Над котлами, в которых выпаривали соль, поднимался легкий дымок. Белые облака окутали Фудзи, и давнее намерение Бандзана посвятить этой знаменитой горе какие-нибудь шутейные стихи так и осталось втуне. Путь его лежал в сторону Юи и Камбары[72 - Юи, Камбара – почтовые станции на дороге Токайдо.], где вылавливают диковинную рыбу по названию «ягара» – «стрела»[73 - Ягара – рыба из класса лучепёрых с длинным тонким телом, похожим на стрелу.]. Чтобы разогнать сон, он закурил трубку и побрел по камышовому лугу, за которым следовала сосновая роща, открытая всем ветрам. Недолго думая, он сел в лодку, переправился на другой берег реки Фудзикава и оказался в долине Укисима. Оттуда ему пришлось идти по заросшему сухим мискантом полю. И тут перед взором Бандзана предстала гора Асигара во всем ее великолепии. С тех пор как он с дорожным посохом в руке отправился в странствие, ничего подобного ему еще не доводилось видеть. Вот уж истинная отрада для глаз!
Горную тропу обступали усыпанные плодами кусты бадьяна, цвели камелии, а увядшие листья плюща казались еще более яркими, чем осенью, и скрашивали своей зеленью неприглядность скал. Струящийся по склону ручеек замерз и подернулся льдом. Вершина горы была убелена снегом, как старец сединами. На пути то и дело попадались дубовые пни, – видно, когда-то здесь жгли уголь, но печей нигде уже не было. Пробираясь сквозь густые заросли покрытого инеем низкорослого бамбука, Бандзан замочил рукава своего платья. «Поскорей бы выглянуло солнышко!» – подумал он, но ни один луч не проникал в это сумрачное царство.
Неожиданно дорога пошла под уклон и вывела Бандзана к какой-то пещере, откуда доносились звуки барабанчика, едва различимые сквозь плеск волн в озере неподалеку.
«С чего бы это в горной глуши играли на барабанчике?» – удивился Бандзан, насторожил слух, и почудилось ему, что в пещере и вправду кто-то есть. В тот же миг перед ним мелькнули рукава одеяния из тончайшего алого шелка, и на него повеяло ароматом благовоний. Бандзана вдруг стало клонить ко сну. Притаившись за криптомерией, он заглянул в глубь пещеры и увидел совсем еще юную девушку дивной красоты.
«Странно, – подумал Бандзан, – что она живет здесь одна, вдали от людей».
Девушка заметила Бандзана, однако не проронила ни слова и даже не улыбнулась. «Уж не изображена ли она на картине?» – засомневался Бандзан. Пересилив страх, он подошел поближе и спросил:
– Как ты здесь очутилась?
И вот что он услышал в ответ:
– Я прихожусь дочерью человеку по имени Тёдзо, виноторговцу из города Футю в Суруге. Когда мне исполнилось девять лет, матушка моя умерла и вскоре отец снова женился. Так уж повелось на свете, что мачехи редко благоволят к падчерицам, меня же моя мачеха люто возненавидела. Но я всей душой почитала ее и старалась ей угодить. В ту пору, когда миновала моя тринадцатая весна, у мачехи появился возлюбленный. Мало-помалу люди проведали об этом и стали шептаться у нее за спиной. Чтобы выгородить себя перед отцом, мачеха представила дело так, будто возлюбленный ходит ко мне. «Какое бесстыдство!» – вскричал отец и учинил мне допрос. «Если рассказать все, как есть, – подумала я, – мало того что за мачехой утвердится дурная слава, так еще и слуга, который был посредником в ее любовных делах, подвергнется смертной казни, а я прослыву неблагодарной дочерью. Уж лучше взять вину на себя и пожертвовать собой ради спасения других. Ведь именно так велит нам долг чести и послушания родителям». В тот же вечер я написала записку, в которой сознавалась в мнимом своем прегрешении, тайком выскользнула из дома и нашла прибежище в этих горах. Пять дней я не брала в рот ни еды, ни питья, только читала по памяти сутры и молилась, а на шестой день слегла и уже не могла подняться. «Вот и пришел мой смертный час», – решила я, но вдруг произошло чудо: воздух наполнился благоуханием, и в рот мне потекли капельки росы. В тот же миг я почувствовала, что оживаю, и силы вернулись ко мне. Время от времени с неба спускался божественный отрок и играл со мной. Тело мое сделалось невесомым, я перестала ощущать жажду, голод и холод и забыла о существовании времени. Когда зацветают азалии, я знаю, что наступила весна, начинают осыпаться каштаны – для меня это знак, что пришла осень. Вот уже тридцать лет, как я живу в этих горах. Мне дарована волшебная сила, благодаря которой я знаю обо всем, что происходит у меня на родине. Семнадцать лет назад мачеха моя умерла, а меня вот судьба пощадила – недаром говорят, что Небо милосердно. Как удивительно, что вы оказались в этих местах, куда редко заглядывают странствующие монахи, и я смогла излить перед вами душу!
Рассказ девушки был поистине необычаен, словно какая-то повесть из старинной жизни. Бандзану казалось, что он внимал ей совсем недолго, а между тем в мире людей прошло целых три дня.
На возвратном пути Бандзан наведался в Футю и остановился там на ночлег. Утром он рассказал хозяину постоялого двора о таинственной пещере и ее обитательнице. Тот всплеснул руками:
– Человека по имени Тёдзо давно уже нет на свете, да и родня его, похоже, вся вымерла. И впрямь диковинная история! Не могли бы вы проводить меня к тому месту в горах?
Прихватив с собой двух или трех человек, хозяин вместе с Бандзаном отправился к той пещере. Но там обнаружили они лишь барабанчик да платье из тонкого шелка. Самой же девушки и след простыл.
Кому веселая свадьба, а кому – река слез