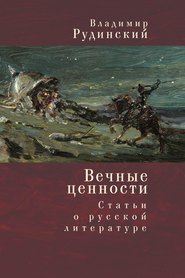скачать книгу бесплатно
Грозный и стопобедный.
И покорились ему как судьбе,
И поклонились
Даже фигуре его темно-медной
На темно-медном столбе!
Братство – великое слово —
Было не так уж ново,
Пастыри стада Христова
В мире его разнесли,
И говорят, что кого-то спасли…
Но это братство по-своему поняли,
Те, кого речи мои сильно проняли.
И довольный еще успехом, Асмодей рассказывает:
Новые фразы
Стал я ковать,
в таком стиле:
Слава есть дочь легковерия;
Нравственность – мать лицемерия;
Прелесть искусства – разврат;
Кто терпелив, тот не стоит свободы;
Где постепенность – там зло…
Крови своей не жалейте, народы!
Все начинай с ничего!..
А в результате:
И услыхал, наконец,
Как откликается злоба,
Как заправлять человечеством
Лезет последний глупец.
Чтоб окончательно спутать идеи
Партии стал я плодить
Непримиримые,
Неукротимые,
И в наши дни
Тем велика их заслуга,
Что без пощады друг друга
Резать готовы они…
Так, Сатана,
С ярыми криками:
«Мир и свобода!»
Буду на сцену
Я выводить
То тиранию народа,
То деспотизм одного
Вот мои планы…
Буду менять декорации,
И, может быть,
До нищеты и бесславия
Мной доведенные нации
Будут читать
Только одни прокламации
И проклинать, проклинать, проклинать!..
Кроме того, ловкий бес применил технический прогресс к военным целям:
И города превращаю в развалины,
Так сотни тысяч людей
Разорены по команде моей
И миллионы людей опечалены.
С торжеством исполнительный черт заключает хвастливо свой рапорт:
От произвола, клевет, нищеты и разврата
Полмира гниет.
Но этого, оказывается, мало:
Только-то?! А!..
Только одна половина!
восклицает Сатана,
Значит, другая в цвету обретается?
и отправляет своего клеврета обратно на Землю, довершить начатое.
Что же, дело идет. Взгляните вокруг себя, читатели! Однако, будем надеяться, что за правду сражается сам Бог; о Нем же Пушкин сказал:
Но пала разом мощь порока
При слове гнева Твоего.
Авось дождемся и мы такого слова, и рухнут от него все хитросплетения диавольские!
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 12 ноября 1987 г., № 1950, с. 4.
Ангел, а не демон
Весь Лермонтов заключен в раннем стихотворении «Ангел». Душа его услышала на миг каким-то чудом ангельское пение,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Случилось ли это через романсы, напеваемые матерью в его детские годы, – можно лишь гадать.
Отголосков этой райской гармонии поэт искал, – всю жизнь, – везде. В музыке:
Что за звуки! жадно
Сердце ловит их…
Она поет и звуки тают…
В беседах с людьми:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Он, однако, не встречал ответа «Средь шума мирского». Но мы-то божественную, ни с чем не сравнимую мелодию улавливаем через его стихи, которым в нашей литературе нет подобных.
Воспринимал он и иные голоса, в том числе в шумах природы:
Брат, слушай песню непогоды:
Она дика, как песнь свободы.
Но те с основным мотивом, заложенным в его сердце, не сливались.
Их-то отражение, однако и дало почву для домыслов о демонизме поэта, возникших еще до революции и, – как ни странно, – бытующих до сей поры, даже и в среде эмиграции.
Что до большевиков, то они (легко понять!) изображают Лермонтова убежденным атеистом и пламенным богоборцем.
Но посмотрим, что говорит он сам, в своих лирических стихах, где, как известно, автор лгать не может.
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть;
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Довольно странное занятие для атеиста и богоборца! И тем более продолжение:
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых.
Еще полнее выразил он свои чувства в стихотворении, явно идущем из самой глубины сознания: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою», содержащем обращение к: «Теплой Заступнице мира холодного».
Или надо понимать так, что в Бога он не верил, а в Богородицу верил?
Допустим, строки из «Казачьей колыбельной песни» можно списать на местный колорит (хотя уж очень искренне они звучат), а все же их приписать атеисту трудно:
Дам тебе я на дорогу
Образок святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой.
Какие удивительные советы со стороны богоборца!
У которого, притом, с Творцом особые, близкие отношения: «И в небесах я вижу Бога».
И, наконец, процитируем одно из самых любимых советскими лермонтоведами стихотворений: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата».
Если бунтовать против Бога – не абсурдно ли заранее признавать, что Его суд справедлив? Положим, по коммунистическому канону, здесь речь идет про грядущий, народный, пролетарский суд. Ну, насколько праведен сей последний бывал, мы кое-что знаем… Коли же речь о небесном суде, – то как мыслимо восставать против тут же утверждаемой справедливости?
В свете приведенных выше образцов, приходится вроде бы считать Михаила Юрьевича одним из самых благочестивых и глубоко верующих поэтов России (а верующими они были почти все). И верно увидел именно такие свойства его сочинений историк Ключевский, разгадавший их христианскую сущность.
Вовсе уж несообразны потуги советских литературоведов изгнать из творчества Лермонтова какую бы то ни было «метафизику». Курьезно поистине такое утверждение о поэте, у которого все время действуют персонажи, именуемые «Ангел», «Азраил», «Ангел Смерти» и «Демон». А слово ангел вообще у него одно из наиболее часто употребляемых.
Цветаева о себе говорила, что ей бы легче было жить в мире ангелов, чем в земном. Возможно. Но в ее произведениях это не отражено.
Тогда как Лермонтов всегда этим и дышит. Даже и в минуты горьких сомнений, когда произносит:
Нам небесное счастье темно.
Не только в стихах.
Природа Печорина есть то, что он – падший ангел. Отнюдь не демон, – он не ставит себе целью творить зло (хотя его поступки часто ведут ко злу для окружающих).
Но вот потому, по причине происхождения, он и ощущает в себе «силы необъятные», которые тратит на бессмысленные действия, – борьбу с ничтожными людьми, обольщение женщин без серьезной к ним любви.
И вот абсолютная разница между героем и его создателем. Лермонтов свои поистине необъятные силы частично реализовал своим грандиозным вкладом в поэзию и прозу (отчасти и живописи), – а мог бы осуществить бесконечно больше.
Но… он сам просил скорой смерти. Она ему и была дарована.
Не раз отмечалось, что он дерзостно говорит нередко с самим Господом Богом. Но кто больше на то имеет права, чем поэт, наделенный непосредственно от Вседержителя даром «чудных песен?»
Загадочная фигура его выглядит не падшим ангелом, а скорее небожителем, посланным в низший мир, кто знает? на испытание или для свершения порученной ему (но не открытой ему) задачи.
Крайне несостоятельны попытки выполнителей красного социального заказа доказать, будто Лермонтов был не романтик, а реалист (мол, начал-то как романтик, но потом сделался реалистом). На деле, его самые последние – дивные – стихи полны подлинно неистового романтизма: «Любовь мертвеца», «Свидание»; как и писавшийся им в течение всей его, – увы, короткой, – литературной деятельности «Демон».
О реализме, в применении к такому поэту мыслимо говорить разве только, если подразумевать высший реализм, рассказывающий о потусторонних, небесных и адских, надмирных и космических силах.
На предмет превращения великого поэта в реалиста (хорошо, что хоть не в «социалистического»!) приводятся вполне идиотские доводы вроде того, что де в «Герое нашего времени» подробно и точно описан быт Пятигорска тех лет.
Так разве Вальтер Скотт в «Антикварии» или Виктор Гюго в «Отверженных» не дают весьма обстоятельного изображения нравов и обстановки современных им Шотландии и Франции? А уж их права на звание «романтиков», сколько нам известно, никто не оспаривает!
Впрочем, по окаменелым схемам большевицкого литературоведения русские романтики чуть ли не сводятся все к Марлинскому и Жуковскому… А то, что им был, о чем сам громко заявлял, Пушкин, равно в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане», как и в «Полтаве» и «Египетских ночах», что им же бесспорно был Гоголь в «Страшной мести», «Портрете» и «Тарасе Бульбе», это старательно игнорируется.
Реализм же у Лермонтова можно обнаружить разве что в «Сашке» (да в гусарских поэмах, которых бы лучше ему было не писать), а у Пушкина, допустим, в «Домике в Коломне» и с грехом пополам в «Графе Нулине».
Касательно упомянутого нами выше пресловутого демонизма, – демонические образы, конечно, налицо, в частности в «кавказских» поэмах, навеянные в немалой степени Байроном, но отчасти и самым характером горских нравов. Но можно ли отождествлять, будь то лишь на мгновение, личность Лермонтова с такими его персонажами как мрачные убийцы Хаджи Абрек или Каллы? Мало у него общего и с борцом за чеченскую независимость Измаил-беем.
Это вообще порочный метод смешивать писателя с выведенными им на сцену персонажами. Особенно яркое выражение он нашел в книге Анри Труайя[76 - Анри Труайя (Henri Troyat; наст. имя. Лев Асланович Тарасов; 1911– 2007) – французский писатель армянского происхождения. Автор многих биографий известных русских и французов.] «L’еtrange destin de Lermontof[77 - «Странная судьба Лермонтова» (фр.).]f », где автор выписывает целые страницы из «Дневника Печорина», относя их целиком к самому Лермонтову.
Нет уж совсем никаких оснований, как делают это советские борзописцы, приписывать Лермонтову близость и симпатии к декабристам. Напротив, известно, что при встречах с ними он у них оставлял о себе крайне неприятное впечатление (без сомнения, взаимное), как в случае с Лорером. Дружба же с А. Одоевским носила чисто личный характер, не имея ничего общего с политикой.