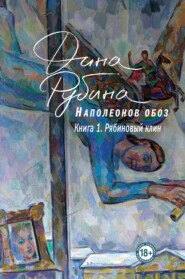
Полная версия:
Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин
– Почему? – спрашивал в этом месте Сташек, который больше всего на свете любил читать и ужасно жалел отца, у которогохорошая родня отняла все книги. Отец всегда отвечал непонятно: «Потому что они – Матвеевы, а не Бугровы», – тоном, исключающим продолжение ненужных расспросов.
Так вот, хозяйство у Матвеевых было немалое, и хотя батраков никогда не держали – трое сыновей, и мужики все крепкие, трезвые и толковые, – после октябрьского переворота, когда деревенские смутьяны принялись еженощно палить зажиточные избы (пьяная блядова́, говорил дядька Назар, поживу чует, а главное, во власти чует своих, таких же охотников грабануть чужое) – задолго до «Великого перелома» из родного села просто бежали.
Было это так: старик Матвеев, человек угрюмый и решительный, после очередного «случайного» на селе пожара, решил не дожидаться в гости красного петуха; тем же утром снарядил в дорогу одного из сыновей (как раз дядю Назара), с поручением «осмотреться, где воздух чище» и по возможности зацепиться. Отцово напутствие тот понял по-своему и решил, что воздух ныне чище на железных дорогах, где пролетают составы туда и сюда и вихри сметают все худые людские намерения…
Поколесив от Владимира до Нижнего, приглядел он станцию Гороховец. Местечко тихое, – передал своим, – до города вёрст десять, население всякое-пришлое, мастеровое-обслужное, каждый вкалывает для себя.Обчеству не до собраний.
Тут же за ним потянулась семья: а чего ждать? Матвеевы, все как на подбор, люди были осторожные: ухо всегда востро, а нос чует опасность загодя, едва она первым дымком займётся.
Сташек всю жизнь встречал подобных людей среди старшего поколения: несмотря на отсутствие, в сущности, всякого образования, понятие о жизни – трезвое, суждения точные и несуетные, а ум – ясный и безо всяких пустых обольщений.
Вот батя, Семён Аристархович Бугров, любую заковыку, любой затор в деле предвидел заранее и умел быстро перегруппировать силы и вывернуть события к общей пользе. В работе не терпел праздной болтовни, и от решения до действий путь у него был короток. На любой должности вокруг него начинали живее крутиться невидимые колёсики, всё ржавое и старое, включая людей, заменялось, подтягивалось и начинало работать как бы само собой. Он механизм всего дела видел, как часовщик видит в лупу мельчайшие детали – всякие там аксы-пружинки, вилки-балансы, анкерные колёса; ухватывал самый корень проблемы, уже понимая, как его выдернуть. Словом, в кутерьме первых десятилетий советской власти батя быстро выдвинулся, по служебной лестнице не поднимался, а прямо-таки взбегал через три ступени, и к началу войны был уже начальником станции Горький-Сортировочная в чине инженера третьего ранга, что приравнивалось тогда к званию майора.
Что за время было кромешное, ни к чему живописать, всё знаем из многочисленных фильмов и книг; можно только представить, какой вал составов шёл через станцию с востока на запад и с запада на восток! Стратегически важный объект, ответственность смертельная, бессонная, должность не для нервных: круглые сутки на ногах, голос сорван, глаза, как из пожара, если что и держит, так только курево и родная речь – надёжный русский мат, который никогда его не подводил.
Так он однажды обматерил самого Кагановича: тот явился на блокпост, командный пункт станции, в раскалённый момент отправки нескольких составов. В суматохе его не опознали. Отец, понятно дело, аж позеленел от ошибочки, а тот ничего, вполне добродушно отнёсся. Видать, в Кремле его обкладывали почище батиного.
– Семён Аристархович, – обратился к отцу нарком. – Вижу, ты работу никому не передоверяешь, лично за всё болеешь, молодец. Но, говорят, тот начальник хорош, у кого дело делается, даже когда он в отлучке. Давай-ка мы с тобой на балконе тут выпьем-закусим, а твои ребята пусть без тебя разбираются. Идёт?
Что отец мог ответить такому начальству! Поблагодарил за приглашение, сел к столу (холуи Кагановича накрыли его молниеносно) и стал выпивать-закусывать, вести культурную беседу с наркомом, мать его, путей сообщения. О чём – не помнил, хоть убей, и спустя много лет так и не вспомнил. Сидели до вечера, а на станции – ни единого сбоя!
Наконец Каганович поднялся, расправился, ноги размял. Подал бате руку и говорит:
– Ну что ж, Семён Аристархович, хороший ты начальник, станцию наладил толково, вижу, тут и без тебя справляются. Поедем, поработаешь у меня в наркомате.
Тот взмолился:
– Помилуйте, Лазарь Моисеевич, какой из меня работник наркомата! У меня всего образования – два класса начальной школы!
– Ничего, – невозмутимо отвечает Каганович, – мы не бюрократы. Образование дело наживное. Главное, голова у тебя ясная и опыт работы есть. Месяц даю на сборы.
Но прав был нарком: голова у бати была ясная. Газет он не читал, времени на это не хватало, но радиоточка в доме не выключалась никогда, так что о повальных арестах-расстрелах он знал и особых иллюзий никогда не строил ни о власти, ни о себе – ещё с тех времен, когда всей семьёй они бежали из родного села. Так и не поехал за Кагановичем, всю войну на Сортировочной лямку тянул. А позже Лазарь Моисеевич припомнил его уклонение от барской милости, перевёл начальником на станцию Вязники. Явное понижение, но ничего не попишешь: «минуй нас пуще всех печалей» – это ещё классик сказал.
Мама в этом месте рассказа не забывала добавить: «Легко отделался». «Легко?!» – шутливо возмущался батя, обеими руками на неё же указывая. Это была старая шутка: мол, как же это легко, когда ты меня и окрутила на той же станции!
Мама от поезда отстала, от своего ударного студенческого стройотряда, и дальше уже не поехала, очарованная лёгкой сединой сурового начальника станции. Отец был старше мамы на девятнадцать лет, но углядела же она – красавица, артистка-активистка! – нечто особенное в этом, даже по виду одиноком и немолодом человеке. Ради него институт бросила, друзей, будущую профессию, – в сущности, законопатив себя в провинциальной тесноте посёлка Нововязники. Вот уж поистине: «и прилепится к мужу…»
Через год после знаменитой в семье стычки отставшей студентки с «железнодорожным бюрократом» родилась сестра Светлана, а шестнадцать лет спустя (мать думала, что уже выскочила из опаснойзоны залёта, да и отца, седого и почти лысого, признаться, считала уже неплодным), огорошил всех поздний, никем не жданный, трудно рождённый, но такой любимый Сташек. Особенно батей любимый, и того можно понять: наконец-то в семье возобновилась традиция, вековая чечётка имён – Аристарх-Семён-Аристарх-Семён! Аристарх!
Глава 2
Станция
От проходящих поездов дома дрожали.
Сташек этого не чувствовал, с детства крепко спал. А родители, если, к примеру, опаздывал кировский, просыпались и не спали, пока тот не прибудет. Спали они спокойно, только когда поезда шли по расписанию.
Гомон, отдышка, вибрации ивизго-лязги станции были той вспухающей опарой, в которой проходила жизнь всего поселка Нововязники. Днём сплошным воздушным потоком: гудки, стук колес, бубнёж репродукторов о прибытии-отбытии составов… Ночь была грузовой-рабочей, простёганной окриком матюгальника; как поплавок на поверхности воды, он возникал и опадал в тёмной толще звуков, чтобы выскочить в следующее мгновение хрипящей матерщиной. Пока тягач формировал состав под разгрузку (вагоны приходили с разными составами, какие-то нужно отцепить-отогнать, вновь соединить для перегона к пакгаузу, – крупный был узел, 14 путей, и только два пассажирских, остальные под товарняки), матюгальник работал безостановочно. Вдоль всех путей висели «колокольчики» – динамики, соединённые с блокпостом, – и оттуда непрерывно неслось: «Четвёртый маневровый на третий путь!», «Второй маневровый подцепляй вагоны с углём к составу на пятом пути!» – орнаментированное такими фиоритурами, что впоследствии ничто в этом виде искусства не могло поразить нашего героя.
Извергавшиеся из матюгальника сложные смысловые конструкции в детстве, бывало, занимали воображение мальчика (например, пожелание тупому машинисту забеременеть от слона, с подробными уточнениями – что, куда и на какую глубину при этом будет вставляться) и казались Сташеку непременным условием успешного преодоления работы. Будто все усилия людей, как физические, так и умственные, все действия подвластных им механизмов осуществлялись с поддержкой особого рабочего языка, более устрашавшего и вдохновлявшего, чем обиходный русский. В семьях его дворовых приятелей этот язык тоже был в ходу и, возможно, поэтому меж собой пацаны обходились без мата: футбол, или войнушка, или ещё какая игра – это ж не работа. Ну, скажешь: «блин!» – чтобы досаду выплеснуть, оно и ладно.
Вокзал был старинный каменный, и выкрашен, как Екатерина Вторая велела, в жёлтый цвет. Только псевдоколонны на входе да гипсовые наличники на окнах ежевесенне красили белым. Вокзал Сташеку нравился, он был солидным, опрятным, и всё, что нужно для станции и пассажиров, в себе содержал: столовую, буфет, зал ожидания, медпункт, парикмахерскую; наконец, туалет, не по-вокзальному чистый. Батя, чей кабинет находился на втором этаже, рядом с бухгалтерией и коммутатором железнодорожной связи, частенько спускался даже не по нужде, лично проверяя состояние дел, так что уборщица Мария Харитоновна с ведром и шваброй не расставалась. Он не терпел безобразий, мерзкого запаха, воровства и безделья. По мнению подчинённых, Семён Аристархыч жестковат был и вспыльчив, хотя… Тут следует сделать оговорку, припомнить некие с его стороны исключения, даже попущения…
Но будем же обстоятельны. Сначала – двор.
* * *Со всеми своими сараями-огородами, садами-палисадами, чердаками-погребами двор примыкал к зданию вокзала. Дома назывались «железнодорожными», ибо принадлежали ведомству путей сообщения и поставлены были прочно, – бревенчатые, обшитые досками и внутри и снаружи весьма хитро: с одной стороны доски тонкий выступ, с другой – канавка. Доски накладывались друг на друга, выступы вставлялись в канавки и для надёжности пришивались гвоздями-сотками. Дома обстояли просторное поле, внутри которого, на утоптанной земле, по весне прошитой худосочной, но неубиваемой травкой, и протекала дворовая жизнь. А двор – это несколько семей, вынужденных поддерживать добрососедские отношения.
Первым, торцом к перрону, буквально в десяти метрах от путей шёл дом Башкирцевых; далее жили нелюдимые Колюжные, со своим вредным, вечно подглядывающим дедом (заберёшься в собственный сарай, а в щели, как мышь в подполе, рыскает его голый розовый глаз); за ними жили многодетные Панкратовы, следом – станционный милиционер Костя Печёнкин… Затем линию домов прерывал проезд для машин на пакгауз, за которым лепилось краснокирпичное, под шиферной крышей здание пожарной части и бревенчатый склад железнодорожного инвентаря, где впонавалку лежали тулупы, сигнальные фонари, свистки, флажки и прочее, весьма привлекательное для пацанов хозяйство. И всё это тоже был Двор.
Складом заведовала одинокая пьющая Клава Солдаткина; она подторговывала тулупами, на что и пила. Предназначались тулупы для охранников, сопровождавших составы; те ехали в открытом тамбуре последнего вагона, – зимой жуть как холодно, даже в пересменку. Именно в этих тулупах, никем и никогда неучтённых, поголовно все ходилинаши цыгане.
Впрочем, не до цыган сейчас, о них позже… Цыгане, это не детство даже, а юность, с её ожесточёнными драками, разделом территории и завоеванием авторитета, с внезапной дружбой, взрывной ненавистью и налетевшим, как порыв ветра, уходом за чужим табором, за иной любовной дрожью, за печально-весёлой Папушей, которую наш герой выбрал себе в учительницы. Нет, сейчас не до цыган.
А Клава Солдаткина пришлой была и мутноватой, откуда-то из южных республик – то ли Казахстана, то ли Киргизии. До сих пор ходила в остроносых галошах, одетых на портянки. Чтобы те не хлюпали и не спадали, через дырочку в заднике продевала верёвку, дважды обвязывая ею щиколотку. На голове выплетала жидкие косицы, а поверх нахлобучивала засаленную тюбетейку с вышитыми огурцами. Свёклой рисовала на щеках два аккуратных круга: не то лубочная боярышня, не то базарная матрёшка, и материлась через два на третье, как-то оригинально: к общеизвестным словам присобачивая тюркские окончания. Не «сука» произносила, а «сукалар». Когда требовалось усилить эффект, Клава со страстным напором добавляла: «ебанутый сукалар!»
Именно так она именовала Веру Самойловну Бадаат, с которой иногда сталкивалась в хлебном ларьке и, как многие, подвергалась небольшой, но интенсивной лекции – на разные темы. Выступления старухи Баобаб на публике можно было сравнить с ковровой бомбардировкой. Её голос взмывал, руки мелькали, лексика ускорялась и металась в диапазоне от выпускницы Смольного института до выпущенного на свободу уголовника. Вера Самойловна была то ли бесстрашной, то ли безмозглой – до близкого знакомства Сташек определить не умел, а потом уже так её обожал, что потерял всякую объективность.
Пахло от Клавы Солдаткиной отнюдь не «Ландышем серебристым» и совсем не «Красной Москвой», что объяснимо: она жила на отшибе у самого аэродрома, среди машинной технической вони, почти впритык к накопителям мазута – здоровенным круглым бандурам, поставленным на попа.
Ага… вот и добрались. И хотя речь у нас о дворе и, собственно, о станции, невозможно не зарулить на минутку в аэроклуб, чьё поле начиналось сразу за «нашим» садом.
На День авиации тут ежегодно устраивалась выставка самолётов: просторно и гордо расставленные по полю, стояли «аннушки», «ПО-2», «дугласы» и первые «ТУ…».
Однажды батя объяснял Сташеку про «лендлиз» и про то, что после войны не всю технику мы вернули странам, которые помогали нам воевать. И если в Англию вернулись все «спитфайеры», а в Штаты отправлены были все «виллисы», то на «дугласы» американцы махнули рукой: у них в пятидесятых так рванула авиация, что старичок «дуглас» был им до лампочки, только место в ангарах занимать. И потому забытые «дугласы» продолжали службу в провинциальных советских аэроклубах. На День железнодорожника, первое воскресенье августа, все желающие могли бесплатно совершить над городом шикарный круг на этом обезумевшем бумеранге.
Сташек тоже слетал, пришлось, хотя втайне он упирался до последнего. Стыдно было «от бати»: тот вначале просто предлагал, потом уламывал, потом принялся намёками допекать – мол, слабо, и тому подобное. А Сташеку не то чтобы слабо было, а тошно: поднимешь голову в небо, а там эта щепочка кувыркается. Ну и… да, слабо. А что? Подыхать не хотелось. Но он не признавался. И однажды решился, как потом в жизни всегда решался: раздавить в себе это своё «слабо», наступить каблуком, как на мерзкую змею!
Это было на каникулах между первым и вторым классами. Лето на тот год выпало холодным и промозглым, по утрам за окнами колыхалась влажная туша тумана, а на небе громоздились тучи, как по весне – льдины на Клязьме. На фотографии, снятой в тот день возле самолёта, все парни в кепках… Но к полудню вдруг налетел ветер, растолкал тучи по дальним закоулкам небосвода, и впервые за многие недели над головами людей чисто засинела глубина, по которой беззаботно и неторопливо плыли редкие облачка.
Пока фотографировались, Сташек по приглашению пилота облазил кабину, подержался за штурвал, посидел в кресле пилота в наушниках связи… Всё это было увлекательно – тут, на земле. Он всё ждал, когда батя заявится, – не отпустит же сына одного! Так что держал лицо: улыбался в предвкушении грандиозного полёта, хотя с удовольствием побежал бы играть к пацанам.
Но батя не появлялся, а между тем Витя-пилот турнул Сташека в общий отсек, где было всё гораздо проще, чем в кабине: два ряда откидных металлических сидений вдоль стен, для парашютистов.
Вдруг ввалилась гурьба парней и не спеша поднялось на борт начальство; среди них, слава богу, и батя, так что Сташек перевёл дух. Он уже выбрал место у иллюминатора, чтобы смотреть вперёд. Сидел, делая вид, что бати не замечает, что само ожидание полёта перешибает все остальные чувства. Задраили входной люк, загудел мотор, сотрясая всё тело… Сердце торкнулось в левый бок и бешеным поршнем загуляло вверх-вниз, вверх-вниз… трудно было вздохнуть! Если на земле так мандражно, обеспокоенно думал мальчик, что будет в воздухе?! Он не то что боялся обоссаться от страха, а просто забыл вовремя сбегать и потому тесно сдвинул колени, вжимаясь в сиденье.
И словно подавшись на его, Сташека, слабину, мотор вдруг стих, вращение пропеллеров сошло в ленивый говорок, вместо сотни лопастей, как у взлетающей стрекозы, осталось шесть, потом три…
Из кабины вышел Слава Козырин, их сосед (он работал механиком в аэроклубе), и деловито пнул каблуком металлический люк в полу. Открылся «трюм» самолёта, куда Слава нырнул и сразу вынырнул с обрывком проволоки в руке. Затем минуты две под ворчание обеспокоенных пассажиров он пропадал в кабине пилота, наконец вернулся и стал скреплять проволокой два каких-то «передаточных рычага управления». Всё это было непонятно и дико, но, видимо, привычно экипажу. Наверное, это нормально, успокаивал себя Сташек, стараясь не оборачиваться и не смотреть на батю, выглядеть спокойным, не таращить в панике зенки. Может, эту фигню они затевают каждый раз, чтоб пугнуть народ, думал он. Может, это как в цирке, когда канатоходец с шестом якобы оступился и машет ногой, цепляясь за воздух, а зрители подыхают от ужаса…
Наконец, вытирая промасленные руки о штаны комбинезона, дядя Слава ногой же задвинул крышку люка и удалился. Снова заурчали моторы, медленно ожили и залопотали пропеллеры, а на крыльях вверх-вниз задвигались элероны.
«Порядок», – высунувшись из кабины, доложил Слава. «Ну, так взлетайте!» – раздражённо отозвался кто-то из начальства.
К тому времени Сташек уже мастерил из ватмана модели самолётов и догадывался, что если вдруг найденная Славой проволока лопнет, то полёт, пожалуй, прервётся в воздухе. Господи-господи, беззвучно повторял он, сделай так, чтобы эта проволока дотерпела… и чтобы я дотерпел до земли.
«Дуглас» уверенно вырулил на взлётку и мощно понёсся вперёд (неужели всё дело было в проволоке?) – внутри у Сташека ухнуло и мелко затрепыхался живой кролик: самолёт резко взял вверх.
Сначала в иллюминаторе неслась, сталкиваясь и крутясь, комкастая белая каша, затем «дуглас» набрал высоту и выровнялся. Внизу блеснула серебром Клязьма, вспенились океанскими волнами сосны, мелькнул понтонный мост, лениво раскинулась пойма и заскользили-потекли улицы Вязников. Пилот зашёл на город с севера, пролетел над любимым оврагом Сташека (странно было видеть три сосны на обрыве не снизу, а сверху: ма-а-аленькие такие, то-о-оненькие); проплыли – будто книжку листаешь – коробки домов, острая ярусная крыша колокольни Кресто-Воздвиженской церкви, купол самой церкви, сверху приземистой и неинтересной, зелёные холмики священнических могил и спичечные могильные ограды, и даже избушку кладбищенского сторожа Сташек различил… А вот и центральная площадь, и Народная больница… Ещё один разворот – и внизу потекло всё в обратном порядке.
Это было здоровски! Это было клёво… Никакой автомобиль не сравнится, понял Сташек. Зверская машина ихний «дуглас»! И страха совсем не осталось. Да и не было никакого страха. Теперь он был уверен: не было страха! Нормальная осторожность была, поладил он с собой, мама же говорит: осторожность человека равна его уму, а Сташек считал себя умным. Страха не осталось – только азарт и чувство, что сам летишь, и уже хотелось лететь и лететь, далеко и долго, и высоко, как только можно, – хотя бы и с проволокой, кто там о ней помнит.
Но самолет шёл на посадку: вон парк, роща, взъерошенные картофельные поля… Тощую задницу приподняло и больно шлёпнуло о скамейку: приземлились, покатили, резко тормозя и подскакивая, вырулили к двум начальственным «Волгам» и встали.
Выходить не хотелось, но подпирало: он выскочил вслед за батей и побежал к кустам за дальней кромкой поля.
* * *К пакгаузу примыкали два дома, один из них – одноклассницы и подружки Сташека Зины Петренко. Это былбогатый дом, в отличие от остальных домов посёлка. Богатым его называли все соседи, но Сташеку это слово казалось неточным, завистливо-простоватым. Разве дело в богатстве, когда…
У Петренок можно было рассматривать и, если родителей не было, перетрогать разные потрясающие штуки. Весь двор знал, что Петренко-старший в сорок шестом отправил из Германии целый вагонтрофея («Трофей Иваныч, – усмехался батя. – Скажи «награбил» – некрасиво, скажи «трофей захватил» – и ты герой).
Коротким словом «трофей» называлась целая куча вещей: аккордеон, сверкавший белой перламутровой надписью «Hohner», узорная ширма, обтянутая расписным рассветным шёлком, где длинноглазые женщины в прозрачных одеяниях танцевали вокруг густобровых мужчин в халатах и в чалмах; бронзовый канделябр на пять рожков, подпёртых неприлично голым человеком с копытцами вместо ног и бронзовой курчавой порослью в интересном месте; резные шкатулки и лари, торшер с таким огромным розовым абажуром, что, если перевернуть его, на нём, как на плоту, можно Клязьму переплыть… а также фарфоровые фигурки дам и кавалеров в разных заковыристых друг к другу отношениях. Рассматривать их жесты и позы, их веера и камзолы, кареты, ботфорты, шпаги, широкополые шляпы – ух! – можно было часами…
А мебель – точь-в-точь из краеведческого музея: вдоль одной стены выстроились, чуть присев, стулья с полукруглыми спинками, сумрачно-нежно мерцавшими шёлковой обивкой травяного цвета. Оскорблять эдакую красоту чьей бы то ни было задницей никому и в голову не приходило; для задниц, в том числе и хозяйских, существовали табуреты. У противоположной стены расселся диван-начальник: массивный, коричневой кожи, с валиками, похожими на торпеды. Зинка божилась «чесс-пионерским», что диван – из кабинета главного фашистского генерала. А напротив окна, выгодно освещённый в любое время суток, был воздвигнут буфет красного дерева со стеклянными, гранёнными, гнутыми с боков на фасад верхними дверцами.
Посуда за стеклом тоже была трофейной, тонкого белого с золотом фарфора. К посуде в семье относились с особым благоговением, величая её какой-то еврейской фамилией: «Арцберг», что ли, а бокалы и рюмки – «Мозер», отчего весь дом, а заодно и его обитатели, приобретали налёт дву-смысленности. Перед приходом гостей Сташеку, как незаметному-своему, приходилось слышать разговоры типа: «Может, «Арцберг» поставить?» – «Перетопчутся! За стеклом посмотрят».
Зинкина мама, тётя Клара, была родом из Киева, что-то там окончила народно-музыкальное и очень этим гордилась. Свою жизнь на станции (она работала в привокзальной парикмахерской) считала загубленной, всем своим видом демонстрируя это семье, соседям и клиенткам. Обожала любое скопление публики, на людях прямо расцветала, а по праздникам выступала на эстраде в берёзовой роще Комзяки, где всегда проходили народные гуляния.
Дородная, в белом платье, с немецкими жемчугами на шее, с валиком волос надо лбом и шикарными малиновыми губами, тётя Клара была жуть как похожа на настоящую певицу из «Голубого огонька». Исполняла она старинные народные песни, а «Шумел камыш…» считала своей «коронкой». Малиновые губы тёти Клары так подходили содержанию всей песни (а куплетов – штук сто, Сташек никогда не мог досидеть до развязки), что и много лет спустя, заслышав припев сей народной баллады, он так и представлялпомятую девичью красу: с трофейными жемчугами на полной шее и с малиновыми губами, под конец исполнения слегка размазанными.
Порядок (тут правильнее иначе сказать: протокол) проведения всех без исключения праздников в Комзяках был неизменен, батя не любил не-ожиданностей. Сначала он – высокий, чуть лопоухий, в неизменной служебной фуражке, осевшей на уши, в белом кителе, увешанном орденами и медалями, – толкал с обитой кумачом трибуны короткую аккуратную речугу, следя за её политическим и грамматическим, так сказать, строем. После чего на небольшой кирпичной эстраде начинался концерт перед всегда доброжелательной публикой. Из года в год зубной техник Лев Аркадьевич читал «Рассеянного с улицы Бассейной», руками, ногами и особенно лицом сопровождая все злоключения этого, по мнению Сташека,полного мудака. Затем долго и нудно пела тётя Клара, но её, по крайней мере, можно было рассматривать и представлять себе голой, как циркачку в шапито, и думать, что вся история возлюбленной пары на мятой траве происходила именно с ней и с Зинкиным трофейным папашей, в результате чего и появилась на свет сама Зинка.
Наконец, на закуску, под растянутым меж двух берёз плакатом «Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик, великая железнодорожная держава!» выстраивался малый состав духового оркестра желдоршколы под управлением Веры Самойловны Бадаат.
Надо было видеть, как громоздкая, красная от напряжения Баобаб, упакованная в чёрный мужской пиджак, с бабочкой на шее, то откидываясь с блаженной улыбкой в лирических разливах, то всем корпусом грозно устремляясь вперёд в грохоте парадных залпов, вымахивала дирижёрской палочкой блеск и радость, напор и торжество, и стук колёс «Попутной песни» – Ф. И. Глинки. «Слова Н. В. Кукольника!» – не забывала объявить она, и Сташек, сжимая в руках английский рожок, неизменно про себя отмечал: во фамилия у чувака – Кукольник! Это даже хуже, чем Аристарх.



