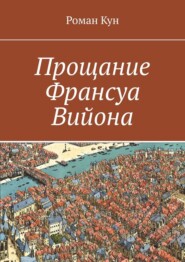скачать книгу бесплатно
Прощание Франсуа Вийона
Роман Кун
Как-то странно сейчас писать о Вийоне. Уже столько о нем написано. Нет ничего обидней, когда его творчество «бросят в полк», в массы, которые пролистают его и тут же забудут. Ведь все давно известно и в сотне учебников написано. Но у меня есть своего рода оправдание – я хочу понять, насколько это вообще возможно, его, как человека, его душу. Меня извиняет и то, что я искренен, да и жалость – единственное бескорыстное человеческое чувство. И мне его неимоверно жаль.
Прощание Франсуа Вийона
Роман Кун
© Роман Кун, 2023
ISBN 978-5-0060-0951-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение.
О Вийоне я узнал впервые уже в университете, хотя, правильнее было бы сказать, начал там думать о нем много. В библиотеках, куда я ходил в школьные годы, помню, его томик 63-го года появлялся, но как-то не заинтересовал. А в университете этот же томик я просмотрел уже более внимательно и прочитал «Французские тетради» Ильи Эренбурга. Немного рассказала о нем наш медиевист Нина Викторовна Ревякина.
Понятно, что зацепили такие фразы (в переводе И. Эренбурга), как «я всеми принят, изгнан отовсюду» и «я знаю все, но только не себя». Ключевыми они являются для меня до сих пор. Однако, заинтересовали и все стихи поэта, прежде всего, те, что были переведены Эренбургом. Потом появились переводы Ф. Мендельсона, которые я принял далеко не сразу.
С тех пор поэзия Вийона сопровождает меня всю жизнь. Я прочитал о нем множество книг и статей, не только на русском и французском языках, собрал неплохую личную коллекцию изданий его стихов, тоже на самых разных языках, и работ о нем, от специфически профессиональных, принадлежащих литературоведам, до эпигонских и непрофессиональных. Кое-что написал и сам.
Однако меня всегда больше интересовали не столько особенности его поэзии как таковой, отношения его с французским языком, место в истории французской литературы и т. п., сколько его личность, его внутренний мир, то, чем он жил. Это, видимо, прозвучит странно, но мне всегда было его жалко. Я реально переживал все те беды и унижения, которые обрушились на него. Что-то в нем, как человеке, мне не нравилось, что-то даже отталкивало, но я переживал за него, как переживают за своего непутевого сына, который живет далеко и несчастливо. Я, конечно же, ничем не мог помочь ему, но хотел. Понимал, что это невозможно, жизнь его явно не получилась легкой и счастливой, но мне всегда хотелось хотя бы спасти его честь. Меня бесили все те ярлыки, которые «любители поэзии» навесили на него. От него, как от коверного клоуна, ждали только смешное, злое и подлое. Вор и убийца, с точки зрения «человечества», не может иначе писать, да и не должен. До сих пор ему, и на том свете, не дают покоя. И я вряд ли смогу хоть немного помочь ему, но буду стараться.
Короче, я хочу, после того как всю жизнь вчитывался в его стихи и вживался в его жизнь, рассказать о нем с помощью своего воображения, сопереживания и соразмышления. Получится ли – я, видимо, никогда не смогу это понять. И ладно! Для любого человека ведь важно, чтобы нашелся хоть один человек, который бы его хотя бы один раз в жизни пожалел. И это важно не только для живых. И я хочу быть этим человеком для Франсуа Вийона.
Жизнь, несмотря на такую боль, на такое абсолютное одиночество – чем не урок для меня самого! Столько боли, столько грязи выплеснулось в нашей жизни за последние десятилетия! И это не метафора! По крайней мере для меня. Взорванная Франция пятнадцатого века и взорванная, избитая, изнасилованная Россия двадцатого века – близнецы сестры. Рискну сказать, что никогда за всю свою многовековую жизнь наши страны не испытывали подобных и телесных, и моральных страданий. Культуры нет, она либо на страницах очень и очень немногих книг, либо в душах, выброшенных в буквальном смысле на помойку истории и жизни интеллигентов. Сверкают огни бессмысленных реклам и суетятся бездарности на сценах и в лужах интернета. Пусть это звучит искусственно, особенно, с точки зрения тех, кто сейчас столь активно отрицает необходимость морали, пусть это звучит пафосно, но я искренне утверждаю это. Пафос сейчас остается последним оружием в борьбе с тем сумасшествием, которое поразило современное припадочное человечество. Я, человек, далекий от религии, не могу не согласиться с тем, что это всё бесовщина. Сатана здесь правит бал! Может быть, Маргаритам на нем интересно, может быть, крошки со стола достаются здесь отдельным людям, но мне страшно!
Думаю, что так же страшно в те времена было и «маленькому школяру». Он мелким бесом крутился перед герцогами и ворами, просил помощи и прощения, унижался, уничтожал самого себя в своих стихах, но… продолжал жить, избитый, ограбленный, но все же не опустившийся на колени. Это не жизнь – это вечная агония! За что ему это?!
И всё же я завидую ему! Потому, что, несмотря на все унижения, оскорбления, предательства, подлости, он остается самим собой. Он не стал таким, как Ги Табари, Гийом Вийон, Тибо д’Оссиньи, даже Карл Орлеанский. Он сказал в своих стихах, что не изменится – и не изменился! Возможно, он погиб-таки, действительно, но остался самим собой! Не стал вором или лизоблюдом, не стал «зарабатывать деньги», унижать других.
«И он убит, и взят могилой». Да, его нельзя было переделать – его можно было только убить. Может быть, его и не убили в буквальном смысле, не повесили, не зарезали, но долго жить он бы не смог и сам. Инфаркт, инсульт, рак – да мало ли у судьбы эффективных и эффектных средств борьбы с настоящими людьми, настоящими мужчинами?!
Вийон нужен мне еще и своей предельностью в стремлении понять всё, дойти до последнего почему. Как мне не хватает этого его умения обойтись без штампов, умилений, вынужденного лицемерия, тем более, ханжества. Я всю жизнь учусь его искусству видеть только то, что есть, а не то, что хочется. Увидеть, а не придумать, не представить, а понять. А еще его прощению. Как Христос не требовал от людей невозможного и прощал за то, что «не ведают, что творят», так и он, дав рентгеновский снимок душам многих людей, не старался их изменить. Да, мы научились делать рентгеновские снимки человеческих тел, а он умел глубоко сканировать души и дела. И при этом прощать. Не уважать, даже презирать – он никогда не отказывался даже в мелочах от свое кредо (верую!), но не стремился изменить ни людей, ни мир.
Да, еще раз скажу, долго с таким отношением к людям и жизни не проживешь. И снова пафосно скажу, что тихая, спокойная, рациональная, гибкая, умная и т. п. жизнь длиной, быть может, даже в столетие, после Вийона особенно мне кажется просто безвкусной.
Жизнь Вийона, опять не могу обойтись без пафоса, мне кажется уникальнейшим, хотя и грубым, необработанным алмазом и он гораздо дороже россыпи изящных, мастерски обработанных бриллиантов.
Как-то странно сейчас писать о Вийоне. Уже столько о нем написано, даже на русском языке, я уж не говорю о других языках. Кто только не переводил его стихи? Даже альбомы с его стихами и иллюстрациями из средневековых художников стали появляться. Диссертации по его творчеству защищаются и весьма неплохие, оригинальные и глубокие.
Он, в общем, уже настолько известен, что становится неинтересным. Нет ничего обидней, когда его творчество «бросят в полк», в массы, которые пролистают его и тут же забудут. В лучшем случае, к месту и не к месту, ввернут строчку-другую. И не спрашивайте их, кто эту строчку сформулировал по-русски, и из какого конкретно она стихотворения.
А начнешь рассуждать о нем вслух, посмотрят, как на дурачка – о чем это и зачем это?! Ведь все давно известно и в сотне учебников написано. Как при жизни поэт по-настоящему был известен только самому себе, так и после смерти никому больше не интересен как личность. Даже, если бы он сам начал что-то говорить о самом себе, ему бы прямо в лицо рассмеялись – о чем ты, дурачок, что ты можешь знать об этом?!
Но, если даже ему самому не верят, кто мне-то поверит?! Он и сам бы мне не поверил.
Понятно, я не могу сказать, что знаю о нем больше всех, и больше его самого. Любая мысль рискует быть названа непрофессиональной или даже просто неумной. А сам Вийон, быть, может, и в драку полез бы.
Но у меня есть своего рода оправдание перед ними и перед специалистами. Я хочу понять, насколько это вообще возможно, его, как человека, его душу. И мой интерес не потребительский и не гаденькое я в нем хочу разглядеть. И в то же время я не равнодушен, и не беспристрастен. Мне жалко этого человека. Да, он мне интересен, как поэт, моя душа тянется к его душе, но, главное, я его жалею. Может быть, «на том свете» он нашел наконец-то утешение, а, может быть, и нет, но на этом-то его никто еще ни разу не пожалел. Получится ли у меня – бог весть!
Меня извиняет только то, что я искренен, да и жалость – единственное бескорыстное человеческое чувство. И мне его неимоверно жаль. Вот возьму сейчас и выпью сто грамм за его душу. Пусть простятся ему все грехи вольные и невольные!
Царствие ему небесное!
Прощание Франсуа Вийона
Зима в тот год, как с ума сошла. Сразу после Рождества начались снежные метели, лишь изредка утихающие и даже перемежавшиеся ленивыми дождями. Они заметали Париж снегом и людям приходилось идти по щиколотку в нем, все время запинаясь о мусор и камни. Помои, которые выливали на мостовые, сразу же становились каменными. Птицы куда-то исчезли. Обычно они рылись в мусоре и помоях, дрались друг с другом, а тут просто исчезли и непонятно, чем же они стали питаться. Небо все время было затянуто серой и грязной, тяжелой на вид, массой туч. Даже опроставшись от излишнего снега, тучи не становились светлее и не превращались в облака. Как выглядят солнце, луна и звезды люди забыли.
И тем не менее вечер седьмого января 1463 года оказался еще хуже. Париж продрог до кишок. На пронизывающем ветру стучат в ознобе стены домов и лавок. Ветер то воет по-волчьи, то стонет, как смертельно раненый человек. Дома съежились, натянув пониже крыши. Даже виселица Монфокон, своей тушей закрывшая половину Сены, подтягивает этот стон, а висящие в ее окнах трупы, стукаясь друг о друга, натыкаясь на стены, аккомпанируют своими костями и играют, и поют дьявольский мадригал в честь бездушной ведьмы Зимы.
На улицах ни души. Впрочем, может кто-то и пробирается по своим делам, но в свинцовом и грязном тумане не видно ни зги. Если кто-то и идет, то молчит и прикрывает рот шарфом, а дышит с огромным трудом. Вот волки, те не молчат и их вой ножами и кинжалами кромсает дряблое тело парижских улиц.
Кажется, конца-краю не будет этому ужасу. Люди все, кто мог спрятались в своих лачугах и комнатушках и чувствуют себя, словно в могилах.
Ночь взорвана и изорвана метелью. Волчий вой, как нож под сердце. Невозможно дышать, того и гляди, задохнешься от недостатка воздуха. Продрогло сердце, разум чуть мерцает.
От холода окончательно спряталась луна, убежали подальше от Парижа звезды. Не светятся окна домов. Первобытная тьма расползлась по всему городу.
И только в трактире «Сосновая шишка» кто-то есть. Сквозь наглухо закрытые ставни видны сполохи света, глухо и неразборчиво звучат голоса и даже слышится какая-то безобразная музыка.
Зал трактира уже наполовину заполнен. За некоторыми столами, где обычно сидит один или, в лучшем случае, двое, уже уместилось пять-шесть человек.
Ярко и жарко пылает печь. Повара и подавальщики сбились с ног. Жарится мясо, вонь стоит от полу испорченных овощей и даже огонь не берет пятна гнили. Кувшины с вином летают между столами, как коршуны.
Давно уже надо было бы закрыть эту лавочку, хотя бы до утра, но кто сможет этих крикунов выгнать на мороз, под волчьи клыки?! К тому же кое-кто из них укрылся не только от зимы, но и от сержантов прево. Прошел слух, что сегодня отвальную дает магистр, поэт и вор Франсуа Вийон. Сам великий Вийон сегодня прощается с Парижем! Утром он должен выполнить предписание суда и отправиться в десятилетнее изгнание. Никто не знает, вернется ли он когда-нибудь назад. Вийон утверждает, что сам не знает, что лучше – быть повешенным на Монфоконе или уйти в никуда. Конец-то все равно одинаков, разве что за стенами злобного, но любимого города есть шанс прожить лишний день, месяц, а, может, и год. Больше-то вряд ли! Все друзья и враги остаются здесь, а там… Кто знает, что будет там, кто ждет там – новые враги, лесные звери или случайные разбойники?
Франсуа Вийон вышел из-за угла, приник лицом к щели в ставни и некоторое время всматривался в происходящее за окном. Потом вошел в дверь, отряхнул снег с капюшона и плаща. У порога уже натекла лужа, видимо, оставленная теми, кто пришел раньше. Сквозь дверь проникал истеричный визг ветра и адский холод сатанинского шабаша.
Людей в зале все же еще было не так уж много, и они сидели как можно ближе к очагу. Жар от него потихоньку заполнял весь зал, хотя затопили его заново, похоже, совсем недавно. Некоторые из них повернулись и посмотрели на Франсуа, но любопытными взглядами и не более того, что не могло не обрадовать вошедшего. Два каких-то, по виду крестьянина, склонились над своими бокалами, смаковали вино и обменивались короткими фразами.
Вийон пошел к трактирщику. Тот стоял за небольшой стойкой, облокотившись на нее своими огромными руками с засученными рукавами и маленькими, глубоко посаженными глазками под кустистыми бровями периодически оглядывал зал. Его глазки ничего не упускали, всё замечали и ко всему были готовы. Бычья шея медленно поворачивала его большую голову и была неплохой защитой для него самого. Его грузность была во многом кажущаяся, уже не раз он демонстрировал мгновенную реакцию и силу своих рук, если надо было утихомирить каких-нибудь драчунов. Приходилось ему и стоять перед ножами, в этом случае немалую роль играла короткая дубинка со свинцовым наконечником, которая лежала у него в столе. Надо было только руку протянуть. На столе стояло несколько кувшинов и бокалов. Он наливал тем, кто просто хотел выпить и садился на небольшие стулья возле этого стола.
Он уставился на Франсуа, который, заметно хромая, пошел к нему. Шрам на лице с мороза стал багровым. Трактирщик скупо ответил на его приветствие.
– Вот, пришел к тебе, может быть, в последний раз. Ухожу из Парижа. Ты уже знаешь, верно.
– Мое дело маленькое. Плати и сиди. К тебе, Франсуа, я всегда хорошо относился, ты ведь знаешь.
– Конечно, знаю. И то сказать, и дохода я тебе своими стихами принес не так уж мало.
– Зачем ты так?! Немного обиделся трактирщик. – Это, конечно, тоже имеет значение, не буду спорить, но ты мне на самом деле всегда нравился. А сейчас мне тебя жалко. Выпей вот за мой счет.
– А, что, и выпью. Мерси боку, мудрый Жан. Ты действительно мудрый, не зря тебя так зовут.
Франсуа взял кружку. – Сейчас подойдут ребята. Мы вон там, в углу, пару столов соединим и посидим.
– Конечно. Думаю, народ сегодня набьется основательно, многие еще придут спрятаться от этой пурги. Явно не придется мне на ночь закрыться! Но вам никто мешать не будет. Разве что, вот та пара. Не знаю я их. Их на острове видели, недавно они появились, вроде из Бургундии. Вижу, накачиваются и побузить захотят. Но я буду рядом, и помощники у меня найдутся.
За соседним столом сидели два парня. Одеты неряшливо, много пили, громко разговаривали. Обсуждали собравшихся. Посмеивались над всеми.
Один из них с какой-то особой злобой посмотрел на Вийона и что-то тихо сказал своему другу. Вийон понял, что в самом деле готовится явная буза. Мелькнула мысль, что кто-то вполне мог решить таким образом избавиться от него, так ведь таких злых врагов у него вроде бы не было. Епископ д’Оссиньи на такое не пойдет. Разве что кто-то из друзей-братков мог бояться, что поэт сболтнет чего-то лишнего.
– Спасибо, Жан. Сегодня я, как видишь, не в форме, хотя мой кинжал всегда со мной. Да и настроение у меня вполне подходящее. В конце концов, я всегда хотел умереть в Париже. И только в Париже!
– Ну, ни к чему такие мысли, Франсуа. Защитники у тебя всегда найдутся.
– Да, найдутся, хотя и врагов оказалось немеряно.
– Да, кстати, – вскинулся Жан. – Тебя уже спрашивали двое. Думаю, ты знаешь, откуда и от кого они.
– Думаю, что знаю. Они еще придут.
– Да, я тоже так думаю.
В это время открылась входная дверь и зашли два человека в капюшонах, закрывавших всю голову. Они отряхнули снег, осмотрелись и направились к стойке, прямо к Вийону. Обратили на них внимание и двое бургундцев, немного пошептались, бросили на стол деньги и потянулись к выходу. Возможно, узнали вошедших, а, может, и просто догадались, кто они такие и решили подождать для себя подходящего случая потом или где-нибудь в другом месте. Трактирщик Жан насмешливо посмотрел им вслед.
Франсуа узнал одного из вошедших. Те уселись на стулья возле стойки и кивнули в сторону кувшина с розовым вином. Жан налил им по бокалу.
Франсуа молчал и ждал, пока они начнут разговор сами.
– У тебя неплохое розовое, – сказал длинный, у которого камзол был перетянут ремнем и на боку висел кинжал в ножнах, украшенных серебром. – Франсуа, мы по твою душу…
– Душу? – усмехнулся Вийон. – То монахи трясли мою душу… как грушу. Теперь вы. А вам-то что нужно? Я вроде вам ничего не должен. А вот вы…
– Не цепляйся, маленький школяр. Мы не такие уж звери, как ты думаешь. Ты должен же понимать, что иначе и не могло быть. Тебя бы все равно пощадили.
– Ничего себе, пощадили! Считаешь, что смертная казнь – пощада?!
– Но ведь не казнили же!
– А вы при чем? Если уж кто помог, то не вы. Да и изгнание из Парижа тоже не фонтан.
– Конечно, но, согласись, это же не Монфокон.
– Не Монфокон, да, хотя долго ли я протяну там, за стенами города? Может быть, быстрая смерть была бы все же легче.
– Ладно, ладно, не надо! Я всё понимаю. Все всё понимают. Нас послали не для диспута. – Он положил на стол толстый кошелек и свернутую в четверть бумагу. – Это тебе на первое время. И письмо к кой-кому. Там и записка, и адрес. Потом дашь о себе знать, когда устроишься, еще поможем, чем сможем.
– Ладно, – усмехнулся Франсуа, – не та ситуация, чтобы корчить из себя гордеца. Передай ребятам спасибо. Деньги хорошо, хотя мне сейчас нужен скорее хороший лекарь.
Кокийяр кивнул на бумагу. – Там тебе помогут и с лекарем. Главное, ты на ногах стоишь, уже это одно дорогого стоит. Да, и вот тебе еще, – он снял с пояса свой дорогой кинжал и протянул его поэту.
– Да, хороший, кинжал… однако, я его на всякий случай спрячу куда подальше. Меня из-за него могут пришить еще в воротах.
Браток подал руку Вийону, тот пожал ее, кокийяры допили свои бокалы, кивнули трактирщику и пошли к выходу.
– Ну, видишь, Франсуа, что-то меняется! – воскликнул Жан. – Я тебе так не смогу помочь. Садись, пей.
– Спасибо, я не один всё же. Сейчас еще пацаны придут. И мы заплатим. Гульнем в последний раз, и я отвалю.
Он пошел к своему столу и бросил свой мешок на один из стульев.
В трактир один за другим зашли еще люди в капюшонах и сразу направились к Вийону. Друзья и сегодняшние собутыльники Вийона коротко перекинулись с ним приветствиями, потом сдвинули несколько столов вместе, загремели лавки, придвигаемые к столам по каменному полу.
Постепенно все места оказались занятыми. Соседние столы тоже довольно быстро заполнились посетителями.
Франсуа успел переодеться в хорошую одежду, которую на всякий случай взял с собой в дорогу, она лежала у него в заплечном мешке. Она была из тонкого сукна, с разрезными рукавами. Бархатная шляпа на голову, остроконечные башмаки с открытыми пятками.
Народу в зал набилось много, но не все пришли из-за Вийона. Он и пригласил-то лишь несколько человек. Остальных загнала вьюга и они с удивлением и даже некоторым неудовольствием посматривали на стол, за которым сидели собутыльники Франсуа. Он понимал, что столько народу собралось, прежде всего, из-за пурги. Было много вообще незнакомых лиц и они, видимо, что-то слышали о нем и рассчитывали послушать его стихи в его же собственном ехидном исполнении. А ему это делать совсем не хотелось. Пребывание в нескольких тюрьмах, особенно в гостях у епископа Тибо д’Оссиньи почти отбило это желание.
Франсуа сидел во главе этого общего стола вместе с Малышкой Марго. Разговор долго не складывался. Людям хотелось выпить и закусить, а приличия требовали грустного и даже прискорбного вида. Однако вино вскоре развязало всем языки и Вийону пришлось потратить некоторое время, чтобы их успокоить, прежде чем обратиться к ним с прощальной речью.
За столом Вийона установилась почти тишина. Если остальные гости шумели, кричали, спорили, то здесь сидели спокойно. Конечно, постепенно языки развязывались, но разговоры все же вертелись вокруг наказания поэта и его ухода. Все разговоры и споры об этом, все тосты за его здоровье и скорое возвращение. В общем, если это и можно назвать весельем, то довольно унылым. Периодически подходили шлюхи, ластились, заигрывали, но, не найдя ответа, обиженно уходили к другим столам. Не до них как-то!
Вийон глотает боль с вином и, наконец, не выдержав, встает с бокалом и обводит всех взглядом, пытливо смотрит в глаза друзей, прелестниц слишком резвых. Он смочил пальцы в вине своего бокала и перекрестил сначала стол, а потом и огонь в очаге. Так делали в его деревне, и он запомнил это на всю жизнь. Потом Вийон поднял бокал с вином и, помолчав немного и, задыхаясь, начал:
– Я сегодня буду много говорить.
Последний день и так много надо успеть сказать. А вы молчите. Пейте, а потом уж трепитесь о чем угодно.
Сегодня я хочу выступить в новой для себя роли. И для вас. Вы привыкли, что я читаю или пою свои вирши. Но я не могу этого сейчас делать. Епископ всё же здорово меня отделал. Всё еще болят ребра, и потроха, и горло. Как и чем я сейчас буду зарабатывать, я ведь больше ничего не умею. В университет же не вернешься.
Я долго понять не мог, за что епископ так со мной поступил, пока он сам не разъяснил. Я, видите ли, не ответил на его любовь.
Это я-то со своей физиономией?! И с этим шрамом, подарком Шермуа. Да, этот Шермуа может спать спокойно в своей могиле. Он отомстил мне за свою смерть. Я-то убил его легко. И случайно. Не думал, что своим камнем башку ему проломлю. Да и попал-то вроде скользом. Говорят, что он умер не от камня, а от кровоизлияния в голову. Бывает, говорят, такое последствие. Да и женщины рядом, чтобы поухаживать за ним в последний час, не оказалось, а ведь он так любил их.
И за что он так окрысился? Из-за кого? Из-за этой Катрин?!
Ее здесь случайно нет? – подленько засмеялся он. – Если бы этой дамочки рядом и не было, я бы и не стал ему возражать! Я примерно такого же мнения о ней. И не я один.
И, если уж выяснять отношения, то, разве, нельзя было обойтись без ножа? Могли бы просто руками поработать. Но он не мастер кулачного боя. Всё-таки священник! Святой человек, а кинжал носит. И выпить не дурак. И баб тискать умеет. Впрочем, я же тоже почти клирик.
Я не могу сегодня читать свои вирши, тем более, петь их. И не только потому, что мне последний раз отбили все, что можно отбить. Нет, настроение не то. И все же я хочу кое-что сказать вам на прощанье. Я никогда такого не говорил, никогда в такой роли не выступал. Хочу свою прощальную речь специально сделать пафосной. Не хочу шутить, острить, язвить, хочу просто высказать то, что долгие годы копилось в душе. Сегодня этот груз стал для меня неимоверно тяжел, он жжет мне душу. В общем, уж извините действительно за этот пафос, но он тоже есть в моей душе.
В общем, я сегодня хочу для вас, мои друзья, произнести действительно прощальную речь. Оставить вам не вещи разные, как в прошлый раз, о которых писал в своих завещаниях, а заветы и напутствия. Всё же, хоть и немного ещё живу на этом свете, а смогу дать советы или предостеречь от чего.
Это тоже будет сделано в традициях жанра. Мои лэ составлены с помощью юридического языка, а в речи своей я буду подражать тем, кто обычно выступает в парламенте, где нас, бедных, судят, или тем, кто читает проповеди. А больше буду просто говорить то, что думал и думаю, – что надумал за свою отчаянную жизнь.
Все зашумели. Кто-то ободряющее, кто-то ляпнул что-то полушутливое, полуироничное, запереговаривались между собой, некоторые, уже пьяные, голоса стали требовать стихи и песни.
Вийон терпеливо ждал, когда все успокоятся и вдруг обратил внимание на сидящего в дальнем углу человека. На самом деле, там сидела троица, но остальные уткнулись в свои кружки, а этот пил и поверх бокала смотрел прямо на Франсуа. И Франсуа спохватился и почему-то сразу вспомнил, что в то время, когда кокийяры передавали ему кошель и кинжал, он не догадался посмотреть на реакцию окружающих. Наверняка, хоть и немного тогда еще было посетителей, но они не могли не видеть этого, а понять, что было в кошеле, мог и дурак. Был ли этот человек уже тогда в зале, Вийон не помнил, но ему очень не понравились его глаза, очень настороженные и какие-то недоброжелательные, холодные, да и взгляд его был очень пристальный и внимательный.
Он был довольно высок, худощав, на голове большая лысина, обрамленная по богам и сзади какими-то ржавыми кудряшками. Пальцы тонкие, длинные и суетливые, такие часто бывают у карманников. Одет в теплую рубаху неопределенного цвета и кожаную безрукавку. Рядом на лавке лежал его свернутый плащ, вроде очень теплый. Одежда в целом была неброская, но и не дешевая. На обычного горожанина и тем более на забулдыгу он никак не походил. Его соседи были попроще и действительно походили на простых горожан. Возможно, он и не с ними пришел, а просто сел на свободное место. Так что, может быть, он появился и после ухода кокийяров. Тем не менее, на Вийона он смотрел явно заинтересованно.
Франсуа оглядел себя, нет, кошель и кинжал он предусмотрительно убрал в мешок. Все же это ничего не значит, ведь могли видеть другие посетители и сказать этому, да и одежда на поэте была изысканная. Вот, подумал он, выпендрился, дурак! Надо бы побыстрее снять ее и одеть старую одежду, пусть с заплатами, но на нее вряд ли кто позарится. А то этот тип, похоже, вполне может позариться и на нее, и на кошель.
Вийону стало не по себе и с этого времени он исподтишка следил за этим человеком и почти всегда встречал его взгляд, который постепенно стал даже каким-то насмешливым. Этот человек был ему совершенно не знаком, но манеры и жесты кого-то очень напоминали. Может, когда-нибудь они и пересекались в каком кабаке. В тюрьмах-то вряд ли, Вийон бы запомнил. Вийон ждал, что он уйдет, но тот заказал себе еще вина, какую-то закуску. Почти открыто он смеялся в лицо поэту, хотя тот и не говорил ничего забавного.