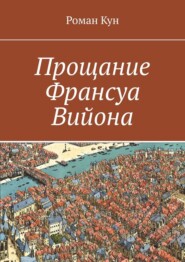скачать книгу бесплатно
Последние слова он проговорил глухо, охрипшим от волнения голосом. Франсуа подхватил свой узелок, и они вошли в пахнущую теплотой и сыростью дверь, сели на скамью и некоторое время молчали. Франсуа играл веревкой, которой был затянут его узелок. Капеллан, сгорбившись и глядя себе под ноги, молча перебирал четки. В узенькие, подслеповатые окошки ломился продрогший ветер, испуганно трепетали свечи перед иконами, их тени мрачными, страшными птицами проносились по картинам, изображавшим муки грешников в аду и радости праведников в райских кущах.
– Как здесь мрачно и… страшно, – подумал Франсуа. – И как только капеллан не боится оставаться здесь один. Здесь же можно умереть со страху. Чего только стоит одно это изображение кипящего котла. А, впрочем, неизвестно, что страшнее – котел или одноногая вешалка. Там, по крайней мере, не так холодно.
И Франсуа снова, уже в который раз, представил свой труп, мокнущий под дождем на виселице. Эта картина буквально преследовала его с того самого дня, когда так неудачно кинул он камень в Филиппа Сермуаза.
– Знаешь, Франсуа, – ударом грома раздались в гулкой тишине слова Гийома, Франсуа даже вздрогнул от неожиданности, – мы много с тобой уже говорили… обо всем… и все же я хочу поговорить еще раз. Нет, нет, – торопливо добавил он, – я не буду больше тебя ни о чем просить. Этот разговор нужен скорее мне, даже наверняка только мне одному. Понимаешь…
Он вдруг порывисто отвернулся и стал торопливо пересыпать в руках зерна четок. Губы его дрожали. Но он справился со своим волнением и заговорил снова, на этот раз очень спокойно и даже, как показалось вначале Франсуа, несколько холодно.
– Ты давно уже не чужой мне, Франсуа. Наши судьбы связал сам Господь и я не представляю себе своей жизни без тебя. Я ведь помню тебя и люблю с самого твоего рождения. Я хорошо знал твоего отца и твою мать. Особенно мать. Она была чудесная женщина, но… – он печально поглядел на алтарный образ, – но она слишком была робка, всего боялась, особенно людей, их разговоров. Мужа своего боялась. Если бы не это… впрочем, это неважно.
При этих словах Франсуа вздрогнул и уставился на капеллана, но тот деланно рассмеялся, вскочил на ноги и быстро заходил из угла в угол, и так же быстро вылетали из него слова.
– Я хорошо помню время, когда ты родился. Тяжелое было времечко. В том, 1431 году от рождества Христова, много крови пролилось. Ты, наверное, знаешь, что тогда англичане сожгли нашу Деву, нашу Жанну из Домреми. Прости господи, это был самый страшный грех, который люди когда-либо брали на душу. Ведь Жанна была святая, она спасла Францию и короля. Если бы не она, кто знает, что было бы со страной. Много горя было тогда на земле, много страданий, много крови. Народ ужасно голодал. Несколько лет подряд урожай собирали скудный. Зимы были долгие и на редкость суровые. Даже волки не выдерживали и целыми стаями, ошалев от голода, словно разбойники, врывались в города. А еще эта чума… Боже мой, если бы ты видел, сколько мертвецов валялось на французских дорогах! Да и люди вели себя не лучше волков. Живодеров было больше англичан, больше волков. Их вешали, виселицы стояли словно яблони, увешанные казненными, а их год от года становилось все больше…
– Я слышал об этом, отец мой, – с улыбкой произнес Франсуа. – Зачем вы еще раз рассказываете мне все это? Разве за этим вы меня позвали?
– Не перебивай меня, Франсуа. Да, я позвал тебя не за этим, но подожди, не перебивай. В другой раз я тебе уже не скажу все то, что хочу сказать сейчас. Я жил тогда в Овере, ты знаешь, это около Понтуаза. Ты ведь родился там… Я только успел получить степень лиценциата и приехал в Понтуаз на несколько дней, да разболелся, вероятно, мой ослабший от ученых занятий организм не выдержал морозов. И в это время там появилась твоя мать. Она сама была родом из Овера, но уезжала на север. На обратном пути их поймали англичане, отобрали все пожитки. Она чудом спаслась из их рук и пешком побрела домой. Мы ведь с ней родственники, правда, очень и очень дальние. Я только недавно, незадолго до ее смерти, говорил с ней об этом, а узнал тогда же… вскоре… она тоже. Ну, а тогда мы не знали об этом… Господи, – истово замолился монах, – прости мне мой грех, не по злой воле, но всего лишь по незнанию и неразумению согрешил я.
Франсуа сосредоточенно следил за отблесками свечей и молчал. Потом, словно внезапно пробудился, вздрогнул и положил руку на плечо коленопреклоненного капеллана.
– По неразумению говорите, святой отец? Зачем же вы так? Ведь вы же любили ее… и она вас. Я же знаю. Я давно уже обо всем догадывался. Я знаю людей, никто из них не станет так заботиться о чужом сыне, как заботились вы обо мне. Вы были со мной нежней, чем мать. Да, простите, я знаю, с другими вы так никогда себя не вели. Так что, спасибо вам за признание, но… вы опоздали. Это уже ничего не изменит… простите меня.
Франсуа повернулся, чтобы уйти, но неожиданно, похоже даже для себя самого, заговорил снова.
– Послушайте, святой отец… Если бы вы знали, как мне хочется обращаться к вам, не добавляя этого слова «святой», но я не могу, простите меня, много раз пытался… и не могу. Вы много сделали для меня, я люблю вас и верю вам, вы честный человек, таких немного. Сейчас я уйду и за те десять лет, что мне не суждено видеть Париж, может произойти всякое. Вы не вечны, простите меня, но кто знает, суждено ли мне пережить вас…
– Не говори так, Франсуа, умоляю, не разрывай мне сердце. Я не хочу этого. И так я все время боюсь за тебя…
– Нет уж, простите… отец, – сказал Франсуа и покраснел. – Надо смотреть правде в глаза. Не такой уж у меня характер. Таких, как я, люди не любят. Я ведь и вором-то стал из-за этого, может быть. Монтиньи, вы слышали, наверное, о нем, тот любит поживиться за чужой счет, любит риск, да и злой он был, за что и болтается на виселице. Табари – жмот, из-за своей жадности попался. Луппо, Шолляр – те не лучше. Но я не хотел этого. Мне не нужны были радости за чужой счет. Случай, да-да, злой случай толкнул меня на этот путь. После того, как от моего камня умер Сермуаз, я скитался по Франции, словно бездомная кошка. Мерз, голодал, по целым дням крохи во рту не было, понимаете, даже крохи! Я подыхал, святой отец! Моя честность не помогла мне, она не согрела меня в январские морозы, не накормила. И тогда я подсел в одном кабаке к Монтиньи. Полудурок Ги тогда гнал меня, боялся, что новичок их засыпет, да и другие косо поглядывали. Монтиньи колебался. А я… я хотел жрать! Ну и… чтобы приняли меня к себе, накормил их ужином за свой счет. Ох, святой отец, до чего же вкусен был тот ужин, всем хорош, только монах, проспавший свой кошель, уж больно долго гонялся за мной. Хохоту было! Вот с тех пор я и стал «отцом-кормильцем». Где что стянуть, кошелек, кусок мяса или бутылку вина – лучше меня никто не сделает… Новый день – новая жизнь. Мы, человеки, каждый миг живем особую жизнь. Человек таков, каков он в этот миг.
– Чем ты хвастаешь – подумай! – перебил его разгневанный Гийом.
– А я не хвастаю. Хвастовство – всегда преувеличение, а я ничего не преувеличиваю. Спроси у кого угодно, – незаметно для себя Франсуа перешел на ты. – А, впрочем, может ты и прав, подначивать они тоже мастера. Но дело не в этом. Мы говорим о моем характере и о том, что меня ждет. Да, не случай, конечно, виноват в том, что я стал вором, не случай, а мой характер. Для тебя воровство – страшное зло. Для меня оно тоже, поверь, зло, но только не страшнее остальных. Попадись я Александру Македонскому, как тот пират, и я бы сказал:
За что же вором обзывать?
За то, что я сумел собрать
Лишь кучку удальцов, не боле?
Когда б имел я флот и рать, —
Как ты, сидел бы на престоле!
Что же получается: чем крупнее зло, тем больше у него шансов из порока перейти в разряд добродетелей? Вот с этим я никогда не смогу согласиться. Да, я вор! Но я крал золото у монахов и попов, а не у школяров и бедных горожан.
Я не ангел, понимаю, но такой сор иногда встречается, что мне далеко до них, а ведь я гордо зову себя мошенником. Твою фамилию переделал и обесславил.
– Ты магистр, поэт, вон даже вор. Какие титулы! Какие тебе еще нужны? Может, хочешь быть герцогом, – так это тебе абсолютно не светит.
– Нет, какой из меня герцог?! А все эти титулы, конечно, что-то значат, но и к ним я особо, на самом деле, не тянулся. Единственное, кем бы я хотел быть, это счастливым человеком. Увы, скорее я герцогом стану, чем им.
Ты же знаешь, мы всегда жили бедно. Я завидовал богачам, тем, кто в кабаках сидит. Я мечтал о такой же жизни. Но для этого у меня был только один путь – через университет. И ты, и мать все время склоняли к этому – другого не знали, да его для меня и не было. И я не знал. Работать физически был еще молод и слаб. Торговать нечем. Да и не умел.
А когда закончил бакалавриат, получил лиценцио, на радостях сходил в трактир, вот крышу и снесло. Это не со школярами на каком-нибудь мальчишнике, когда каждый су на счету. Те, что сидят в кабаках, жили широко. Я долго не мог понять, откуда у них деньги. Думал, лодки разгружают. Как же!
Да, я убийца! Но я убил монаха! Ты ведь знаешь, что за скотина был этот Сермуаз. Не я, так кто-нибудь другой сделал бы это. Сколько денег он отобрал у бедняков! Куда мне, вору, до него! А сколько мужей спали и видели во сне его окровавленный труп! Да ведь и не я напал на него, а он. Это ведь он затеял тогда драку на паперти. И все из-за чего? Вернее, из-за кого? Из-за этой Катерины? Сказал бы мне прямо, я бы ее уступил ему. Добра-то!
Франсуа замолчал, перебирая руками свечи на столе. Гийом понял, что говорить на эту тему ему особенно тяжело. Хотел перевести разговор на что-нибудь другое, но не успел найти новую тему, как Франсуа заговорил снова:
– Я сломался из-за этой Катрин, чего уж теперь скрывать. Я и раньше даже писал об этом, но все думали, что это такой прием у поэтов искать безжалостную красавицу. Катрин очень сильно ударила меня, напугала. Мне казалось, что она идеал Любви, женщины, Дамы. А она от Дьявола. Боюсь, в прямом смысле слова.
Я раньше видел в ней только красавицу. Я даже представить не мог, что такие бывают, а сейчас… мне иногда, особенно ночью дико больно, я проклинаю ее. Совсем другими глазами смотрю на нее. Она – не женщина и даже не человек, а что-то похожее на человека, не больше. И это страшно. Что-то нечеловеческое в облике человека, прекраснейшей женщины. Это жутко. Недаром монахи говорят, что дьявол мог явиться в любом виде.
Я сломался на Катрин. Она не первая у меня, но прежние девки были какие-то обыкновенные и ясно чего хотели. Кто-то хотел замуж, но быстро понимали, что с меня в этом смысле мало толку. Кто-то хотел лишь потрахаться, с ними вообще никаких проблем. А эта?! Юна, чиста и непорочна – это у всех на виду. А что на душе у нее – сам Господь Бог об этом не знал. Да и была ли у нее душа?! Впрочем, это-то вообще неважно, все равно не видно.
Со мной почему-то была очень ласкова. До сих пор не пойму, почему. А я к такому не привык, вот и клюнул. А точнее, полюбил – первый и единственный раз в жизни. Кто раз любил, тот разлюбил на всю оставшуюся жизнь. Сердце я отдал этой Катрин. Без всякого пафоса это говорю. Никогда больше я никого не любил. Мое сердце для всех женщин умерло. И вообще, женщины – хищные зверьки. Мелкозубчатые, длинношерстные, с яркой, необычной окраской. Необычайно прожорливые, капризные, скрытные, эгоистичные. Непостоянные, шумные и громогласные. Сначала тихие, смирные и послушные, но по мере обживания резко меняют свое поведение. Мужчины очень любят заниматься их разведением, хотя очень многим это увлечение стоит здоровья и даже жизни.
Катрин не дала ни удовольствия нормального, ни счастья. Она любит только себя. Мужчины ей нужны для того, чтобы ее уважали, как она говорит, чтобы их мучить – это она особенно любит. Она холодна, как лед. Можно сказать и так: сверху гладко, внизу сладко, внутри гадко. У нее в голове одно, а на деле другое. С виду она добрая и чистая… Это можно назвать спящей змеей. Я понял тогда, что женщины красят не только свои лица, но и свою душу. Катрин втерлась мне в доверие и украла. Все, что могла – и душу, и здоровье, и судьбу. Бывают такие воры и среди мужчин.
Я ведь не просто так таскаю с собой Роман о Розе. С детства хотел любви, семьи. Как у нас с матерью было. Детей хотел. Катрин любил. Она все сломала. Пусть Бог ее прощает, а я не Бог, прощать не умею. Любая другая баба – ладно! Но эту я любил!
Я, как Монкорбье, хотел быть, как все. Тогда как удар какой-то был. Сломался и стал Вийоном. Я родился и как поэт, после Катрин. До этого я балдел и писал в стихах всякие пакости про других. А тут нашел свой случай в Романе о Розе и других стихах.
Катрин предала меня. Думаю, что она сама подговорила Шермуа избить меня. Что-то ему пообещала. И я убежал. Думают, что я убежал из страха. Но ведь я несколько дней был еще в Париже и знал о признаниях Шермуа. Конечно, все равно могли схватить. Но главное – предательство Катрин. Я так и написал, а мне не верят. Я тогда и решил всегда зваться Вийоном. Да и по бабам пошел.
– И, что, ты запомнишь именно эти пьянки и шлюх, перед смертью будешь вспоминать именно их? Ради этого и жил?!
– Нет, конечно, но того, что я ждал от жизни, я так и не дождался. Об этом много говорили, а никто не видел. Не увидел и я. А потом пошли обман и предательства одно за другим. Самый близкий друг стал самым злым врагом, женщина, которую я любил и даже боготворил, захотела моей смерти и испоганила мою честь. И… я сломался.
– Что ты говоришь! Что за язык у тебя, Франсуа! У тебя ничего святого нет! – сокрушенно покачал головой капеллан.
– И снова ошибаетесь, pater noster! – язвительно ухмыльнулся Франсуа. – Святое у меня есть. Для меня все свято, что чисто. А много чистоты видели вы в этом мире? А? Ответьте-ка! Вы возмутились, что я так отозвался о Катерине де Воссель. Еще бы, она ведь такая благочестивая, ее ведь чаще можно видеть в церкви, чем где-либо еще. Она все о боге и о боге. И дядюшка ее почтенный священник. Если чистота – это грязь, размазанная ровным слоем, тогда она, безусловно, чиста. Знаете ли вы, кто рассказал нам, как пробраться к тому сундучку в часовне, где этот дядюшка хранил свои 600 экю? Знаете ли, кого я добрым словом поминал все то время, пока пропивал свою долю в 120 экю? Э, видите! А знаете ли вы, чем занимается эта Катерина де Воссель в свободное от молитв время? Говорили, что Катрин предается усладам даже под кустом в Булонском лесу, как собачонка. Я мог бы рассказать, да не хочу давать вам еще один повод упрекать меня в злоязычии.
– А кто без греха, сын мой? – вздохнул капеллан.
– Вот! Вот! Никто без греха! Вы правильно сказали! Нет таких и, наверное, быть не может. Мир он как вот это тусклое оконце, – Вийон махнул рукой. – Хоть какое яркое солнце будь там, на улице, а все равно мир изменит его и скажет, что это оно тусклое и бледное, что на нем пятна. Это на окне пятна, а не на солнце. Придумали же такое слово – грех! Все, что не по ним, люди объявляют грехом. Вот ведь и вы говорите о грехе. А в чем вы грешны? В том, что любили мою мать? Значит, любовь – это грех, да?
– Да, нет, Франсуа, ты же понимаешь… – залепетал смущенно капеллан.
– Да, понимаю и грехом считаю, что отреклись вы от моей матери, испугались за себя, за свою карьеру. Вот это действительный грех! Непростительный! Вы много заботились обо мне, много сделали для меня. Я никогда этого не забуду, всегда буду благодарен вам за это. Но святым вас, праведником, извините, считать не могу. Чем вы лучше меня? Я краду деньги, а вы любовь! Я убил мерзавца, а вы… любовь! И в себе, и в моей матери… да и во мне… Впрочем, простите, я уже не понимаю, что говорю. Простите меня!
– Да, нет, за что же тебя прощать, Франсуа? Ты прав… – И Гийом откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза.
– Ужасен этот мир, – медленно успокаиваясь, проговорил Франсуа. – В нем нет святых, но свято все! Всё! И деревья, и этот снег, пушистый, но мокрый и холодный… – и вон та девка в разодранном плаще. Она уже с час торчит на улице, несмотря на мороз. А что делать? Жрать ведь всем надо. И знаете, ей я больше сочувствую, чем Катерине, чем ее дядюшке, чем этому епископу, из-за которого я, кажется, потерял последнее здоровье. Будь он трижды проклят и да дарует бог нашему королю дюжину сыновей. Для начала!
И все же я эти годы, эти десять лет, прожил не так уж плохо. Было много веселья, много вина и много женщин. Да, много били, редко кого так много били, Меня трепали, как кудель. Зад превратили в фарш. Это все Катрин, по сути, устроила.
Я чувствую себя стариком. Старость пришла быстрее и раньше срока из-за того, что меня убивали. Убили здоровье. Меня не просто били, а именно убивали. Не хотели, чтобы их обвинили, поэтому и старались сделать так, чтобы я умер не сразу, но из-за побоев. Я от голода подыхал. В яме жевал собственную рубашку из кожи.
Жизнь улетела, как испуганная птица, а коршуном стал епископ Оссиньи. Признаюсь тебе в том, за что меня мгновенно отправят на Монфокон. Я молюсь за упокой души Тибо д’Оссиньи, т. е., по сути, отпеваю его еще при жизни. Но я молюсь, как молятся еретики пикары – только про себя. Так они делают это в Лилле и Дуэ. Читают «За упокой души». Епископ не имел права расстригать меня, ведь я не принадлежал к епархии епископа Орлеанского. Я не был ни его вассалом, ни оленем, на которого он мог охотиться.
Франсуа вздохнул: Человек живет, пока у него есть здоровье. Когда здоровья нет, он умирает. Смерть может прийти быстро, а может быть медлительной и жестокой, как у меня. Я умираю, медленно и жестоко.
Я слабый человек, знаю это и уже не стыжусь. На пытках я визжал от боли и, если бы от меня потребовали признаться в заговоре против короля, я моментально признался бы в этом. Но этот мерзкий епископ… вот я и проговорился! Я оскорбил служителя церкви. Сейчас бы кто услышал, да не поленился сообщить, куда следует, добавили бы это святотатство к моим прежним грехам, и я бы навеки… остался в Париже… в яме под Монфоконом. Глуп я и не острожен или все же с тобой могу немного расслабиться?! Оссиньи ведь действительно мерзавец! Его считают чуть ли не святым и сам он всё время твердит о Боге, о церкви, о грехах, о покаянии и прочем таком. Я помню, как он разглядывал меня на колесе. Ничего не пропустил, все углядел и всем полюбовался. Он наслаждался моей болью! Он любит, когда другим больно. И он нашел великолепное средство получать это удовольствие. Он боится убивать или, может, ему лень самому истязать людей, но в пытках, я думаю, он знает больший толк, чем сами палачи.
А я… я слаб. Я вопил, унижался, даже сам хотел оговорить себя в чем-нибудь, лишь бы скорей все это кончилось. Я о смерти молил. А епископу не нужны были абсолютно никакие мои признания, ему нужна была только моя боль.
И я слаб оказался перед предательством и подлостью. Все люди, с которыми я общался, с кем пил, с кем говорил о дружбе или о любви… все, кто клялся мне в верности, в дружбе, в любви, все предавали меня. В большом и малом, днем и ночью, летом и зимой. А я не мстил. Обижался, ненавидел, презирал, но не мстил. Не давал сдачи. Я не мог это сделать, я не знал, как это сделать. А когда знал, мне было их жалко. Представляешь! Я ненавидел человека и жалел его. Во хмелю-то я храбрый, в ярости злой, а все равно… Что бы мне Шермуа ударить ножом, а я пожалел эту мразь и только вдогонку бросил этот проклятый камень. Не хотел попасть, а попал. Будто кто-то помог мне отомстить. И то, заслужил он этот камень, и нож заслужил, но ведь я случайно в него попал. Лицом к лицу я бы ничего ему не сделал. И это не трусость, нет! Я просто глупо, примитивно жалею людей.
Я даже не сплетничал ни о ком. Обиды не скрывал, но о многом молчал всё же. Так, в стихах немного задирал, но больше на потребу публике, писал то, что им нравилось, что они хотели услышать от меня. А в сердце была такая боль! Вот оно, похоже, и надорвалось, всё ноет и ноет, особенно по ночам. Всё в себе и в себе, всё коплю и коплю обиды, а внешне такой разудалый, такой шустрый…
Знаешь, честно признаюсь, есть еще одно, что тянет меня в Париж. Только здесь есть то, что я люблю больше всего на свете. Это женщины. Нигде, во всей Франции, нет таких женщин, как у нас. Женщины есть, и встречаются очень даже хорошенькие, редкие красавицы, но дух не тот. Душа не та. Да и тело все же не то! Грешен, люблю женское тело, особенно тело девичье. Для меня это самая большая роскошь в мире. Да, я воровал, сквернословил. Любил тискать девок, но в ту минуту я их любил.
Гийом повернулся к Франсуа, немного помолчал, робко посмотрел ему в глаза:
– Франсуа, еще немного давай посидим, вот здесь, на этой лавке. Хочу с тобой еще кое-что обсудить. Ты мне не чужой, и я просто должен помочь тебе всем, чем могу. Есть у меня кое-какие соображения. Может, они тебе покажутся ненужными и даже глупыми, но ты все же выслушай меня.
Ты взял мою фамилию в качестве псевдонима. Ты ведь не придумал какое-то имя, а взял чужое. Неужели ты не понимаешь, что в результате ты как бы… стал другим человеком?! Пусть мы и родственники…
– Но ведь мы, как теперь мне стало известно, родственники очень близкие, – ухмыльнулся Франсуа.
– Пусть и так, но ты же этого тогда не знал. И ты отрекся от честного имени, от статуса честного школяра и магистра, став мошенником и вором.
– Не получился из меня вор.
– Конечно, но это запутало тебя. В тебе поселился другой человек. Ты стал двоедушен. Добро и зло стали переплетаться в твоей душе. Ты сам создал себе судьбу. Зачем ты взял мое имя?!
– Мне понравилась игра смыслов. Я действительно создавал для выживания образ мошенника. Играл в него. Да, здесь ты прав, святой отец, абсолютно прав. Я и сам понимал это. Потому и говорил, что не знаю самого себя.
– Знаешь ведь, есть такая формула – in demonae deus. В дьяволе бог, но и в боге, прости мне, Господи, такое святотатство, дьявол. Твоя душа превратилась в мяч, которым играли бесы.
Теперь тебя все знают только, как Вийона. Даже в документах пишут. Как де Лож ты начал свою жизнь и перед тобой открылся Париж. Как Монкорбье ты выучился на магистра семи свободных искусств и перед тобой открылась судьба. Но зачем ты сменил имя?! Ты ушел на другую дорогу.
– Я уже сам путаюсь, кто я – Монкорбье, де Лож или Вийон. Над другими смеялся, но о себе писал искренне. Не врал, хотя многое и не писал – стыдно, да и не нужно никому на самом деле. Но делать-то что?! Что мне сейчас делать-то?! – как-то очень серьезно спросил Франсуа.
– Вернуться в религию, в церковь. В безумном мире, в развратном и лживом Париже это единственное, что спасет. По себе знаю.
– Да пробовал я. Часто каялся, даже у тебя в этой часовне, а в тюрьмах, после дыбы и пытки водой, как только приходил в себя от побоев, так сразу на колени становился.
– Там ты от боли бежал. Малодушно врал Господу. Это все от боли и страха обещают. У тебя теперь иная ситуация. Душу тебе спасать надо. Не тело, а душу. Сжечь то, чему поклонялся, и поклониться тому, что сжигал.
– Ничего себе, загнул! Ты мне, что… в монастырь предлагаешь уйти?
– Ну, это было бы идеально. Посуди сам. Ты уже, в общем-то, не молод. Возраст Христа. Момент, согласись, важный. И не случайно, явно, твоя жизнь так круто повернулась. Семьи ты уже не заведешь, здоровья маловато и нервы истрепаны. Чем жить будешь, если нет образования? Да и в магистры кто тебя возьмет, с твоей биографией? Да и не сможешь ты в мире жить. Мир тебя уже не отпустит… или добьет. Опять со своими ракушечниками спутаешься.
– Ты слишком многого от меня требуешь! Не способен я на это. Я даже не знаю, как это сделать. Да и насмотрелся я на монахов, жить рядом с ними, в одном монастыре, нет, это не по мне!
– Ты не пробовал просто! Пойми, мне трудно все это говорить. Я, хоть и духовное лицо, но о семье всегда мечтал. О своей собственной семье. Я и тебя-то, сам понимаешь, взял не случайно. Конечно, и матери твоей помочь хотел, но… Я иногда… по ночам, о внуках даже мечтал. И. если ты действительно, из мира уйдешь, то всё…. Ничего не будет. Но мне тебя жалко! Ведь иначе тебя просто рано или поздно или повесят, или прирежут. Мне страшно об этом даже думать!
– Да, ошарашил ты меня. Я уходил в никуда, на смерть, можно сказать. И уже в душе смирился с этим. Грешен, была мысль еще раз просить помощи у кокийяров. Вот, смотри, что мне братаны в дорогу дали. Еще позавчера.
Он залез в карман, что-то вытащил и показал Гийому. Тот вытаращился: – Что это? Господи, прости!
Франсуа быстро перевернул этот предмет в руке. – Это раковина, просто, с той стороны она, действительно, похожа на… Потому она и используется, как пароль.
Гийом еще раз перекрестился.
– Кокийяры потому и называются ракушечниками, что пользуются раковинами. Первые, те, кто ходил на поклонение мощам святого Якова в Сант-Яго де Компостела, эти раковины нашивали себе на грудь, плечи, колени. Это было доказательством их деяния. Ну, а эти… вот так стали их использовать.
Не знаю, смогу ли я ее использовать. Они меня своим не считают, а в какое-нибудь дело втянуть могут. А потом во всем обвинить меня одного. А мне это надо?!
Гийом вздохнул и устало усмехнулся: – Ну, и что дали тебе твои кокийяры?
Франсуа махнул рукой: Я знаю, кто я для них. Не свой, а чужой. У них есть свой язык. Я его немного узнал. Даже несколько баллад написал с помощью его слов.
– И кто же ты для них?
– Кто-то, кто крутится вокруг. Конечно, всё же не простой горожанин, и не школяр. Для них это пустой звук. Но и не вор, а лизоблюд и шестерка. Никто толком не объяснял, что это значит. Поэтому они всегда меня или выдавали, или сваливали все преступления на меня. Таких, как я, не уважают ни они, ни честные люди. Называют испорченными. Ни богу свечка, ни черту кочерга!
Вот получил от них, как они говорят, на первое время. – он показал кошель и кинжал. Я же понимаю, что эта помощь кокийяров – ловушка. Они же, а не какие-нибудь живодеры, могут меня убить там, в провинции, а не в Париже. Узнают мой новый адрес и придут. В кабаке за мной все время следил какой-то человек, потом посмотрел, куда я пошел. Это какой-то мрачный, черный человек. В общем, за мной уже охотятся. За мной и за моим кошелем. Так было всегда. Только у меня что появится, сразу появятся лизоблюды и воры. И они же, при малейшей для себя опасности, все преступления вешают на меня, совершенно не стесняются и обвиняют меня в своих же преступлениях. Воры не берут меня больше на дело, хотя чуть что валят на меня, а мою вину и доказывать не надо, ведь я сам о себе все сочинил. А я боюсь смерти, особенно казни. Мне часто снится Монфокон. Я видел не раз, как вешали там людей, как они гнили.
А на что мне жить-то?!
– Так, Франсуа, давай так – я скажу всё, что хочу, а ты выслушай. И не перебивай, а то собьюсь, да и забуду, что хочу сказать. А потом ответишь.
Я старею все больше и больше. Силы тают на глазах, память слабеет. Многие желания ушли. Я уже не смогу тебе помогать. Сам уже нуждаюсь в помощи. Не буду скрывать – на тебя надеялся. Думал, перебесишься, вернешься в университет. Или свободные искусства будешь преподавать, или все же, Бог даст, юристом станешь. Ты ведь парень способный.
А тут вон как судьба складывается! Нет, я не ропщу. Видно, такова судьба! И тебя разжалобить не хочу, даже, если бы и захотел, ты уже ничем мне не поможешь – не сможешь или не успеешь.
Гийом закашлялся и замолчал. – Дыхания не хватает. Старость есть старость, с ней не поспоришь. Да… разве что… если действительно устал мыкаться по свету и хочешь остепениться, – дай мне как-нибудь знать. Я продам здесь свой домик и приеду к тебе. Купим какой-нибудь домик в провинции, может, у тебя душа к хозяйству повернется. Хорошо бы в Пуату. Люблю я те места. Впрочем, о чем это я, дурак старый?! Ты и хозяйство? Даже представить невозможно! Хотя вот дед твой Орест в свое время… А, ладно!
– Хозяйство? – рассмеялся Вийон. – Это занятно! Этим я еще не занимался. А, что?! Подлечу свои болячки, женюсь на какой-нибудь крестьянке. Буду пахать или… Или пасеку заведу. Буду ходить на охоту. В Пуату леса густые, зверья много.
Да, извини, святой отец, но это как-то… даже не смешно. Эх, знать бы мне, чем я могу успокоиться. Я ведь, кроме стихов, ничего не люблю. Стихи, женщины, вино – без этого хоть умирай. Боюсь, что уже не смогу измениться. Не жизнь, а колея и никак мне из нее не выбраться. Но… я все же подумаю над твоими словами.
Ты меня в общем-то поймал на моей слабости. Я, если хочешь, перебесился уже, устал от жизни. На прежнюю жизнь нужно прежнее здоровье, а его уже нет. В общем, я хочу, честно признаюсь, покоя. Я хочу быть маленькой свечей. Лучше в маленькой уютной комнате, пусть даже, и на ветру. Только единственное – я хочу угаснуть, догорев дотла, а не от ветра, не от злой чужой воли. Я не хочу быть убитым – ни судьбой, ни болезнями, ни людьми, ни животными, ни природой. Просто догореть! Я уже кривой сейчас и весь во вмятинах, но… Хочу умереть сам, просто от старости, и исчерпанности фитиля. Ушли годы, остались дни. Не смерть страшна, а дряхлость. Я ничем не отличаюсь от старца, я уже такой же дряхлый, смерть уже стоит рядом.
– Ты чего мелешь?! Чего ноешь?! Возьми себя в руки. Люди и не с таким здоровьем живут годы и умирают от другого.
– Ты прав, сам знаю, но у меня сегодня сумасшедший день. Столько всего произошло. Я пригласил друзей в кабак, но пришли далеко не все. Понятно, что не было Катрин, лишь Марго. А раньше было много женщин. А я ведь им такую речь толкнул! Кое-кто уже уснул за столом даже, кто-то лишь помахал рукой. Только Марго до часовни проводила и тут же убежала. Конечно, ведь рабочий день начинается! Я реально остался один! Больной, брошенный всеми, никому не нужный, всеми обманутый.
– Ты Богу нужен! Подумай об этом! Ты уже вышел из маленького, детского мира людей в большой мир собственной души. Это видно из твоих стихов, да и из твоей ненависти к людям. Но есть и третий мир, о котором ты никогда еще не думал. Это Космос, где Бог. Там в монастыре ты и будешь изучать уже не мир, а себя. В Библии сказано, что не хорошо быть человеку одному. Там ты и не будешь один, наоборот, ты найдешь себе настоящих друзей, бескорыстных и честных.
– А как я узнавать-то себя буду? Есть какой-то другой способ, кроме переживаний и размышлений?!
– Там узнаешь. Это новое, с таким ты еще не сталкивался.
Гийом замолчал, словно сам вслушивался в то, что сказал сам, едва кивая головой. Франсуа даже показалось, что у него просто голова трясется, может быть, от старости. Потом Гийом откинулся на кресле и продолжил:
– Да, так вот, я закончу. Я и сам вижу, что ты уже другой человек. Сначала ты был просто злой, после пыток епископа, потом суетился из-за драки с писарями этого мэтра, но усталость твоя сказывалась. Ты почти не сопротивлялся, даже жалобы свои рассылал как-то равнодушно. Я всё это видел и понял, что ты смертельно устал. Сейчас ты просто подтвердил это. И вот, повторяю, что я тебе предлагаю.