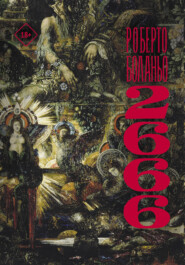скачать книгу бесплатно
Ле.
– «Л» – это Арчимбольди, а «е» – это покойный господин Бубис.
А потом рассмеялась и долго, откинувшись на спинку офисного кресла, смотрела на профессоров и молчала. Потом они поговорили с завом корректорского отдела. Ей было примерно столько же лет, сколько и ее коллеге, однако эта дама явно уступала ей в веселости.
Она сказала: да, действительно, я знала Арчимбольди, но это было так давно, что сейчас не припомнить ни лица, ни манеры держаться, ни какой-нибудь интересной байки. Она не помнила, даже когда в последний раз Арчимбольди заходил в издательство. И еще порекомендовала поговорить с госпожой Бубис, а потом, не попрощавшись, вообще ничего не сказав, переключилась на просмотр гранок, беседы с другими корректорами и звонки по телефону людям, которые, как с состраданием подумали Эспиноса с Пеллетье, были, наверное, переводчиками. Перед уходом они, все еще отказываясь сдаться, вернулись к Шнеллю и рассказали о запланированных на ближайшее будущее встречах и коллоквиумах, посвященных творчеству Арчимбольди. Шнелль, весь внимательность и сердечность, сказал, что они могут на него рассчитывать в делах любого толка.
Больше дел у них не оставалось – ну, кроме ожидания вылета самолетов, которые перенесли бы их в Париж и Мадрид, – поэтому Пеллетье и Эспиноса решили прогуляться по Гамбургу. Гуляя, они, как и следовало ожидать, забрели в район борделей и пип-шоу, и тут ими овладела меланхолия, и они принялись рассказывать друг другу о ранах неразделенной любви и разочарованиях. Понятное дело, они не называли никаких имен и дат, и разговор у них вышел, так сказать, абстрактный, но так или иначе, несмотря на делано равнодушный тон этих рассказов, беседа и маршрут прогулки погрузили их в меланхолию еще глубже, настолько глубоко, что через пару часов они почувствовали, что задыхаются.
Они взяли такси и по дороге в гостиницу не проронили ни слова.
Однако в отеле их ждал сюрприз. На стойке администратора лежала адресованная им обоим записка с подписью Шнелля. Тот писал, что после их утренней встречи счел необходимым поговорить с госпожой Бубис, и та согласилась их принять. Следующим утром Эспиноса и Пеллетье прибыли в ее квартиру, располагавшуюся на четвертом этаже старинного дома в хорошем районе Гамбурга. Ожидая выхода дамы, они рассматривали развешанные на стене фотографии в рамках. На двух других стенах висели полотна – картина Сутина и картина Кандинского, а также несколько рисунков Гроша, Кокошки и Энсора. Однако Эспиносу с Пеллетье больше заинтересовали фотографии – людей с них они либо презирали, либо боготворили, но в любом случае читали – Томас Манн с Бубисом, Генрих Манн с Бубисом, Клаус Манн с Бубисом, Альфред Дёблин с Бубисом, Герман Гессе с Бубисом, Вальтер Беньямин с Бубисом, Анна Зегерс с Бубисом, Арнольд Цвейг с Бубисом, Бертольд Брехт с Бубисом, Лион Фейхтвангер с Бубисом, Рикарда Хух с Бубисом, Оскар Мария Граф с Бубисом – тела и лица и размытый фон, все фото в прекрасных рамках. Запечатленные на них люди с невинностью мертвых, которых уже не тревожит, смотрит на них кто-нибудь или нет, наблюдали за едва сдерживаемым энтузиазмом двух университетских профессоров. Когда госпожа Бубис появилась в комнате, оба, сблизив головы, пытались выяснить, кто на этот раз позирует с Бубисом на фото – Фальяда или нет.
Да, это действительно Фальяда, сказала им госпожа Бубис; одета она была строго – белая блузка и черная юбка. Развернувшись, Пеллетье и Эспиноса оказались лицом к лицу с пожилой женщиной с фигурой, напоминающей, как потом признался Пеллетье спустя некоторое время, Марлен Дитрих, женщиной, которая, несмотря на возраст, сохранила в неприкосновенности свою решимость, женщиной, которая не цеплялась за края пропасти, а падала в нее – с любопытством и элегантностью. Женщиной, которая даже в пропасть падала, удобно устроившись.
– Мой супруг знал всех немецких писателей, а немецкие писатели любили и уважали моего супруга, хотя потом некоторые говорили про него ужасные вещи, а некоторые – и вовсе… непроверенные, – ответила с улыбкой госпожа Бубис.
Они заговорили об Арчимбольди, и госпожа Бубис попросила принести пирожные и чай, хотя сама выпила водки; и вот это удивило Эспиносу и Пеллетье – нет, не потому, что дама начала пить так рано, а потому, что могла бы и предложить стопочку; правда, им все равно пришлось бы отказаться.
– Единственный человек в нашем издательстве, который досконально разбирался в творчестве Арчимбольди, – сказала госпожа Бубис, – был господин Бубис. Он ведь опубликовал все его книги.
Но она все спрашивала себя (а заодно и их): до какой степени человек способен разобраться в творчестве другого человека?
– Я, к примеру, страстно люблю Гроша, – сказала она и показала на висевшие на стене рисунки Гроша, – но… действительно ли я разбираюсь в его творчестве? Меня очень веселят его сюжеты, и время от времени мне даже кажется, что Грош рисовал их специально для меня, чтобы я смеялась, а иногда я не просто смеюсь, а хохочу, хохочу до слез, безудержно, но как-то мне случилось познакомиться с одним искусствоведом, которому, конечно, тоже нравился Грош – и тем не менее он, всякий раз, когда посещал выставку его творчества или по профессиональным причинам должен был изучить какое-нибудь полотно или рисунок, впадал в депрессию, глубокую, и приступы этой депрессии или грусти длились неделями. Этот искусствовед был моим другом, хотя мы никогда не говорили о Гроше. Тем не менее однажды я рассказала ему, что чувствую. Поначалу он просто не смог в это поверить. Затем покачал головой. Потом оглядел меня снизу доверху, словно бы впервые видел. Я решила, что он сошел с ума. Так вот, наша дружба кончилась, он порвал со мной навсегда. Некоторое время назад мне сказали, что он до сих пор ходит и рассказывает, что я ничего не понимаю в творчестве Гроша и что у меня эстетический вкус как у коровы. Ну и ладно, пусть говорит, что ему заблагорассудится. Я от Гроша смеюсь, он впадает в депрессию, но… кто разбирается в творчестве Гроша на самом деле?
– Давайте предположим, – продолжила госпожа Бубис, – что в этот момент в дверь звонят и на пороге стоит мой старый друг искусствовед. Садится сюда, на диван, рядом со мной, и один из вас вынимает рисунок без подписи, клянется, что это Грош и что он хочет продать его. Я смотрю на рисунок, улыбаюсь, достаю свою чековую книжку и покупаю его. Искусствовед глядит на рисунок и не впадает в депрессию. И начинает переубеждать меня! Для него это не рисунок Гроша. Для меня – рисунок Гроша. Так кто же из нас прав?
– Или давайте зайдем с другой стороны. Вы, – тут госпожа Бубис указала на Эспиносу, – вынимаете рисунок без подписи и говорите, что это Грош и вы хотите его продать. Я не смеюсь, холодно оглядываю его, оцениваю линии, ритм, сатирический заряд, но… ничего в этом рисунке не вызывает во мне радости. Искусствовед внимательно его оглядывает и, как ему свойственно, тут же впадает в депрессию и говорит, что хочет его купить, хотя сумма ему не по карману, но он согласен, и впереди его ждут долгие вечера, когда он будет смотреть на рисунок и погружаться в меланхолию. Я пытаюсь разубедить его. Говорю, что авторство сомнительно, потому что мне не смешно. Искусствовед отвечает, что мне уже давно пора было посмотреть на Гроша глазами взрослого человека, и поздравляет меня. Так кто же из нас двоих прав?
Затем разговор снова перешел на Арчимбольди, и госпожа Бубис показала им прелюбопытнейшую рецензию, которую опубликовала какая-то берлинская газета после того, как в свет вышел «Людике», первый роман Арчимбольди. Автором рецензии указывался некий Шлейермахер, и он пытался описать личность романиста с помощью нескольких слов.
Умственное развитие: среднее.
Характер: эпилептический.
Культурное развитие: беспорядочное.
Воображение: хаотическое.
Просодия: хаотическая.
Владение языком: хаотическое.
Среднее умственное и беспорядочное культурное развитие еще как-то можно было понять. Но что он хотел сказать, написав «характер: эпилептический»? Что Арчимбольди страдает эпилепсией, что у него не все ладно с головой, что у него случаются припадки неизвестной науке природы, что он компульсивный читатель Достоевского? В рецензии про внешность и прочие телесные параметры вообще не говорилось…
– Мы так и не узнали, кто был этот Шлейермахер, – сказала госпожа Бубис. – Однако время от времени покойный супруг мой шутил: это, мол, сам Арчимбольди написал. Но и он, и я прекрасно знали, что это не так.
Ближе к полудню – когда приличные люди уже откланиваются – Пеллетье и Эспиноса наконец осмелились задать единственный вопрос, казавшийся им важным: «Могла бы госпожа помочь им связаться с Арчимбольди?» Глаза сеньоры Бубис вспыхнули. «Да так, словно в них отразился пожар», – рассказывал потом Пеллетье Лиз Нортон. Не пожар в своем пламенном апогее, а некое подспудное, длившееся несколько месяцев горение, которое постепенно угасало. «Нет» сеньоры Бубис они прочитали в том, как она легонько покачала головой, – и Пеллетье с Эспиносой разом осознали бесполезность просьб.
Они посидели еще немного. Откуда-то из глубины дома до них доносилась музыка – какая-то народная итальянская песенка. Эспиноса спросил, были ли они знакомы, не встречалась ли она лично с Арчимбольди в годы, предшествующие смерти супруга? Госпожа Бубис ответила, что да, и промурлыкала припев песенки. Оба друга отметили, что итальянским она владела прекрасно.
– Как выглядит Арчимбольди? – спросил Эспиноса.
– Он очень высокий, – ответила госпожа Бубис. – Очень высокий, человек поистине немалого роста. Если бы он родился сейчас – играл бы в баскетбол.
Однако сказано это было таким тоном, что сразу становилось понятно: ей все равно, высокий он или карлик. По дороге в гостиницу оба друга думали о Гроше и хрустальном и жестоком смехе госпожи Бубис, о том, какое впечатление на них произвел дом, увешанный фотографиями писателей, среди которых не нашлось единственного фото, которое их интересовало. И хотя оба отвергали саму мысль об этом, они понимали (возможно, интуитивно чувствовали): озарение, которое приоткрылось им в квартале проституток, важнее откровения – каким бы оно ни было, – которое они предчувствовали в доме госпожи Бубис.
Одним словом, сказанным с чистым сердцем, Пеллетье и Эспиноса, гуляя по Санкт-Паули, обнаружили, что поиски Арчимбольди – это не то, чем можно заполнить целую жизнь. Да, они могли читать его, изучать, анализировать, но умирать со смеху или впадать в депрессию – нет, не могли: отчасти потому, что тот всегда находился далеко, отчасти из-за того, что проза Арчимбольди по мере того, как в нее погружаешься, пожирает своих исследователей. Одним словом: Пеллетье и Эспиноса поняли в Санкт-Паули и после в доме, украшенном фотографиями покойного господина Бубиса и его авторов, что хотят заниматься любовью, а не войной.
Вечером они уже не позволяли себе такого рода откровенность, то есть позволяли откровенность, но только если это было совершенно необходимо, в смысле, что то были разговоры на общие темы, можно даже сказать – абстрактные; в аэропорт они взяли одно такси на двоих и, ожидая посадки на свои рейсы, говорили о любви, о необходимости любви. Пеллетье улетел первым. Эспиноса остался в одиночестве – его самолет улетал через полчаса – и вдруг начал думать о Лиз Нортон и о реальных возможностях влюбить ее в себя. Он представил ее, а потом представил себя: вот они вместе, в одной квартире в Мадриде, вот они ходят за продуктами, оба работают на немецкой кафедре, он представил свой кабинет, а за стеной – ее кабинет, представил мадридские вечера, как он гуляет с ней под руку, как они ходят по хорошим ресторанам в компании друзей, а потом возвращаются домой, а там их ждут огромная ванна и огромная кровать.
Однако Пеллетье его опередил. Через три дня после их встречи с госпожой хозяйкой издательства, он, не предупредив заранее, прилетел в Лондон, рассказал Лиз Нортон все последние новости и… пригласил ее отужинать в ресторане в Хаммерсмите (ресторан некоторое время назад порекомендовал коллега с русской кафедры): там они ели гуляш и пюре из турецкого гороха со свеклой и рыбу, маринованную в лимоне с йогуртом, получилось очень романтично – такой ужин при свечах под аккомпанемент скрипки, с настоящими русскими и ирландцами, одетыми как русские; ужин вышел со всех точек зрения несколько гротескным, а с гастрономической точки зрения – бедноватым и сомнительным, впрочем, они всё запивали водкой, а также взяли бутылку бордоского, которая стоила как крыло от самолета; однако все это было не зря: после ужина Нортон пригласила его к себе, теоретически чтобы поговорить об Арчимбольди и скудных сведениях, которые удалось выжать из госпожи Бубис, а также о презрительном отзыве критика Шлейермахера на первый роман, а потом они расхохотались и Пеллетье поцеловал Нортон в губы, очень сдержанно, англичанка же ответила ему поцелуем гораздо более пылким – возможно, всему виной были водка с бордоским, но Пеллетье счел этот момент многообещающим, и они легли в кровать и трахались целый час – до тех пор, пока англичанка не уснула.
Той ночью, пока Лиз Нортон спала, Пеллетье припомнил давний вечер, когда они с Эспиносой посмотрели в номере немецкой гостиницы фильм ужасов.
Фильм был японским, и в одной из первых сцен появлялись две девочки-подростка. Одна из них рассказывала историю: однажды мальчик поехал на каникулы в Кобе, и ему захотелось выйти на улицу поиграть с друзьями ровно в то время, когда по телевизору начиналась его любимая передача. И вот этот мальчик взял кассету, вставил ее в магнитофон, поставил его на запись, а потом ушел гулять. Но тут возникла проблема: мальчик был из Токио, и в Токио его программу передавали по каналу 34, а в Кобе канал 34 ничего не показывал, в смысле, он был пустой и там можно было увидеть только телевизионный «снег».
И вот мальчик вернулся домой, сел перед телевизором и включил видео, а вместо его любимой программы там оказалась женщина с белым лицом, и она сказала, что мальчик скоро умрет.
И все.
И тут зазвонил телефон, мальчик поднял трубку и услышал голос той самой женщины: та спросила, уж не думает ли он, что это просто шутка. А неделю спустя они нашли этого мальчика мертвым в саду.
И все это рассказывала одна девочка другой девочке, смеясь и хихикая. Вторая девочка явно испугалась. А вот первая, которая рассказывала историю, готова была вот-вот упасть на пол в корчах – до того ей было смешно.
И тут, припомнил Пеллетье, Эспиноса сказал: эта первая девка – обычная мелкая психопатка, вторая – дура ебучая, а фильм украсил бы эпизод, в котором вторая девчонка, вместо того чтобы кривиться, бояться и экзистенциально страдать, взяла бы и сказала первой: «Заткнись». Причем не так, как говорят воспитанные девочки, вежливо и культурно, а вот так: «Заткнись, сукина дочь, с чего ты тут хохочешь? Тебя что, возбуждают истории о мертвых детях? Ты что, кончаешь, что ли, когда тебе про мертвых детей рассказывают, хуева сосалка воображаемых членов?»
Ну и всякое такое прочее. Пеллетье также вспомнил, что Эспиноса говорил с невероятной горячностью, даже сымитировал голос и манеру говорить второй девчонки: мол, вот так она должна была с первой разговаривать, и Пеллетье благоразумно предположил, что, перед тем как разойтись по своим номерам, надо бы выключить телевизор и спуститься с испанцем в бар и чего-нибудь выпить. А еще он вспомнил, как вдруг почувствовал что-то вроде нежности к Эспиносе, и нежность эта напомнила ему о том, как он сам был подростком, как пускался в приключения, зная, что друг не подведет, а еще напомнила, какие в провинции тихие вечера…
В течение той недели домашний телефон Лиз Нортон звонил три или четыре раза вечером, а мобильный – два или три раза по утрам. Звонили ей Пеллетье и Эспиноса – естественно, используя Арчимбольди для того, чтобы завести беседу, но где-то через минуту литературоведческие разговоры заканчивались и оба преподавателя начинали говорить о том, что их реально интересует.
Пеллетье рассказывал о коллегах по немецкой кафедре, о молодом швейцарском поэте и преподавателе, который раз за разом атаковал Пеллетье, чтобы тот поспособствовал ему в получении стипендии, о небе над Парижем (естественно, с упоминанием Бодлера, Верлена и Банвиля), о вечерних улицах, по которым катили автомобили с уже зажженными фарами. Эcпиноса рассказывал о своей библиотеке, которую инспектировал в полном одиночестве, о далеком гуле барабанов, который иногда слышался, похоже, из квартиры на той же улице, а что, наверное, там целая группа африканских музыкантов живет, о разных районах Мадрида, о Лавапьес, Маласанья и окрестностях Гран-Виа, по которым можно безбоязненно гулять в любой час ночи.
В эти дни как Эспиноса, так и Пеллетье умудрились совершенно позабыть о существовании Морини. Только Нортон ему время от времени звонила, чтобы поговорить на все те же привычные темы.
Морини, как бы это выразить, превратился для них в совершеннейшего невидимку.
Пеллетье быстро привык наезжать в Лондон всякий раз, когда хотелось, – правда, тут нужно вот что принять во внимание: ему это было проще, чем остальным, ведь он жил недалеко и мог выбирать любое транспортное средство – благо, к его услугам их было в избытке.
Приезжал он всегда на одну ночь. В Лондон он прибывал после девяти, а в десять они с Нортон уже сидели за столиком ресторана, который он бронировал еще из Парижа, а в час ночи они уже оказывались вместе в постели.
Лиз Нортон была страстной любовницей, хотя ее приступы страсти длились недолго. В постели ей не хватало воображения, поэтому она с удовольствием предавалась всем сексуальным играм, которые предлагал испробовать любовник, и никогда не брала на себя инициативу, да и не желала этого. Обычно они занимались любовью не более трех часов, что иногда расстраивало Пеллетье – он-то был готов трахаться до самого рассвета.
После всего Нортон предпочитала разговаривать о делах академических, и вот это Пеллетье совсем не нравилось: с его точки зрения, логично было бы поговорить об их отношениях. Видимо, безразличие Нортон к этой проблеме, скорее всего, было чисто женским способом выстраивать психзащиты. Чтобы сломать между ними этот лед, Пеллетье решился рассказать ей о своих собственных любовных похождениях. Он составил длинный список женщин, с которыми имел дело, и предложил его вниманию застывшей в ледяном молчании – или безразличии – Нортон. Список не произвел на нее никакого впечатления, и ответного рассказа тоже не последовало.
По утрам, вызвав такси, Пеллетье бесшумно – чтобы не разбудить – одевался и уезжал в аэропорт. Уходя, он всегда оборачивался посмотреть на нее – как она, совсем одинокая, спит среди смятых простыней, и временами чувствовал себя настолько переполненным любовью, что едва мог сдержать наворачивающиеся на глаза слезы.
Час спустя звонил будильник Лиз Нортон, и она тут же вскакивала с кровати. Принимала душ, ставила греться воду, пила чай с молоком, сушила волосы и принималась c огромной тщательностью изучать квартиру, словно ее мучил страх – а не утратила ли она что-то ценное во время этого ночного визита? В гостиной и ее комнате обычно царил жуткий беспорядок, и ей это не нравилось. С нетерпением она убирала грязные бокалы, вытряхивала пепельницы, снимала простыни и стелила чистые, расставляла по полкам книги, которые Пеллетье вытащил и разбросал по полу, относила в винный шкаф бутылки, потом одевалась и уходила в университет. Если случалось заседание кафедры, она шла на заседание, а если не случалось, то запиралась в библиотеке и читала или работала до тех пор, пока не начинались занятия со студентами.
Однажды в субботу Эспиноса сказал, что ей надо приехать в Мадрид, что он ее приглашает, ведь Мадрид в это время года потрясающе красив, а кроме того, открылась выставка, посвященная Бэкону, и ее совершенно необходимо посетить.
– Приеду завтра, – сказала Нортон.
Эспиносу ее согласие застало врасплох: приглашая ее, он повиновался импульсу, желанию ее увидеть, но совершенно не рассчитывал, что она согласится.
Излишним будет говорить, что подтвержденное приглашение – неужели они все-таки окажутся у него дома! – ввергло его в состояние перманентной ажитации и всепожирающей неуверенности в себе. Тем не менее воскресенье они провели совершенно замечательно (еще бы, Эспиноса едва ли не наизнанку вывернулся, чтобы это устроить) и вечером легли в постель, пытаясь расслышать бой барабанов в соседней квартире – безрезультатно, – впрочем, похоже, африканская группа именно в этот день уехала в турне по испанским городам. У Эспиносы накопилось столько вопросов, что, когда выдался благоприятный случай, он… ничего не спросил. Да и зачем? Нортон сказала, что они с Пеллетье любовники, правда, она употребила другое слово, не столь определенное – то ли «дружба», то ли «интрижка» – в общем, что-то вроде этого.
Эспиноса хотел было спросить, когда они стали любовниками, но у него вырвался лишь вздох. Нортон сказала, что у нее много друзей, не уточнив, шла ли речь о друзьях, которые друзья, или о друзьях, которые любовники, и что так оно повелось с ее шестнадцати лет, когда она впервые занялась любовью с одним типом – тридцатичетырехлетним неудачливым музыкантом с Поттери-Лейн, и что она вот так это себе представляет. Эспиноса, который до этого никогда не говорил по-немецки о любви (или о сексе) с женщиной, тем более с обнаженной женщиной в своей постели, хотел было спросить, как она себе это представляет – эту часть ее реплики он честно не понял, – но в результате лишь молча покивал.
А следом случилось нечто неожиданное. Нортон посмотрела ему в глаза и спросила: считает ли он, что знает ее? Эспиноса ответил: тут трудно что-то утверждать, возможно, что-то он знает, а что-то нет, но он безмерно ее уважает и даже обожает – в смысле, ему очень нравятся ее работы как исследовательницы творчества Арчимбольди. Тогда Нортон сказала ему, что была замужем, а сейчас разведена.
– Я бы никогда такого не подумал, – сказал Эспиноса.
– А это правда, – сказала Нортон. – Я разведена.
Когда Лиз Нортон вернулась в Лондон, Эспиноса занервничал еще сильнее, чем в те два дня, что Нортон провела в Мадриде. С одной стороны, все прошло без сучка и задоринки, в этом он не сомневался, в особенности им было хорошо в постели, тут у них все совпадало и они были прекрасной гармоничной парой, такое случается между людьми, которые давно друг друга знают, но вот ведь как обстояло дело: когда они заканчивали заниматься сексом и Нортон вдруг обнаруживала желание поговорить, все менялось – англичанка проваливалась в какое-то близкое к гипнозу состояние, а ведь лучше бы она это все рассказывала подружке, а не ему: Эспиноса искренне полагал для себя правилом, что подобные откровения не для мужских ушей, а исключительно для женских: Нортон рассказывала о месячных, к примеру, говорила про луну и черно-белые фильмы, которые могли в любой момент превратиться в фильмы ужасов, а Эспиносу подобные исповеди безмерно угнетали, угнетали до такой степени, что, прослушав их, он едва находил в себе силы одеться и пойти ужинать или присоединиться к компании друзей – естественно, под руку с Нортон, а ведь оставался непроясненным вопрос с Пеллетье, вот тут у Эспиносы прямо волосы дыбом от страха поднимались, кто ж ему теперь скажет, что он, Эспиноса, спит с Лиз, – словом, все это приводило его в замешательство, а когда он оставался один, у него крутило в животе и хотелось в туалет, прямо как у Нортон (и зачем, зачем он позволил рассказать себе это!) при виде бывшего: мутного типа под метр девяносто ростом, потенциального самоубийцы и потенциального убийцы, возможно, мелкого воришки или хулигана, культурный горизонт которого ограничивался попсовыми песенками, которые он вместе со своими дружками горланил в каком-нибудь пабе, ублюдка из тех, что верят в то, что говорят по телевизору, карликовой души, атрофировавшегося духа, прямо как у какого-нибудь религиозного фундаменталиста, – словом, в любом случае и прямо говоря, худшего мужа, который может достаться женщине.
Эспиноса не хотел вовлекаться в отношения далее, чем надобно, – ему надо было успокоиться; и вот, по прошествии четырех дней, когда он уже совершенно успокоился, он позвонил Нортон и сказал, что хочет ее видеть. Нортон спросила: в Лондоне или Мадриде? Эспиноса ответил: как ей удобнее. Нортон выбрала Мадрид. Эспиноса почувствовал себя самым счастливым мужчиной в мире.
Англичанка приехала вечером в субботу и уехала вечером в воскресенье. Эспиноса отвез ее на машине в Эскориал, а потом они пошли смотреть фламенко в таблао. Ему показалось, что Нортон счастлива, и Эспиноса очень обрадовался. В ночь с субботы на воскресенье они занимались любовью три часа подряд, и в конце Нортон, вместо того чтобы заговорить на свои обычные темы, сказала, что очень устала, и уснула. На следующий день, приняв душ, они снова занялись любовью, а потом поехали в Эскориал. По дороге обратно Эспиноса спросил, виделась ли она с Пеллетье. Нортон сказала, что да, Жан-Клод приезжал в Лондон.
– И как он? – поинтересовался Эспиноса.
– Хорошо, – ответила Нортон. – Я ему рассказала про нас.
Эспиноса разнервничался и сосредоточился на дороге.
– И что он думает?
– Что это мое дело, – сказала Нортон, – но однажды мне придется выбирать.
Эспиноса промолчал, однако слова француза пришлись ему по душе. Этот Пеллетье – славный малый, подумалось ему. И тут Нортон поинтересовалась, как относится к делу он сам.
– Да более или менее так же, – соврал Эспиноса, пряча глаза.
Некоторое время они молчали, а потом Нортон начала рассказывать о своем муже. В этот раз ее жуткие истории оставили Эспиносу совершенно равнодушным.
Пеллетье позвонил Эспиносе вечером в воскресенье, сразу после того, как тот отвез Нортон в аэропорт. Он перешел прямо к делу. Сказал, что знает, что Эспиноса тоже знает. Эспиноса ответил, что благодарен за звонок, – трудно поверить, однако он сам как раз собирался сегодня вечером позвонить ему, но вот получилось так, что Пеллетье его опередил. Пеллетье сказал, что верит ему.
– И что нам теперь делать? – спросил Эспиноса.
– Оставить все как есть, время рассудит, – ответил Пеллетье.
Потом они заговорили – и очень много смеялись – об одной весьма странной конференции, которая только что прошла в Салониках и на которую пригласили Морини.
В Салониках с Морини приключилось нечто похожее на удар. Однажды утром он проснулся в своем номере и… ничего не увидел. Он ослеп. Паника охватила его на несколько секунд, однако вскоре он сумел собраться и успокоиться. Он долго лежал неподвижно, вытянувшись в постели, и все пытался снова уснуть. Начал думать о вещах приятных, припомнил сценки из своего детства, какие-то фильмы, вызвал в памяти чьи-то неподвижные лица – ничего не вышло. Он приподнялся в постели и ощупью нашел инвалидную коляску. Разложил ее и сумел – против ожиданий, не с такими уж колоссальными усилиями – усесться в ней. Потом, очень медленно, попытался сориентироваться относительно единственного в номере окна: то выходило на балкон, с которого открывался вид на голый холм желто-коричневого цвета и офисное здание, увенчанное рекламой конторы по продаже недвижимости, которая предлагала приобрести таунхаусы недалеко от города.
Квартал (еще не построенный) величественно звался «Апартаменты „Аполлон“», и прошлым вечером Морини со стаканом виски в руке долго наблюдал за рекламой с балкона – неоновые буквы то вспыхивали, то гасли. Когда он сумел все-таки добраться до окна и его открыть, то почувствовал головокружение – так недолго и сознание потерять. Поначалу он задумал отыскать дверь и попросить о помощи или просто упасть посреди коридора. Потом решил, что лучше всего будет вернуться в постель. Уже через час он проснулся от света, лившегося в открытое окно, и проступившей испарины. Позвонил администратору и спросил, не оставляли ли ему сообщений. Сказали, что нет, не оставляли. Он разделся, сидя на кровати, и пересел в уже разложенную инвалидную коляску – она стояла рядом. Чтобы принять душ и надеть чистое, ему понадобилось около получаса. Потом, не удостоив пейзаж ни единым взглядом, он закрыл окно и вышел из номера – пора было идти на конференцию.
Они снова встретились все четверо на конференции «Недели современной немецкой литературы» в Зальцбурге в 1996 году. Эспиноса и Пеллетье пребывали в счастливом расположении духа – по крайней мере, так казалось. А вот Нортон приехала в Зальцбург эдакой ледяной дамой, сердце которой не растопили ни красота города, ни знаменательные культурные события. Морини прибыл со стопкой книг и бумаг, которые ему нужно было просмотреть, словно приглашение на конференцию застало его в момент, когда он был максимально загружен работой.
Всех четверых поселили в один отель, Морини и Нортон – на третьем этаже, в номерах 305 и 311 соответственно. Эспиносу – на пятом, в номере 509. А Пеллетье – на шестом, в номере 602. Гостиницу в полном смысле этого слова захватили немецкий оркестр и русский хор, так что в коридорах и на лестницах слышались обрывки музыкальных партий, то тихо, то громко: казалось, музыканты постоянно напевали себе под нос увертюры или в гостинице поселилось ментальное (и музыкальное) статическое напряжение. Все это отнюдь не мешало Эспиносе и Пеллетье, Морини, казалось, вообще этого не замечал, а вот Нортон зло заметила, что Зальцбург – не город, а дерьмо какое-то, потому что только в дерьмовом городе может происходить такое, не говоря уж обо всем остальном.
Естественно, ни Пеллетье, ни Эспиноса ни разу не навестили Нортон в ее номере, – наоборот, Эспиноса нанес визит, один-единственный, Пеллетье, а Пеллетье, в свою очередь, дважды наведался в номер к Эспиносе: они пребывали в состоянии совершенно детского восторга, ибо по гостинице, подобно искре в бикфордовом шнуре, подобно атомной бомбе, по всем коридорам и по всем собраниям оргкомитета летела новость – в этом году Арчимбольди был выдвинут на Нобелевскую премию, – и арчимбольдисты всех стран не только были безмерно обрадованы – нет, они упивались триумфом своего автора, которому удалось наконец-то взять реванш и получить заслуженное. Таково было всеобщее веселье, что именно в Зальцбурге, в пивной «Красный бык», одним прекрасным вечером не иссякали тосты и здравицы: две основные группировки исследователей-арчимбольдистов, в смысле фракция Пеллетье и Эспиносы и фракция Борчмайера, Поля и Шварца, подписали мирный договор – теперь, начиная с этого вечера, они будут с уважением относиться к разнице во мнениях и в методах интерпретации, объединят усилия и перестанут ставить друг другу подножки, – одним словом, Пеллетье больше не будет накладывать вето на публикацию статей Шварца в журналах, где он пользуется определенным влиянием, а Шварц тоже не будет накладывать вето на публикацию работ Пеллетье в изданиях, где его, Шварца, почитают как бога.
А вот Морини не разделял энтузиазма Пеллетье и Эспиносы, и он же первым заметил, что до нынешнего момента Арчимбольди никогда не получал, насколько он знает, ни одной национальной премии в Германии: он не стал лауреатом ни премий книготорговцев, ни премий читателей, ни премий издателей (если предположить, что таковые существовали), поэтому имеет смысл ждать – и это вполне в рамках разумного, – что, узнав о выдвижении Арчимбольди на самую престижную премию мировой литературы, его соотечественники, хотя бы из соображений предосторожности, могут присудить ему национальную премию, или премию за заслуги, или почетную премию, или по крайней мере посвятить ему часовую программу на телевидении; однако ничего этого не случилось, и арчимбольдисты (в этот раз выступающие единым фронтом) исполнились негодования; впрочем, они не впали в уныние из-за нулевого внимания общественности к самому существованию Арчимбольди, а удвоили усилия, и поражение лишь укрепило их дух; к тому же, их подстегивало сознание крайней несправедливости, с которой цивилизованное государство отнеслось не только к лучшему, по их мнению, немецкому писателю из числа ныне здравствующих, но и лучшему европейскому писателю; в результате это обернулось целой лавиной работ, посвященных творчеству Арчимбольди и даже собственно личности Арчимбольди (о котором так мало известно, если не сказать, что вообще ничего не известно), а из-за всего этого резко увеличилось количество читателей, привлеченных не столько книгами немецкого писателя, сколько его биографией, точнее, пробела на ее месте, и эти читатели нахваливали Арчимбольди друзьям и знакомым, а те, в свою очередь, своим друзьям и знакомым, и так получилось, что в Германии продажи существенно выросли (к каковому явлению приложил руку Дитер Хеллфилд, недавно присоединившийся к группе Шварца, Борчмайера и Поля), а это, в свою очередь подвигло издателей к тому, чтобы перевести его книги или переиздать уже существующие переводы, в результате чего Арчимбольди бестселлером не стал, однако все же две недели продержался на девятом месте в десятке самых продаваемых художественных книг в Италии, и на двенадцатом, тоже в течение двух недель, в двадцатке самых продаваемых книг во Франции, и, хотя в Испании он ни в какой подобный список не попал, нашлось издательство, которое выкупило права на издание нескольких романов Арчимбольди у других испанских издателей, а также купило права на все еще не переведенные на испанский книги Арчимбольди: так у них получилось что-то вроде серии «Библиотека Арчимбольди», и, надо сказать, продажи их не разочаровали.
А вот на Британских островах, признаемся честно, Арчимбольди так и остался нишевым автором, о котором мало кто слышал.
В те радостные дни Пеллетье нашел текст, написанный швабом, с которым они имели удовольствие познакомиться в Амстердаме. В нем шваб излагал примерно то же самое, что рассказал им о визите Арчимбольди во фризский городок и об ужине с дамой-путешественницей в Буэнос-Айрес. Текст был опубликован в «Утреннем листке Рейтлингена» и отличался от рассказа лишь в одном: диалог дамы и Арчимбольди излагался там в ироничном, если не саркастичном ключе. Она спросила, откуда он родом. Арчимбольди ответил, что из Пруссии. Дама спросила, не дворянское ли у него имя. Арчимбольди ответил, что это вполне возможно. Дама тогда пробормотала его имя, «Бенно фон Арчимбольди», словно бы надкусывая золотую монету – не фальшивая ли. И тут же сказала: «Нет, я никогда не слышала это имя, зато вот эти, – тут она перечислила другие имена, – слышала. Не знакомы ли они господину Арчимбольди?» «Нет, – ответил тот, – в Пруссии я знаком лишь с лесами…»
– И тем не менее ваше имя – итальянского происхождения, – сказала сеньора.
– Французского, – ответил Арчимбольди, – мы ведем род от французских гугенотов.
Дама над этим ответом посмеялась. Раньше она была красавицей, писал шваб. Она и тогда, в полутьме таверны, казалась красивой, хотя, когда смеялась, у нее соскакивала вставная челюсть и ей приходилось поправлять ее рукой. Тем не менее даже это движение выходило у нее весьма элегантным. Дама вела себя с рыбаками и с крестьянами с естественностью, на которую можно было ответить лишь уважением и любовью. Она овдовела много лет тому назад. Временами отправлялась в верховую прогулку по дюнам. А иногда подолгу странствовала по местным дорогам, исхлестанным ветром с Северного моря.
Когда однажды за завтраком в гостинице, перед прогулкой по Зальцбургу, Пеллетье завел разговор с тремя друзьями о статье шваба, обнаружились серьезные расхождения во мнениях и интерпретациях.
Эспиноса – ну и сам Пеллетье – полагали, что шваб, скорее всего, был любовником дамы в то время, когда Арчимбольди приехал к ним со своими чтениями. Нортон же считала, что шваб рассказывает эту историю каждый раз по-разному – в зависимости от перепадов настроения и типа аудитории – и, что вполне возможно, уже сам не помнит, кто что сказал тем знаменательным вечером. А вот Морини решил, что шваб – о ужас, о кошмар! – двойник Арчимбольди, его брат-близнец, образ, который время и случай постепенно превращают в негатив проявленной фотографии, фотографии, которая постепенно растет, набирается силы, душит весом, но тем не менее не теряет связи, приковывающей ее к негативу (а с тем происходит все наоборот), но негатив по сути своей – точно такой же, как и проявленная фотография: оба достигли юношеского возраста в жуткие варварские годы владычества Гитлера, оба ветераны Второй мировой войны, оба писатели, оба граждане страны-банкрота, оба люди без гроша в кармане, сдавшиеся на милость судьбы, – вот такими они друг друга видят, когда вдруг встречаются и (жуть какая!) узнают друг друга: Арчимбольди – помирающий с голоду романист, шваб – «ответственный за культуру» в городишке, в котором точно никому не было дела до этой самой культуры.
Кстати, а ведь вполне возможно предположить, что этот жалкий и (почему нет?) презренный шваб на самом деле… Арчимбольди? Вопрос этот сформулировал не Морини, это сделала Нортон. Ответ поступил отрицательный: шваб, во-первых, росту был низенького, сложения деликатного, что совершенно не совпадало с физическими характеристиками Арчимбольди. Версия Пеллетье и Эспиносы казалась более правдоподобной. Шваб – любовник благородной дамы, хотя та годится ему в бабушки. Шваб каждый вечер приходит домой к своей госпоже, которая когда-то побывала в Буэнос-Айресе, приходит и набивает брюхо колбасами, печеньем и наливается чаем. Шваб массирует спину вдовы капитана кавалерии, в то время как в стекло окон бьются завивающиеся водоворотом потоки дождя, грустного фризского дождя, от которого хочется плакать, а шваб – он не плачет, однако бледнеет, бледнеет, его тянет к ближайшему окну, и он застывает перед ним, вглядываясь во что-то за занавесом беснующегося ливня, и вот он стоит, пока дама, вся в нетерпении, его не окликает, тогда шваб поворачивается к окну спиной, даже не отдавая себе отчета, почему он подошел к нему, не понимая, что он хотел там разглядеть, – и как раз в этот миг, когда в окно уже никто не смотрит и только мигает свет, подкрашенный цветными стеклами лампы в глубине комнаты, – именно в тот миг то, чего так ждал шваб, появляется в темноте.
Так что в общем и целом они хорошо провели время в Зальцбурге, и, хотя в тот год Арчимбольди не получил Нобелевскую премию, жизнь четырех друзей все так же скользила или струилась спокойной рекой бытия немецких кафедр европейских университетов; конечно, обходилось не без встрясок, но те, если приглядеться, придавали вкус их внешне прекрасно устроенному существованию – немного перчика, немного горчицы, немного уксуса; во всяком случае, жизни их выглядели вполне благополучными для внешнего взгляда, хотя каждый, как и все обычные люди, тащил свой крест; кстати, любопытное дело: у Нортон он был призрачный и фосфоресцирующий – англичанка весьма часто, и временами на грани дурновкусия, описывала своего бывшего как скрытую угрозу, наделяя его пороками и недостатками, носителем которых могло быть только чудовище, страшнейшее чудовище; впрочем, оно так и не появилось – сплошная вербализация и никакого экшена, хотя речи Нортон немало способствовали тому, чтобы это существо, ни разу не виденное ни Эспиносой, ни Пеллетье, приобрело некоторую телесность; им даже казалось, что этот бывший существовал лишь в кошмарах Нортон, однако француз, более смышленый, чем испанец, понял: это бессознательное бормотание, этот нескончаемый список обид связан, прежде всего, с желанием наказать себя – Нортон стыдилась того, что умудрилась влюбиться и выйти замуж за придурка. Естественно, Пеллетье ошибался.
В те дни Пеллетье и Эспиноса очень переживали за душевное состояние своей общей любовницы, из-за чего у них случились два крайне длинных телефонных разговора.
Первым позвонил француз, и беседа продлилась один час пятнадцать минут. Вторым позвонил Эспиноса, три дня спустя, и тут они проговорили два часа пятнадцать минут. По прошествии полутора часов Пеллетье сказал, что надо бы заканчивать, а то разговор выйдет золотым, «вешай трубку, и я потом перезвоню», на что испанец ответил решительным отказом.
Первый телефонный разговор (это когда звонил Пеллетье) начинался трудно, но Эспиноса ждал его: похоже, им обоим нелегко было сказать друг другу то, что рано или поздно все равно пришлось бы сказать. Первые двадцать минут шли в трагическом тоне: слово «судьба» было произнесено десять раз, а слово «дружба» – двадцать четыре. Имя Лиз Нортон упоминалось пятьдесят раз, причем девять из них всуе. Слово «Париж» прозвучало семь раз. Мадрид – восемь. Слово «любовь» они произнесли два раза – по разу каждый. Слово «ужас» – шесть раз, а слово «счастье» – один (его употребил Эспиноса). Слово «решение» произнесли двенадцать раз. «Солипсизм» – семь. «Эвфемизм» – десять. «Категория», в единственном и множественном числах, – девять. «Структурализм» – один раз (Пеллетье). Термин «американская литература» – три раза. Слова «ужин», «ужинаем», «завтрак» и «сэндвич» – девятнадцать. «Глаза», «руки», «волосы» – четырнадцать. Потом разговор пошел непринужденнее. Пеллетье рассказал Эспиносе анекдот на немецком, и тот посмеялся. Эспиноса рассказал Пеллетье анекдот на немецком, и тот тоже посмеялся. На самом деле оба смеялись, окутанные волнами или чем бы то ни было, что соединяло их голоса и уши, что неслось через темные поля и ветер, и снега на вершинах Пиренеев, и реки, и пустые дороги, и нескончаемые предместья, окружающие Париж и Мадрид.
Второй разговор вышел гораздо менее напряженным, чем первый, – типичная болтовня между друзьями, которые хотели бы прояснить некоторые вещи, не замеченные ранее, однако от этого она не стала чисто технической или логистической, нет, напротив, в ней всплыли и засверкали темы, которые имели лишь косвенное отношение к Нортон, темы, которые не имели ничего общего с маятником сентиментальности, темы, о которых не стоило труда начать беседу и с той же легкостью выйти из нее, чтобы снова обсудить самое главное – Лиз Нортон, которую оба – уже под конец второго разговора – признали не эринией, разрушившей их дружбу, не мстительной женщиной в траурном одеянии и с окровавленными крыльями, не Гекатой, сначала нянчившей детей, а потом выучившейся колдовству и превратившейся в животное, а ангелом, который укрепил их дружбу, сделал явным то, о чем оба подозревали и считали очевидным, однако не были твердо уверенными в том, что они – люди цивилизованные, способные испытывать благородные чувства, а не какие-то скоты, которых рутина и постоянная сидячая работа затянули в пучину низости и негодяйства, – напротив, Пеллетье и Эспиноса обнаружили тем вечером, что они – воплощенная щедрость, причем до такой степени воплощенная, что, если бы их не разделяло расстояние, они бы пошли и выпили – как же не выпить за сияние собственной добродетели, сияние, как мы знаем, недолгое (ибо всякая добродетель, за исключением краткого мига узнавания, совсем не сияет, а живет в темной пещере, окруженная другими ее жителями, и некоторые из них очень опасны), так что за отсутствием шумного праздника в финале они молча, но очевидно друг для друга поклялись в вечной дружбе и, повесив трубки, скрепили клятву бокалом виски, который они медленно-медленно потягивали каждый в своей заваленной книгами квартире, глядя в ночь за окнами, возможно, в поисках, пусть и не осознанных, того, что искал и не находил по ту сторону стекла шваб.
Морини, как и следовало ожидать, узнал обо всем последним, хотя как раз в случае Морини арифметика чувств иногда давала сбои.
Еще до того как Нортон в первый раз оказалась в одной постели с Пеллетье, Морини уже предвидел такой ход событий. Причем он исходил не из того, как Пеллетье вел себя с Нортон, а из того, как держала себя Нортон – со смутной отстраненностью, которую Бодлер назвал сплином, а Нерваль – меланхолией; и эта отстраненность держала англичанку в постоянной готовности завести роман с кем угодно.
А вот роман с Эспиносой он, естественно, предвидеть не мог. Когда Нортон позвонила ему и рассказала, что встречается с обоими, Морини удивился (хотя он бы вовсе не удивился, если бы Нортон сказала: встречаюсь с Пеллетье и с коллегой по Лондонскому университету, да что там, даже со студентом), но умело скрыл это. Потом он попытался подумать о чем-нибудь другом, но не смог.
Он спросил Нортон, счастлива ли она. Нортон сказала, что да. Морини рассказал, что получил от Борчмайера по электронной почте письмо со свежими новостями. Нортон это не особо заинтересовало. Тогда он спросил, как там муж, слышно ли что-нибудь о нем.
– Бывший муж, – поправила его Нортон.
Нет, сказала она, ничего не знаю, как он там, хотя вот давеча позвонила старинная подруга и рассказала, что бывший живет с другой ее старинной подругой. Морини спросил, была ли она близкой подругой. Нортон не поняла вопроса.
– Кто был близкой подругой?
– Та, которая сейчас живет с твоим бывшим, – пояснил Морини.