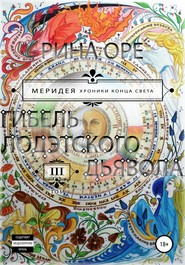 Полная версия
Полная версияГибель Лодэтского Дьявола. Третий том
– Я не об этом! – тихо возмутился священник. – Я о духовном начале… Я никогда не посмел бы помыслить так.
– Я понял и только что сказал тебе об этом… Так же как я отгонял от себя плотские желания, так ты отгоняешь свои чувства, зачем-то борешься с собой, хотя ни тебе, ни твоей даме это не нужно… Забудь, – открыл глаза Рагнер и оторвал спину от дерева. – Хочешь быть несчастным – будь им. Я тебя разубеждать не стану. Да вот не пойму, как можно талдычить о любви и не знать, что она такое? Бежать от нее и не поддаваться? Ты даже не можешь прочувствовать всю ее силу по-настоящему. Это как знать, что где-то есть море, и постоянно говорить о нем, описывать его и представлять в своем воображении. А когда тебя привело на его берег и ты видишь волны у своих ног, то делаешь не шаг вперед, а в ужасе отпрыгиваешь назад. И чем ближе прилив, тем дальше ты отходишь, но продолжаешь трещать о волнах и поучать, как нужно на них качаться. Вот, что я думаю, когда тебя слышу. Хоть ноги смочи и признайся сам себе, что уже втрескался в ту свою красавицу. Мне и Маргарите ты не стал бы помогать – сказал бы «воля Божия», и всё тут. Ради нее, ради жизни своей любимой, ты сейчас здесь… кормишь комарье, – шлепнул Рагнер себя по руке. – Признай хотя бы, что влюблен. Что такого?
Брат Амадей не сразу стал возражать. Слова герцога заставили его поразмыслить.
– Но даже если это так, – задумчиво изрек он, – мне никак нельзя не бороться с собой: нельзя усомниться в своем призвании и нельзя позволить прихожанам усомниться в чистоте их наставника, иначе они перестанут его слушать. Я начал жить праведно для самого себя и не без удивления понял, что в таких, как я, люди очень нуждаются – в непохожих на них, в тех, кто смог побороть человеческие слабости, кто чище и душой, и плотью. Сами они грешат, но на меня смотрят как на пример нравственности, доверяют моим словам и следуют им. Я могу излечить их души и направить заблудших к свету. Это высшее проявление Любви, что бы ни…
– О, только не надо хвастаться всеми теми, кому ты помог, – оборвал его Рагнер. – Про людей я тебе вот что скажу: сегодня ты Святой, а завтра Дьявол. Мокрый или сухой стоишь на берегу – это тоже не так важно. Что про тебя скажут прелаты в синих хабитах – вот что важно людям. И чем синее хабита, тем ей больше верят. Пока Божий Сын думает над тем, как бы ему еще в своих семидесяти двух строках подпортить жизнь меридианцам, – это я о том, что с недавних пор мужику даже свой собственный хрен нельзя натереть без греха самоосквернения, даже в одиночестве и никому не мешая… в это время кардиналы и епископы всем заправляют в Меридее. Да хоть стой ты на берегу, весь сухой и чистый, если синяя меридианская крыса скажет: «Да у него тина на ушах», все поверят не своим глазам, а ей.
– Все не поверят… Так не бывает, – не сдавался брат Амадей. – Добрые дела не забываются.
– Всё забывается, – раздраженно ответил Рагнер. – Я на Священной войне был, и что? Об этом как-то едва вспоминают… Да и я вспоминать не хочу, – нахмурился он и передвинулся ближе к священнику. – Останемся каждый при своем. Спор бесполезный. Я – чертова одинокая оса, которая много и бестолково жужжит. Так меня назвал мой новый дед по жене, – махнул рукой Рагнер, – когда я его сравнил с паучьей черепахой. Лучше давай о другом поговорим. Здесь ты точно разбираешься лучше меня. Прошу разъяснить мне кое-что.
________________
Пребывая в Миттеданне, Маргарита избегала общения с семьей, словно полюбила быть пленницей, и теперь, когда ее никто уж не неволил, сама прятала себя в спальне на втором этаже. Сначала к ней ненадолго заглядывали и выражали беспокойство, потом оставили в покое. Она пару раз слышала за дверью голосок Енриити, однако «падчерица» ни разу к ней не зашла. Большую часть времени Маргарита сидела у окна или лежала на кровати, не имея желания что-либо делать. Она погружалась в воспоминания, от каких сладко сжимался низ живота и по телу разливалась легкая нега. В час Веры она молила Бога, чтобы Лодэтский Дьявол ее не забывал, старался спасти и очень скоро спас, а вот «супруг» позабыл, а еще лучше куда-нибудь исчез. Бог, должно быть, удивленный тем, как в точности до наоборот переменились просьбы этой меридианки, не подавал знака, что слышит ее и помогает.
В благодаренье, к полудню, вся родня Маргариты ушла в храм, только она одна категорически отказалась посещать святой дом, чем усилила тревогу Деоры Себесро. Тетка Клементина, к счастью, опровергла подозрения подруги о колдовстве, порче или одержимости, заявив, что душа ее грешной племянницы стремилась к падению в Уныние лет с семи, – вот оно наконец ее и настигло, а началось всё с лени да сладостей. Маргарита же никуда не хотела выходить именно в этот день – в годовщину казни Блаженного.
«Мерзкий бродяга и в храме появляется, – думала она. – Кого-кого, а этого грязного насмешника я точно не хочу видеть, иначе он снова меня опозорит… Уж очень несчастливый день в прошлый раз вышел – лучше я дома побуду».
Таким образом, Маргарита почти два часа провела в компании трех младенцев и Залии. Вскоре она пожалела, что предпочла остаться дома и приглядывать за ними: если начинал плакать один из малышей, двое других немедленно подхватывали крик, да еще и четыре борзые собаки с удовольствием им подвывали. Плакала и Залия, не выпуская сына из своих рук. Неопытная Маргарита, сама едва не рыдая, не знала, как всех успокоить. К возвращению семьи она решительно перехотела становиться матерью и с ужасом поглядывала на милейших крошек, способных адским ором из своих маленьких ротиков свести с ума даже самого святого человека.
Едва вымотавшаяся Маргарита уединилась в восхитительной тишине спальни и, не раздеваясь, упала на кровать, к ней постучалась Марлена. Обсуждать Рагнера у Маргариты не было ни сил, ни желания, но Марлена стала настаивать. Она прилегла на кровать и по-матерински обняла подругу, а Маргарита, прильнув на ее грудь, обвила Марлену руками в ответ.
– Я искренне желаю понять тебя и помочь, – с беспокойством говорила Марлена. – И пытаюсь осознать: как возможно такое за столь короткий срок? Ты всё перевернула во мне. Я думала даже не приходить больше, но ты крайне дорога мне. За что ты его полюбила?
– За то, что он – это он, – улыбнулась Маргарита. – Не знаю, как так вышло. Только прошу, не надо о колдовстве. Все здесь даже не пытаются меня слушать. Все меня жалеют, но… Думают, что спасли… И ты говоришь, что хочешь понять, но на самом деле не хочешь. А ведь ты его вовсе не знаешь. Ты лишь помнишь горящий храм и как боялась его. Я тоже боялась, а потом перестала…
– Но ты тоже его не знаешь. Ты была в плену двадцать с половиной дней. Разве можно кого-то узнать меньше чем за полторы триады?
– Наверно, ты права, – помолчав, ответила Маргарита. – У него много тайн, с какими он не делится, но… мы лежали и смотрели в наши глаза. Я видела в них свое отражение и улыбалась, а он видел свое и был серьезным, – я видела его настоящим, а он меня. Всё остальное – всё, что говорят о нем, что он сам говорит и даже что он делает… Это только одна сторона истины. Правда многогранна, ложь же многоголосна. Когда узнаешь, почему он так делает, то понимаешь, что он порядочен и высок… И он не хвастает о подвигах, тогда как другие болтают о нем эту дьявольскую чепуху. Сама посуди: окажись вся эта дьявольщина правдой, продолжал бы он оставаться рыцарем, воином Бога? Он не самый верующий, это так, совсем не молится и Экклесию не любит, но, Марлена, у него на это есть причины – он пережил много такого, что любого изменило бы. Провести год в плену у безбожников! Жестоких и… безбожников! А он сам вовсе не жесток и не кровожаден – он помнит тех, кого впервые убил, называл их чертовой семейкой… По-настоящему жестокий человек не помнил бы, его совесть не тронуло бы… Детей же все рыцари в Сольтеле убивали, даже принц Баро… И еще женщин, и старух… и не только безбожников, но и язычников, солнцепоклонников… И их Экклесия не осуждает, а наоборот, заносит в «Книгу Гордости». Когда я хвалила Бога в час Веры, Рагнер никогда не попрекал меня и даже присоединялся: он благодарил Создателя за меня, за то, что я есть и рядом с ним… – с нежностью вздохнула Маргарита. – Вот так я влюблялась всё сильнее с каждым днем. И он мне подходит, – сладко потянулась она, – как нитка подходит к иголке. Так он говорит. Это выражение из его родного Ларгоса, но я тебе не буду его объяснять, если ты сама не поймешь, – озорно улыбалась девушка. – Оно с неприличным смыслом… Он – это нитка, а я иголка. Он хоть и оставляет стежки, но я веду его за собой… к окончанию вышивания. И мне так нравится с ним вышивать! – слегка порозовев, засмеялась Маргарита. – Он предназначался мне, а я ему, еще когда я была девчонкой в красном чепчике – и он всё равно нашел бы меня, будь я женой градоначальника или нет.
– Хорошо, что ты вспомнила о супруге, – вздохнула Марлена, которая ничего не знала о стишках Блаженного. – Ты же клялась перед Богом ему в верности. Разлюбила ты его или нет, это тебя не…
– А он как муж клялся беречь меня и мою честь, – перебила ее Маргарита. – Но вместо этого бросил меня в плену. Объявился лишь на семнадцатый день, а до этого ничего не давал о себе знать. Мог бы хоть как-то дать понять, что спасет меня…
– Это тебя не оправдывает.
– Тебе не всё известно, – прикусила губу Маргарита, – но… знаешь, я всё равно предпочитаю Ад в том мире Аду в этом – союзу с человеком, который мне противен и которого я презираю. Это очень унизительно: встретить свой день рождения в плену, а до этого как раз вышел срок, что дал Рагнер – пообещал, если Ортлиб не появится через три дня, то он отдаст меня своим головорезам. Мной должны были начать пользоваться все, кто желает, прямо в мой день рождения! Сотни жутких мужиков или даже больше! Рагнер не намеревался так делать – просто грозил, но Ортлиб же думал иначе. Я же была в плену у самого Лодэтского Дьявола! И он даже тогда не попытался меня спасти! Так я и поняла, что для моего супруга есть более важные ценности, чем я. Теперь я сама не могу более быть с ним – он стал мне омерзителен. Раз моя честь для него ничто, то и у него нет чести. И что мне ныне делать, если даже мысль о близости с мужем мне противна? За самоубийство ждет Ад и Пекло. Что за западня? Только и остается, что в монастырь бежать, но я туда тоже не хочу… К мужчинам закон и Бог не так суровы, как к женщинам…
– И мы знаем, почему это так, – наставительно произнесла Марлена. – «Женщины чище плотью и выше душой, чем мужчины», – так написано в Святой книге. Вот с нас и спрос строже. Нам дана радость материнства, какой нет у мужчин. Мы можем любить и детей. Наша цель – это служение своей семье, порой наперекор всем другим нашим желаниям.
– Детей я от него тоже больше не хочу…
Вспомнив, что не знает, кто отец ее ребенка, Маргарита нахмурилась, а Марлена загрустила о том, что так и не получила от Бога дар чадородия.
– Что же ты теперь собираешься делать? – спустя минуту спросила Марлена.
– Ждать, когда пророчество исполнится до конца, – опять улыбнулась Маргарита. – Конец его гласит, что Рагнер победит герцога Альдриана, а значит, и меня найдет. Я поеду с ним в Лодэнию, где много снега, и там будет мой новый дом. И мне неважно: будет ли наша связь узаконена… Я просто хочу оставить Ортлиба и забыть о нем, словно его никогда не существовало. Брат Амадей… – Маргарита встрепенулась и приподнялась. – Ты же ничего не знаешь!
– Что с братом Амадеем? – взволновалась Марлена.
– Мы нашли его полумертвым на храмовом кладбище еще в сорок четвертый день Смирения, когда я искала родных. Его пытали грабители храма, а затем чуть не зарезали.
Вскрикнув, Марлена распахнула свои небесно-голубые глаза.
– С ним всё в порядке. Его перевезли в ратушу и спасли, хотя он был очень близок к смерти. Лодэтский Дьявол спас Святого…
– А сейчас что с ним?
Маргарита пожала плечами.
– Незадолго до того, как меня выкрали, я с ним разговаривала. Он был здоров и даже немного пополнел. Говорил, что мог бы ходить с палочкой.
– А сейчас?
– Он не пленник, просто лечится. Рагнер ничего ему не сделает, не бойся: ему как рыцарю нельзя причинить вред священнику. Да и зачем было его спасать?
Марлена встала с кровати, взяла зеркальце с подоконника и поправила свой белый чепец с кружевом у лба. Она так расстроилась, что едва справлялась с непослушными руками.
– Я чувствовала, – сказала она. – Он мне снился. Так, как не снился никогда… Не как священник, – еле слышно прошептала она. – Кажется, это было в ночь с сорок третьего на сорок четвертый… Тот же мой жуткий сон, как я лежу в черноте и в жужжании мух. И вдруг он появился… Он не прощался со мной, просто смотрел на меня и что-то доброе говорил, но я забыла что именно…
Она положила назад зеркало и сказала сидевшей на кровати Маргарите.
– Мне нужно идти. Скоро обед, и мне надо его приготовлять. Мы еще как-нибудь поговорим, – вздохнула она. – Я всё равно не понимаю тебя до конца, но могу понять твои желания. Это пройдет со временем, если ты постараешься. А ты должна… Не запирай дверь на засов, – добавила она, – твои родные так беспокоятся еще больше. Дядя Жоль спит с топором, если вдруг надо будет выломать дверь, – через силу улыбнулась Марлена, подходя к кровати и целуя Маргариту в щеку. – Я постараюсь завтра прийти снова.
Маргарита пожала плечами.
– Только если хочешь. Если из-за долга меридианского милосердия и помощи заблудшей, то не надо.
– Всё же он что-то сделал с твоею душой, – уверенно сказала Марлена, открывая дверь. – Я тебя ничуть не узнаю.
– Я тоже себя не узнаю, – прошептала Маргарита и с улыбкой упала на подушки, потягиваясь всем телом. Она сняла с головы платок, распустила волосы и закрыла глаза, отдаваясь грезам. Дверь на засов она запирать не стала.
________________
Также меридианская вера гласила, что задолго до рождения первого Божьего Сына на месте Святой Земли Мери́диан стоял Золотой Город с храмом Жертвенного Огня. Зайти в храм могли только девственные весталки, чистые девы с высокой душой – всего четыре женщины в возрасте от шести и до тридцати шести лет. Ежедневно, в полдень, горожане видели, как на открытом алтаре, благодаря молитвам весталок, сам по себе пуще загорался затухавший огонь – и он горел даже в сильный ливень. Пока Бог дарил людям Золотого Города Жертвенный Огонь, на Гео царил Золотой век – все радовались и много смеялись, не было ни господ, ни слуг, люди не знали голода, страданий и тяжелого труда. В память о тех временах меридианцы до сих пор праздновали Сатурналий.
Но люди развратились, пребывая в вечной сытости и праздности: завели рабов, чтобы вообще ничего не делать, а от пресыщенности обрывали свои жизни, иные же начали обожествлять Пороки и строить для них святилища. Храмы Добродетелей ветшали в запустении, тогда как храмы Пороков переполнились прихожанами, ведь там разрешалось пить вина без меры, обжираться и предаваться разврату. Храм с весталками тоже перестал пользоваться почетом, как и имя Божье, а сами девственницы вдруг стали рожать, утверждая, что их дети от языческих божков, покровителей Пороков. Когда на празднество никто из жителей Золотого Города не пришел в храмы Добродетелей, Создатель мира разозлился и послал человечеству такие слова: «Забираю Огонь свой, что сжигал ваши горести, – страдайте отныне и плачьте! Как наплачете море великое, то потоните в нем же, а кто выживет и прозреет – пожалеет, да поздно!»
В тот же полдень молнии разрушили храм и сожгли четырех нечестивых весталок. Без Жертвенного Огня люди познали страшные хвори, войны и лишения. Вслед за Последней Битвой, пришел Великий Потоп – те, кто выжили, отупели и впали в дикарство на долгие века, продолжая губить себя Пороками и отталкивать Солнце от Гео. Мир шел к гибели: летом тонул в ливнях, а зимой в стуже; голод заставлял кочевать по Меридее племена и биться друг с другом за еду; людоедство вошло в обыденность. Но Бог не прощал людей и не вмешивался, пока прелестная белокурая девочка с небесно-голубыми глазами не попросила его оказать последнюю милость и спасти человечество – и молила она его неустанно с шести лет до тридцати шести, добровольно заточив себя в темноту каменной ямы, страдая от лишений и принеся в жертву свою красу, чтобы искупить вероломство весталок. Бог сжалился, внял гласу чистой девы и послал ей видение минувших времен, своих последних слов и приказал идти в разрушенный Золотой Город, в храм Жертвенного Огня, что она и сделала. Огонь, сжигающий людские страдания, не загорелся, но Бог, в знак своего прощения, послал деве дитя – в нее ударила молния, не причинив ей вреда. В охватившем ее сиянии Пресвятая Праматерь вновь стала восемнадцатилетней девушкой, прекрасной, как прежде, – и осталась такой до того, как, уснув в возрасте семидесяти двух лет, больше не открыла своих небесно-голубых глаз. С тех самых пор в том месте, где раньше стоял алтарь Жертвенного Огня, в полдень била молния, кого-то сжигая, а кого-то оправдывая.
Божий Сын помимо веры принес знание, повелев хранить его только мужчинам, и быть при этом столь же целомудренными душой и плотью, как весталки. Кардиналы и их наместники, епископы, получили высшую власть над человечеством, какая была у жриц Жертвенного Огня – прелаты не вмешивались в политику и войны, но могли не пустить даже короля, Божьего избранника, в храм, тем самым опозорив могущественного монарха, а первый кардинал мог лишить короля власти, объявив ее незаконной. Женщинам, что желали служить Богу как монахини, оставили лишь часть высоких прав весталок, например: непорочная монахиня с меридианскими звездами на руках могла помиловать любого приговоренного к смерти мирским или воинским судом.
________________
Маргарита открыла глаза и приподнялась на кровати. К ней в полумраке подходил Нинно. Он выглядел неряшливо из-за мокрых, взъерошенных волос и кое-как застегнутого красного камзола в темных пятнах, – почему-то Маргарита сразу поняла, что он недавно вылил на себя, одетого, ковш воды.
– Что вы здесь делаете, господин Граддак? – спросила девушка, шаря руками по кровати в поисках платка. – Отвернитесь: у меня голова непокрыта.
Нинно застыл перед кроватью.
– Хоть раз твои волосы такими увидать, – сказал он. – Жалко, уж сумраки… Они так сияют при солнцу.
Отыскав платок, Маргарита слезла с кровати, подошла к подоконнику и, глядя в зеркальце, стала молча закручивать волосы в пучок.
– Давай сбежим, – подступил к ней Нинно, а она отшатнулась от резкого запаха куренного вина.
– Вы пьяны, господин Граддак, – недовольно произнесла Маргарита. – Уходите, пожалуйста.
– Я не знаю, как давно люблю тебя, – подошел он к ней, взял ее за руку, из-за чего светлые волосы опять рассыпались по девичьим плечам, и грохнулся на оба колена. – Я не могу больше́е так… Сперва твое замужничество. Я, дурак… Хотел средствов сестре оставить, а тебя свезти подальше́е – и никто б не прознал, что я тебе брат… Так ведь хитрят, когда иного пути нету… Я б добился тебя, – прижал он руку Маргариты к своей щеке, – а ты замуж пошла, я женился. Зачем? Надобно былося ее гнать… Она ныне твое кольцо носит.
Маргарита вырвала руку из его ладони.
– Нинно, – поднимая его на ноги, ласково, как ребенку, говорила она огромному мужчине, – у тебя такой малыш славный, Жон-Фоль-Жин. Что ты такое говоришь? И Ульви хорошая… Твой дом таким красивым стал!
– Не терплю свой дом без тебя, – зло сказал Нинно, встал и обхватил Маргариту за талию и спину. – Силился любить и терпеть – мочи больше́е нету! Ее не терплю просто за то, что она есть… Давай сбежим ото всех!
Он попытался поцеловать Маргариту, а она с отвращением отворачивалась.
– Отпусти меня, – говорила она, пытаясь вырваться из стальных объятий. – Я закричу, Нинно. Клянусь, закричу!
– Как он целовал тебя? – не сдавался Нинно, крепче прижимая ее к себе и обхватывая рукой ее затылок. – Просто скажи, – шептал он пьяным ртом, припадая к ее щеке. – Как тебя целовать надобно, чтобы ты и со мной согласилася? Ты ведь тоже чего-то чуйствуешь, я этого чуйствую…
Только тогда Маргарита увидела, что он закрыл дверь на засов, и закричала от страха. Нинно прижал свой рот к ее губам, и крик потонул в поцелуе.
– Я так люблю тебя, – услышала Маргарита, когда он оторвался от нее. Но прежде чем она снова успела закричать, кузнец закрыл ее рот новым поцелуем.
К ужасу девушки он потащил ее к постели и повалил ее туда, зажав ей своими локтями плечи. Она крикнула дядю – и опять Нинно закрыл ей рот, теперь рукой.
– Я не обижу тебя, – мокро шептал Нинно. – Не кричи. Хочу, чтоб ты и меня полюбила, как я тебя…
Он стал целовать ее щеку и шею, не убирая ладони, в какую Маргарита могла только мычать. Своим телом Нинно придавил ее так, что, сколько бы она ни извивалась, усилия освободиться оказывались напрасными, как и попытки отбиться от его головы и ладони, почти душившей ее.
– Доченька? – услышала Маргарита из-за двери голос дяди. – Всё в порядку?
Маргарита промычала в мужскую ручищу, не надеясь, что дядя ее услышит. Лицо Нинно нависло над ее лицом.
– Не кричи, любимая, спокойся, – сказал он и нежно поцеловал ее в лоб, отчего она скривилась. – Я так люблю тебя, – столь же трепетно поцеловал он ее в правую бровь. – Вовек буду любить, – поцеловал Нинно ее левый глаз. – Я уберу руку, токо не кричи… не боися.
Намереваясь в любой момент вернуть ладонь обратно, он медленно приподнял ее ото рта Маргариты и посмотрел в ее наполненные ужасом глазищи.
– Я не хотел страшить тебя, – расстроенным голосом сказал Нинно. – Не хотел, чтоб так… Хотел лишь признаться. Я так долгое молк… Ровно год ушел, как я впервой хотел признаться… и всё молкнул!
Маргарита не говорила ни слова ему в ответ. Нинно сморгнул – и слеза упала у ее правого глаза – туда, где раньше был синяк. Эта слеза отрезвила девушку, тронула ее сердце и прогнала страх.
– Нинно, – спокойным голосом прошептала она, и кузнец убрал ладонь. – У меня были к тебе чувства – это так, но их уже нет… Слишком давно нет… И насилием их точно не вернуть…
Нинно попытался улыбнуться и было уж начал привставать, как дверь тряхануло от удара. Нинно упал назад и крепко прижал к себе Маргариту, которая вновь закричала. Он стискивал ее спину и с силой вжимал девушку в себя – так, что ей стало трудно дышать. На своей щеке она чувствовала его новую слезу.
Только тогда, когда со звуком отлетевшей задвижки засова дверь распахнулась, Нинно оставил Маргариту и подскочил с постели. Он ринулся на Жоля Ботно, вырвал из его рук топор и отшвырнул орудие в дальний угол.
– Ах ты подлец каковой! – вскричал дядя Жоль. – Да я тебя голыми руками отколочу!
Жоль Ботно храбро набросился на огромного Нинно, который с легкостью оттолкнул невысокого толстяка к стене – и тот, не удержавшись на ногах, плюхнулся на подогнувшихся коленях вниз.
– Нинно! – зло крикнула с кровати Маргарита.
В полумраке спальни кузнец пронзительно посмотрел на нее и резко распахнул раскуроченную на месте засова дверь. Из коридора блеснул свет.
– С пути! – прорычал Нинно и вышел.
Из-за захлопнувшейся двери раздались женские вскрики и неясный шум. Маргарита соскочила с кровати, подбежала к дяде, который держался за спину и пытался встать с одного колена на ноги. Опираясь о стену и на племянницу, он не без труда выпрямился.
– Вот скотина! – тяжело дыша, выговорил дядя Жоль. – Силища-то экая… Ты в порядку, дочка? А то тёмно, не вижу толкум…
Дверь приоткрылась. В щель пролезла рука с маленькой глиняной лампой и голова тетки Клементины в чепце с тремя рядами оборок. Увидав только Маргариту и мужа, Клементина Ботно широко распахнула дверь.
– Чего ты еще навытворивала? – громко спросила она Маргариту. – И так нам из-за тебя на улицы пойти стыдное и в глаза людя́м глянуть! Они бедствия от тебя! Вот ведь Дьяволова шшшлюха… – с наслаждением прошипела тетка. – Вся в свою путани…
– Затыкнися, Клементина! – вскричал Жоль Ботно. – Затыкнись, вконец! Угомонись, старая лярва!
Клементины Ботно застыла с открытым ртом, но через миг она уже возмущенно вопила на весь дом:
– Это я лярва?! Я? Старая?! Старая, затем что красу на тебя спущила? Затем что всю свежестью во слезах проревела, пока ты с девками по баням темнился? Эту девку сызнову защищашь? Она тута с кузнецом запёрывается, а я лярва?! Пиявка! Червя? Старая?!!
Дядя Жоль молча пошел на нее, и она сразу же замолчала. Он забрал свечу и одной рукой вышвырнул свою тощую жену за дверь.
– Никогда ты не былася красивою! – крикнул он ей вслед. – Тока лярвой всегда и былась! Но я тебя любвил, – очень тихо добавил дядя Жоль.
Затем он закрыл дверь и, тяжело подышав, развернулся к вжавшейся боком в стену племяннице.
– Лярва, – повторил Жоль Ботно. – Не рота́, а скрипучи ворота́. Ты-то как? – посветил он огоньком лампы на лицо Маргариты.
– Уже лучше, – обняла она его. – Спасибо.



