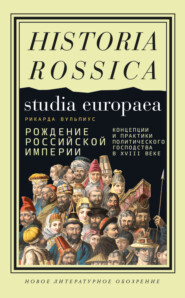скачать книгу бесплатно
Но значимость Переяславского соглашения не только в том, что столкнулись различные правовые традиции и по этому поводу представители московского правительства впервые четко сформулировали свою позицию. То, как царская сторона поддержала просьбу казаков и как она почти семьдесят лет при каждой смене правителя подтверждала «статьи» в отношении «Малороссии» – так вскоре была названа Гетманщина в соответствии с церковно-политическим обозначением расположенного там церковного округа, – на первый взгляд может показаться удивительным. Тем более что «статьи» предполагали региональную автономию в таком объеме, в каком ее до сих пор не предоставляли ни одному присоединенному народу[173 - Само по себе предоставление царем автономии и сопровождаемое этим наделение украинского гетмана определенными ограниченными властными полномочиями не являлись чем-то новым. Уже в XVI веке, до завоевания Казани, Шах-Али (Шигалей) несколько раз возводился на казанский престол как марионеточный хан. То же относится и к Дервиш-Али в Астрахани в 1554 году. История Татарской АССР. С. 68–100; Худяков. Очерки по истории Казанского ханства; Kappeler. Ru?lands erste Nationalit?ten. S. 51, 69 f., 72, 74–76, 78, 80, 131; Nolde. La formation de l’Empire russe. Т. 1. Р. 4–47; Алишев. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. С. 83. – Князь Иштерек в 1600 году был назначен царской милостью князем ногайского протектората. Новосельский. Борьба Московского государства с татарами. С. 40; Ногайско-русские отношения в XV–XVIII вв. С. 111.]. Кроме того, подчинение было объявлено актом милости московского правителя, так что с юридической точки зрения у российских властей не было необходимости постоянно подтверждать эти традиционные «права и свободы» казаков.
На примере Гетманщины скорее можно наблюдать, к какой гибкости была готова российская имперская элита при всей ее принципиальной приверженности основной концепции милости. Эта гибкость проявлялась тогда, когда долгосрочная интеграция вновь подчинившейся этнической группы все еще казалась не гарантированной или если царская сторона, по ее мнению, сталкивалась с сопротивлением. В этом смысле Переяславль вполне можно назвать образцом – как образцом гибкости, к которой постоянно приходилось прибегать при инкорпорациях, так и образцом конкретного оформления региональной автономии в империи в целом. Действительно, модель инкорпорации гетманской Украины, а также постепенное ослабление казачьего самоуправления еще до перехода Ивана Мазепы на сторону Карла XII стали шаблоном для будущих имперских стратегий российской державы в XVIII веке[174 - Гетман Мазепа в начале XVIII века сформировал со шведами при Карле XII коалицию против царя Петра I, чтобы вывести «Малороссию» из зависимости Московского государства.].
Сопоставимые стратегии применялись и среди социально высокодифференцированных калмыков и казахов Младшего жуза. Сочетая гибкость и уступки, с одной стороны, и постепенное разложение собственных традиционных структур этих народов, с другой, российской имперской элите удалось прочно закрепить калмыков и казахов в имперских структурах[175 - Более детально в гл. 4.5.]. В этом смысле соглашение 1654 года (и проводимая в последующие десятилетия политика) свидетельствуют об успехе московского курса на превращение внешнеполитического договора, к которому первоначально стремилась присоединяемая сторона (в данном случае казачество), во внутригосударственное соглашение о подчинении[176 - Однако московское правительство в первые десятилетия после Переяславского соглашения действовало отнюдь не целенаправленно. О более тесной связи с метрополией царства можно говорить самое раннее с момента установления контроля над образованным А. С. Матвеевым приказом Малой России (Малороссийским приказом) и включением его в 1671 году в «Министерство иностранных дел» (Посольский приказ). Софроненко. Малороссийский приказ; Torke. The Unloved Alliance. Р. 50–51.].
Однако из средне- и долгосрочного успеха российского курса никак нельзя сделать вывод, что казаки или другие этнические группы южных степей приняли царскую интерпретацию. Напротив, вопреки всем российским интерпретациям, казаки даже десятилетия спустя рассматривали свою «подвластность» царю как договор, заключенный в западноевропейской традиции, который наделял обе стороны правами и обязанностями и который, следовательно, терял силу в случае нарушения его условий. Несколько раз казачья элита предъявляла доказательства нарушения договора как основание для своего намерения выйти из-под власти царя, как это в последний раз произошло под предводительством гетмана Ивана Мазепы.
В не меньшей степени московское понимание «вечного подданства» отличалось от интерпретации ногайцев, башкир, калмыков, казахов и кабардинцев. Степные народы юга и горные народы Северного Кавказа веками придерживались традиции политических союзов, которые часто менялись и с самого начала заключались лишь на короткий срок. С распадом Золотой Орды, в рамках которой отношения между различными частями империи регулировались с помощью уже упомянутых ярлыков, с конца XV века союзы основывались на так называемой «шерти». Этот термин происходит от арабско-тюркского ?art’ и первоначально употреблялся только в значении «соглашение», «условие»[177 - Фасмер. Этимологический словарь. Т. 4. С. 431; Idem. Russisches Etymologisches W?rterbuch. Bd. 3. S. 393.].
При первом упоминании понятия в русском контексте, в документе 1474 года шертью называется клятва, которой могущественный хан Крымского ханства Менгли I Герай пообещал («крепкое свое слово молвя») вошедшему в силу великому князю Московскому Ивану III Васильевичу придерживаться согласованных в ярлыке договоренностей о ненападении и военном союзе, в то время как великий князь Московский, в свою очередь, в присутствии представителя хана целовал крест в знак подтверждения и соблюдения условий «братского договора»[178 - Карамзин. История государства Российского. Т. 6. С. 55 и примеч. 124 (здесь же детальное содержание шерти). См. также: Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 3. С. 1587.]. Следовательно, в то время и с русской точки зрения шерть еще воспринималась как внешнеполитический договор, который заключали между собой две стороны и который предусматривал для каждой стороны четко сформулированные договорные обязательства. Ни о каком «вхождении» крымского хана в московское подданство даже с русской точки зрения в то время речи не шло[179 - Трепавлов. Присоединение народов к России. С. 198–205; Он же. «Шертные» договоры. Ч. 1. С. 28–30.].
Но впоследствии московские правители неоднократно прибегали к понятию шерть и стали обозначать им все присяги, которые приносили представители мусульманских и «языческих» этнических групп в Сибири, южных степях и на Северном Кавказе. За расширением употребления понятия шерть в XVI веке последовали и перемены в его интерпретации: понимание шерти как клятвы соблюдения мирных договоров или временных союзов с закрепленными взаимными обязательствами преобразовалось, в соответствии с московской интерпретацией и по образцу собственной средневековой традиции, в соглашение, в котором фиксировалось безусловное подчинение милости русского правителя. С московской точки зрения шерть превратилась в присягу на верность со всеми описанными выше характеристиками, включая статью о вечности, когда представители нехристианских этнических групп искали защиты у московского правителя. В этом смысле было вполне логичным, что царская сторона стала приписывать «клятвенной грамоте», издаваемой в связи с шертью (шертная грамота), такое же значение, которое ранее уже было связано с жалованной грамотой в контексте средневековой присяги на верность, а именно – закрепление безусловного и прочного принятия в подданство русского и позднее российского правителя[180 - Московское понимание равенства между принятием шерти и клятвой на верность особенно очевидно при смене престола. Так, при восшествии на престол от представителей правительства требовалось, чтобы все православные жители в знак верности новому монарху были приведены к целованию креста, а «иноземные верующие» (иноверцы) заключали шерть (к шертованию) – процедура, которая занимала месяцы. ПСЗРИ. Т. 2. № 624 (10.02.1676). С. 6–7. – В начале XVIII века устраняются языковые различия между клятвой на верность, связанной с целованием креста, и шертью как клятвой для нехристиан. Отныне везде действовала единая языковая форма «присяги на подданство» // ПСЗРИ. Т. 6. № 3778 (апрель 1721). С. 383–387; Т. 7. № 4646 (02.02.1725). С. 412; № 5070 (07.05.1727). С. 788–789. См. о шерти: Трепавлов. Добровольное вхождение в состав России. С. 160; Он же. Присоединение народов к России; Шаблей. Подданство в Азиатской России. С. 99–122; Бахрушин. Ясак в Сибири // Научные труды. Т. 3. Ч. 2. С. 65; Khodarkovsky. Russia’s Steppe Frontier. Р. 53–54; Idem. «Third Rome» or a Tributary State. Р. 366–368.].
Поскольку изменение семантики понятия шерть происходило медленно и завуалированно, а российская сторона в начале взаимодействия с этнической группой остерегалась слишком четких формулировок своей интерпретации, произошла предсказуемая и продолжительная череда недоразумений. Среди нехристианских этнических групп юга и востока вплоть до XVIII века сохранялось первоначальное понимание шерти как двустороннего договора. В этой связи они видели себя во временном статусе царского протектората[181 - В связи с этим российский историк В. В. Трепавлов не согласен с тем, чтобы понятие шерть в принципе понималось как принятие царского подданства. Он указывает на то, что за принесением присяги фактически наступало не подданство, но лишь отношения протектората. Однако вместе с тем он не учитывает ни русское понимание шерти в то время, ни присущие московской стороне претензии на верность. Именно эластичность российского понимания подданства, благодаря которой различные уровни подчинения обозначались одним понятием, позволяла позже без изменения понятий и без перехода на другой уровень достигать более тесной связи. Трепавлов. Присоединение народов к России. С. 200.]. Так, на Северном Кавказе в 1557 году то, что, по версии московской стороны, представляло собой «вступление» кабардинцев в подданство русского царя («учинение в холопство»), с точки зрения самих жителей Кабарды означало всего лишь временную внешнеполитическую ориентацию на Московское государство, своего рода военно-политический союз. К большому раздражению российской стороны, после этого кабардинцы де-факто по-прежнему продолжали лавировать между персидским шахом, османским султаном и московским царем[182 - Bennigsen-Broxup (Ed.). The North Caucasian Barrier; Khodarkovsky. Of Christianity, Enlightenment, and Colonialism; Дзамихов. Адыги в политике России; Бобровников, Бабич (ред.). Северный Кавказ в составе Российской империи; Калмыков. Интеграция Кабарды и Балкарии.]. Даже присоединенные лишь в XVIII веке казахские ханы Младшего и Среднего жуза не соблюдали своих подданнических обязательств, не освобождали пленных и не позволяли российским караванам мирно передвигаться по своим пастбищам, как это было согласовано[183 - О казахах: Аполлова. Присоединение Казахстана к России; Khodarkovsky. Russia’s Steppe Frontier. О московской политике в отношении ногайских татар: Ногайско-русские отношения в XV–XVIII вв.; Kappeler. Moskau und die Steppe; Трепавлов. История Ногайской Орды. – О башкирах: Donnelly. The Russian Conquest of Bashkiria; Steinwedel. Threads of Empire. – О калмыках: Khodarkovsky. Where Two Worlds Met. P. 67–73; Schorkowitz. Die soziale und politische Organisation bei den Kalm?cken.].
Но если за присягой на подданство царю не следовало повиновение царскому правительству, если каждый по-своему трактовал свою присягу, а также условия подчинения или подвластности, возникает несколько вопросов: какое значение имел статус номинального подданства для российской стороны вообще, если он не был или не мог быть реализован? Каким российская имперская элита видела статус инкорпорированных ею, но «непокорных» нехристианских этнических групп за пределами концепции милости? В какой мере могли, с ее точки зрения, существовать разные степени подданства? И какие критерии, с точки зрения историка, должны быть соблюдены, чтобы вообще можно было говорить о реальном подданстве инкорпорированных этнических групп в российском государстве?
2.2. КРИТЕРИИ РОССИЙСКОГО ПОДДАНСТВА
Российский историк В. В. Трепавлов и его последователь П. С. Шаблей не так давно размышляли о том, как следует анализировать распространенное в XVIII веке понятие подданство с учетом различий его восприятия в центре и на периферии, а также различной степени его реализации. На первом этапе Трепавлов называет необходимым условием статуса подданства, во-первых, заключение соответствующего соглашения, а во-вторых, использование термина, обозначающего этот статус[184 - Трепавлов. Присоединение народов к России. С. 198–205; Он же. «Белый царь». С. 134. – О русской системе понятий подданства подробнее далее.]. Для установления различия между номинальным и реальным подданством Трепавлов предлагает четыре критерия: во-первых, включение территории или народа в высшую государственную символику – прежде всего в официальный царский титул или в большой государственный герб; во-вторых, обложение налогом каждой «включенной» этнической группы; в-третьих, распространение царского законодательства и юрисдикции национальных учреждений на территорию формально инкорпорированной этнической группы; и в-четвертых, принадлежность территории к одной из административных единиц структуры правления или государства[185 - Трепавлов. Добровольное вхождение в состав России. С. 155–163.].
Эти критерии важны по ряду причин. С их помощью впервые предпринимается попытка разложить сложный процесс имперских инкорпораций в российском государстве на компоненты. Критерии позволяют обозначить неодновременность формального принятия в подданство и фактического включения в административную систему Российской империи и аналитически определить степень политического проникновения. Наконец, они дают возможность измерения различных восприятий с российской стороны и со стороны инкорпорированных этнических групп на основе единых стандартов.
И все же упомянутые критерии не могут адекватно отразить сложность и неоднородность российской концепции подданства, сложившейся к XVIII веку. Попытка Трепавлова административно представить переход от номинального подданства к реальному оперирует идеальными типами и основывается на современном представлении о сформированном государстве. Однако он пренебрегает такими важными аспектами, как намерения современников и их интерпретации. Он недостаточно учитывает, в чем состоял соответствующий интерес российского правительства по отношению к коренным жителям различных регионов и в какой степени этот интерес придавал значение определенным аспектам подданства и отодвигал на задний план остальные аспекты, что не обязательно влекло за собой другой уровень интеграции подданных – а порой российское государство и не ставило перед собой подобной цели.
Продемонстрируем это на примере. В Сибири и на Дальнем Востоке постоянно повторяющееся предписание «ласково» приводить коренное население в подданство означало, что коренным народам предлагалась альтернатива: либо добровольно вступить в подданство и тогда платить ясак самыми лучшими собольими шкурками, либо быть убитыми. В южных степях повеление «ласково» приводить в подданство означало, что калмыцких или казахских ханов осыпали подарками, прежде чем осторожно, путем многочисленных искусных уговоров и переговоров, предложить им российское подданство. Если на востоке действовал девиз «отдай или умри», то на юге собрать ясак можно было только в том случае, если местные жители предоставляли его добровольно. В случае их отказа не следовало от них ничего требовать, хотя изначально уплата ясака была даже зафиксирована в жалованной грамоте как условие подданства[186 - Грамота имп. Анны хану Абулхаиру и всему казахскому народу о принятии их в российское подданство // КРО. Т. 1. № 28 (19.02.1731). С. 40–41, здесь с. 40. Однако обязательства по уплате ясака для казахов были ослаблены по сравнению с первоначальными планами представителей российского правительства. В грамоте о принятии в подданство значилось, что они должны «платить ясак так, как служат башкирцы». – Ранее же шла речь о том, что ежегодно должны доставляться 4000 лисьих шкур. Письма ханов Абулхаира и Семеке <…> имп. Анне о принятии ими российского подданства // КРО. Т. 1. № 27 (02.01.1731). С. 37–40, здесь с. 38.].
Рис. 1. Сдача ясака в Тюмени. Рисунок С. У. Ремезова из его «Служебной чертежной книги» 1699–1701 годов
Эта разница в подходах была связана с варьирующимися в зависимости от региона интересами царских правительств. На востоке целью имперской экспансии являлось прежде всего «белое» золото. На юге требовалось обезопасить геополитически значимый регион, чтобы обеспечить возможность торговли с Индией и Китаем, а также импорт лошадей. На востоке действовали с применением оружия и принуждали к подданству по праву победителя. На юге и Северном Кавказе производились попытки включать степные и горные народы в состав российской державы, настраивая этнические группы друг против друга.
Таким образом, критерии Трепавлова лишь отчасти помогают ответить на вопрос, когда сама российская сторона стремилась добиться только номинального или реального подданства и стремилась ли она установить определенный тип подданства. Именно этот аспект в литературе при анализе российско-имперской политики постоянно преподносится как ключевой. В зависимости от того, о каком народе идет речь, ответы на него оказываются более или менее спорными[187 - В качестве примера дебатов в исследовательской литературе по вопросу о том, как следует оценивать соответствующий статус этнической группы в составе российского государства, могут служить замечания о казахском Младшем жузе и о ногайцах. Лапин. Деятельность О. А. Игельстрома. С. 145–146; Ногайско-русские отношения в XV–XVIII вв. С. 97–101; Трепавлов. История Ногайской Орды. С. 627–647.]. Но если взглянуть на российскую практику применения концепции подданства в масштабах всей державы, становится очевидным, насколько интересы царских правительств и их имперской элиты различались в зависимости от региона и как расставлялись приоритеты при принятии соответствующих мер. Тогда становится очевидным, что эти разные точки зрения предполагали такой гибкий и прагматичный подход, что, кроме требования верности и послушания, нельзя выделить ни одного компонента концепции подданства, которому имперская элита всегда во всех регионах уделяла одинаковое внимание.
Поэтому, чтобы понять российскую концепцию подданства с точки зрения ее современников, представляется целесообразным вновь осмыслить ее, исходя из ее исторического развития. Только при понимании царского подданства как акта милости правителя становится понятным, почему никакие попытки рассмотреть данное явление с юридической или административной точки зрения не увенчаются успехом. Напротив, концепция акта милости позволяет понять, что подданство можно рассматривать только как ситуативную категорию, с которой обращались гибко, в зависимости от региона, а также в пределах одного региона в зависимости от условий, и которая не допускает идеальных типов. Подданство с самого начала являлось динамической системой[188 - Это утверждение справедливо и для веков, предшествовавших появлению концепции подданства в XVII веке. О русском понятии подданства до подданства см. далее. – О гибких и непоследовательных темпах интеграционной политики Московского княжества после соответствующего официально объявленного присоединения коренных групп населения см.: Kappeler. Ethnische Minderheiten im Alten Ru?land. S. 145.]. Под одним и тем же понятием сознательно подразумевали различные степени инкорпорации. Они не были четко разграничены, но переходили одна в другую. Именно эта бесступенчатость, позволявшая политике царских правительств проявлять большую гибкость, была не столько недостатком, сколько большим преимуществом концепции[189 - Призыв рассматривать подданство как ситуативную категорию отличается от принципа сепаратной сделки, с помощью которого Э. Лор описывает русскую практику, когда с каждой покоренной группой договаривались о специфических условиях прав и обязанностей. Термин «сепаратная сделка» справедливо указывает на то, что не существует общего кодекса обязательств и прав для всех подданных, включенных путем иммиграции или аннексии, но дает понять, что подобные соглашения, будучи единожды заключенными, навсегда характеризуют соответствующее подданство. «Ситуативное подданство» указывает, напротив, на то, что один и тот же партнер по соглашению с течением времени приобретал абсолютно различные формы подданства. См.: Лор. Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу. С. 40–41, 55–56.].
Без сомнения, декларирование подданства во многих случаях еще не означало реального подчинения[190 - Предложенная Ж. Б. Кундакбаевой формулировка «принятие подданнической ориентации» для обозначения стадии между номинальным, но (еще) не реальным подданством представляется в данном случае особенно удачной. Кундакбаева. «Знаком милости Е. И. В.». С. 279.]. Часто отношения русских с коренными этническими группами, в особенности с башкирами в XVII веке и с казахами в XVIII веке, формировались на уровне протектората. Также в духе предыдущих замечаний можно согласиться с анализом Павла Шаблея, согласно которому благодаря прагматичному российскому подходу среди относительно многих этнических групп преобладало представление, что подданство следует рассматривать как «свободные вассальные отношения», как временный альянс союзного партнера с российским государством, а не как безусловное и вечное подчинение.
То, что характер предмета не был четко определен российской стороной, несомненно, вызывало проблемы. Гибкая царская политика действительно могла служить искрой для восстаний, если она, как считали башкиры в конце XVII и начале XVIII века, в одностороннем порядке нарушала предполагаемые условия договора[191 - Шаблей. Подданство в Азиатской России. С. 99–122.]. Но преимущества этой гибкой концепции подданства, безусловно, перевешивали ее недостатки.
Вопреки точке зрения Шаблея, именно отсутствие правовых норм в российском понимании подданства в духе концепции милости, привело скорее к успеху российско-имперской политики, чем к ее провалу. Гибкость и прагматизм в решении вопросов подданства в сочетании с военной силой были главным козырем царей и их имперской элиты в непрерывном продолжении и укреплении территориальной экспансии. «Вечное» подданство могло быть зафиксировано письменно по праву победителя, после успешно проводимой политики дезинтеграции или угрозы со стороны других империй, которая вынуждала коренные этнические группы искать убежище в российском государстве. С российской точки зрения, после этого подданство сохранялось и в случае чисто номинального господства как воплощение притязания на реальное господство. Таким образом, статус подданства имел гораздо большее значение, чем юридическая характеристика индивида, которая указывала на принадлежность к российскому государству. Подданство само по себе было инструментом российской политики экспансии. Подданство гарантировало правовую позицию, которая впоследствии могла оправдать и оправдывала карательные экспедиции (поиски) и вмешательство во внутренние дела – в первую очередь именно для достижения реального подданства[192 - Комендант Оренбургской комиссии Иван Иванович Неплюев (1693–1773) в 1742 году так подытожил значение присяги среди «непостоянных народов», таких как казахи Среднего жуза: «Ибо хотя и на присягах их немало основаться неможно, яко народ весьма непостоянной и неверной, но чрез то вечное право о подданстве их Е. И. В. подтверждается». Донесение начальника Оренбургской комиссии И. Неплюева Коллегии ин. дел о мерах, предпринятых в отношении хана Абулмамбета в связи с его намерением принять джунгарское подданство // КРО. Т. 1. № 105 (18.11.1742). С. 269–273, здесь с. 270. – Присяга на верность ногайских татар за 1557 год также демонстрирует значение процесса с точки зрения Москвы. Хотя ногайские татары имели совершенно иное представление о своей присяге, Москва настойчиво возвращалась к однажды установленной (с ее точки зрения) правовой позиции и использовала ее как аргумент для неизменного подчинения. Kappeler. Moskau und die Steppe. S. 87–105.].
В отношении «непокорных» этнических групп, таких как живущие на Дальнем Востоке чукчи, среди которых к середине XVIII века только часть вождей и их последователей удалось привести в подданство, представители царского правительства даже заявляли, решительно и со множеством уловок, будто все чукчи стали подданными московского царя. Вслед за историком А. С. Зуевым здесь с полным основанием можно говорить о «превентивном характере» подданства: российское подданство было объявлено не просто для отдельных представителей чукчей, но по умолчанию для всей этнической группы в заявлении о верности, которое предшествовало фактической присяге. Это, с точки зрения царской стороны, впоследствии давало право на применение оружия для обеспечения законности установленных притязаний[193 - Зуев. Русско-чукотские переговоры 1778 года.].
Политика прагматичного отношения к подданству особенно ярко проявлялась в регионе наивысшего межимперского соперничества: в южной и юго-западной Сибири. Здесь российские цари на протяжении веков допускали двойное, а в отдельных случаях даже тройное подданство. Барабинские татары и енисейские киргизы с середины XVII века до падения Джунгарской империи в середине XVIII века являлись подданными и российского царя, и джунгарского хана. Они платили дань обоим правителям и обязывались в случае нападения предоставлять воинов обеим сторонам (двоеподданство)[194 - Основатель Джунгарского ханства и его первый правитель контайша Эрдэни-Батур в 1640 году впервые открыто предложил московскому представителю заставить кыргызов платить двойную дань. Московская сторона не отреагировала негативно. РМонгО. Т. 2. С. 208.].
После уничтожения Джунгарской империи династией Цин в 1750?х годах российская сторона продолжала практику двойного подданства этнических групп на юге Алтайских гор, на этот раз вместе с китайской империей. Конфронтации с династией Цин на первых порах избегали, чтобы не навредить прибыльной сухопутной торговле с Китаем. В конце концов и здесь царское правительство добилось успеха благодаря своей гибкости, и в 1860?х годах ему удалось установить в регионе единоличное российское подданство[195 - Боронин. Двоеданничество в Сибири; Он же. Челканцы между Россией и Джунгарией; Он же. Русско-джунгарские посольские связи; Он же. Вопрос о двоеданцах; Он же. Двоеданничество и двоеподданство; Шерстова. Проблема переориентации аборигенного населения; Моисеев. Прием в российское подданство южных алтайцев. – Однако тройное подданство существовало только в XVII веке и включало ойратов, хотогойтов и телеутов.]. Подобное было характерно как для отдельных районов Дагестана, которые в первой половине XVII века находились в подданстве, с одной стороны, персидского шаха, а с другой, московского царя, так и для частей казахского Среднего жуза, которые в середине XVIII века временно находились в подданстве русских царей и династии Цин. В этих двух случаях российская сторона в конечном итоге также получила единоличное подданство[196 - В случае Дагестана исходным термином является опчее холопство. Очерки истории Дагестана. Т. 1. С. 135–136; Кушева. Народы Северного Кавказа. С. 307, 308; История народов Северного Кавказа с древнейших времен. С. 343. – В случае казахского Среднего жуза российская сторона, однако, не была готова согласиться с долговременным двойным подданством. Царское правительство пыталось всеми средствами как можно быстрее изменить ситуацию в свою пользу. За этим стояло опасение, что в случае примирительной политики оно может потерять казахский Младший жуз, который уже сравнительно прочно находился в исключительном царском подданстве, в пользу династии Цин. КРО. Т. 1. № 84 (06.05.1742). С. 197–198; № 105 (18.11.1742). С. 269–273; № 216 (16.01.1758). С. 549–550; № 217 (29.01.1758). С. 550; № 219 (19.05.1758). С. 552–561; № 230 (31.08.1759). С. 598.].
В особенности прагматизм был распространен среди представителей имперской элиты на периферии. В отличие от предыдущих веков центральные органы власти в XVIII веке придавали большое значение тому, чтобы как можно более четко декларировать переход коренного населения в царское подданство, чтобы таким образом узаконить свои военные кампании по «умиротворению» региона и обеспечению российских интересов. С другой стороны, российские посланники и посредники на местах часто шли на различные уловки и скрывали от коренного населения истинные последствия принесения присяги и платы ясака. Тем самым они стремились предотвратить восстания и прежде всего обеспечить требуемое центром поступление ясака.
В результате в Сибири, на Дальнем Востоке и в Северо-Тихоокеанском регионе у многих коренных этнических групп сложилось впечатление, что при сдаче пушнины и получении в обмен бус и ножей происходил скорее бартер, чем выплата дани правителю, подданными которого они становились навсегда. Ногайцы во главе с бием Иштереком в XVII веке заявили, что им полагается столько же подарков, сколько они получали от «царя Крымских татар» и султана Османской империи[197 - Новосельский. Борьба Московского государства с татарами. С. 139.]. Среди казахов также многие считали, что они будут состоять в «добровольном» союзе с российским государством только до тех пор, пока не перестанут получать за это ценные сабли, одежды и шапки из собольих шкур. Российские представители на периферии часто были осведомлены об этом заблуждении. Однако часто именно эта неявная стратегия была наиболее эффективной: сначала забрасывалась сеть номинального подданства, чтобы позднее следующим шагом постепенно и в соответствии с российскими нуждами и военным потенциалом затянуть нить реального подданства таким же образом, как это проделывается с рыболовной сетью[198 - Осознание соответствующих различий в понятии подданства, с точки зрения коренных жителей и российской стороны, отражены в словах полководца А. В. Суворова, заметившего по поводу черкесов и их желания принести присягу в 1779 году: «Подданство: термин не столь важный на тамошнем языке, как на российском». Ногайско-русские отношения в XV–XVIII вв. С. 98. – Подробнее о российской практике даров в отношении этнических групп на юге и востоке в гл. 4.6.].
Итак, при всех значимых различиях между номинальным и реальным подданством можно отметить, что номинальное принятие в российское подданство не исчерпывалось исполнением формальностей, особенно с конца XVII – начала XVIII века. Скорее сам акт принятия составлял обоснование постоянного притязания российской стороны на коренное население, независимо от того, могло или не могло на самом деле осуществляться царское господство над номинально новыми подданными, а также от вопроса, каким образом осуществлялось принятие в подданство: путем применения силы или на якобы добровольной основе. Акт вступления в подданство олицетворял собой обязательное условие связей с российской стороной. Он создавал новую политическую идентичность местного населения, которая с российской точки зрения должна была сохраняться даже тогда, когда носители этой новой идентичности больше не желали быть частью империи. С российской точки зрения однажды совершенный акт приема узаконивал любые меры, служившие для закрепления подданства, а также усиления административного проникновения, как только появлялись собственные возможности для этого. Именно отсутствие установленных российской стороной этапов административного проникновения позволяло гибко трактовать подданство в зависимости от региона или этнической группы.
2.3. ПОДДАНСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА И ИМПЕРИИ
После того как в первой подглаве было показано, что в концепции российского подданства не проводилось принципиального различия между природными русскими подданными и теми, кто стал россиянами в результате имперской экспансии, на следующем этапе возникает вопрос, какие последствия для концепции имела растущая национализация в XVIII веке и что это означало для «старых» и «новых» групп подданных соответственно.
В рамках пяти характеристик российской концепции подданства было упомянуто о двойственном положении между личными и династическими и позднее государственными связями, которые были внесены в присягу на верность: несмотря на предусмотренную в присяге формулу о вечном характере подданства, которая указывает на институциональное постоянство российской структуры правления, присягу необходимо было повторять при каждой смене власти. Это трактовалось уже как выражение личного подданства. Но та же схема действовала и в отношении «природных» подданных. От них также требовалось заново приносить присягу при каждой смене царя, хотя в тексте присяги уже говорилось, что она должна была распространяться также и на преемников нового царя/императора, новой царицы/императрицы.
Итак, в этом двойственном положении между личным и институционально закрепленным подданством все подданные находились на равных. Однако это еще недостаточно объясняет исходное состояние концепции подданства в XVII веке, то есть до процесса огосударствления. Для того чтобы наглядно представить процесс огосударствления, происходивший в XVIII веке, и его последствия для всех подданных, необходимо в качестве вспомогательного средства привлечь историю понятий. Только при анализе различных понятийных систем и связанной с ними семантики подданства, а также подданства монарху как во внутрирусском, так и в имперском контексте XVII века становится ясно, как государственное образование, развиваемое Петром I, укрепило то пересечение, которое уже существовало в исторической традиции понятия российского подданства: слияние концепции подданства для «природных» русских и аккультурированных россиян, с одной стороны, с концепцией подданства для людей нехристианских культур, которые были инкорпорированы в ходе имперской экспансии на юге и востоке, с другой стороны[199 - О плодотворности анализа центральных понятий, происходящих из источников, для декодирования политико-социальной системы в связи с подданством в немецкоязычном пространстве см. также: Blickle. Untertanen in der Fr?hneuzeit.].
Тот факт, что российские подданные были подданными конкретных личностей, а не безличного государства, вплоть до XVII века находил свое отражение в таких формулировках, как «быть под государевою высокою рукою» или «привести под государеву руку». «Государева высокая рука» символизировала защиту властью и силой – связанными с личностью царя и его притязанием на господство. Независимая от него государственная структура еще не предполагалась. Но как называли людей, ставших подданными царя? И что можно извлечь из этих определений для понимания подданства до огосударствления царской власти?
В XVI и в начале XVIII века все «принятые в подданство» царя путем имперской экспансии, независимо от того, принадлежали ли они к высшему или низшему классу их соответствующей этнической группы, назывались «холопами» царя: «Он взял себе в холопы, холопы царя <…> во веки»[200 - Одним из ранних примеров стали черкесские князья, которые в 1552 году обратились к царю Ивану IV с просьбой принять их в подданство. Он их «взял себе в холопы» и обещал защищать их от крымского хана. Через три года пришла вторая черкесская делегация, которую он принял «во векы» и «з детьми» как царских подданных («а они холопы царя и великого князя и з женами и з детьми во веки»). Патриаршая или Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. 13. 1-я пол. М., 1965 [перепечатка с изд. СПб., 1904]. С. 259.]. Таким образом, прежде всего возникает вопрос о семантике понятия холоп в то время. Примечательно, что при его употреблении обращались к тому же термину, которым еще в прежние века называли несвободных людей землевладельца или тех, кто в качестве вспомогательной военной силы вместе с высокопоставленным воином отправлялся в поход. Но в обоих случаях это были социально-сословные, а не властные отношения.
Использование одного и того же термина, с одной стороны, в отношении несвободных людей в социально-сословной сфере, а с другой – в качестве обозначения подданных в контексте господства предполагает, что в этом одновременно можно увидеть и аналогию для описания отношений: сходство между властными отношениями царя и его подданных (холопов) с социально-сословными отношениями между землевладельцем и его «слугами» (холопами). Фактически размывание границ между отношениями, вытекающими из социально-сословного контекста и из контекста господства, можно наблюдать и на примере русского термина, противоположного по значению «холопу», а именно термина для обозначения помещиков и правителей: не только владельцы несвободных людей (слуг, холопов) назывались «государями» – так, в Судебниках 1497 и 1550 годов при Иване III и Иване IV к носителю правящей власти, великому князю московскому, по крайней мере с XV века, также обращались как к государю и господину, а с 1470?х годов – как к государю и господарю.
На фоне этой аналогии становится понятным и поведение русских представителей власти: великий князь Иван III в конце XV века был первым русским правителем, придававшим значение тому, чтобы к нему не только во внутрироссийской, но и в дипломатической среде обращались с упоминанием титула государь. Как следствие, русские вельможи приняли обозначение холоп, соответствующее государю в социально-сословном контексте, как самообозначение по отношению к государю в контексте властных отношений[201 - Н. С. Борисов приводит в качестве самого раннего примера самообозначения вельможи как холопа обращение князя Федора Хованского в 1489 году к великому князю Ивану III. Борисов. Иван III. С. 574. – В дипломатическом диалоге Иван III обозначался впервые в 1493 году в обращении Великого князя Литовского Александра Ягеллончика как Государь всея Руси. Real- und Sachw?rterbuch zum Altrussischen. S. 77.].
Маршалл По и А. А. Горский представили убедительный анализ семантики понятия холоп в отношении преданных высших сановников русского правителя. Согласно их выводам, это понятие использовалось не для выражения самоуничижения российского высшего класса, а скорее было призвано политически возвеличить статус великого князя московского: речь идет в том числе и о терминологической борьбе за признание правителя, претендовавшего, в частности, посредством титула царь, на то, чтобы считаться равным монгольскому хану. «Возвышение» правителя тем самым возвеличивало и честь тех, кто служил этому правителю[202 - Горский. О происхождении «холопства» московской знати; Poe. What Did Russians Mean When They Called Themselves «Slaves of the Tsar»?; Флоря. Иван Грозный. С. 99.]. Отсюда напрашивается вывод, что понятие «холоп» во внутрирусском контексте относилось только к элите, но не было доступно простым российским подданным. Относительно правителя они скорее должны были называть себя «сиротами».
Для подданных, присоединенных в ходе имперской экспансии на юге и востоке, такого различия по социальным критериям в начале XVII века еще не существовало. До сих пор они все без различия должны были именовать себя холопами царя. По аналогии с внутрирусской семантикой, по поводу понятия холоп в имперском контексте также напрашивается мысль, что с ним не связаны выходящие за рамки концепции милости намерения придать новым, нехристианским подданным явный уничижительный статус. Предположение о намерении унизить невозможно хотя бы потому, что понятие холоп во внутрирусском контексте относилось только к высшему сословию. Скорее следует предположить, что это обозначение прежде всего было призвано вновь указать на славу правителя, на честь быть его подданным. Кроме того, можно было надеяться, что желание обрести эту честь мотивирует и других, еще не ставших подданными, также стать ими.
Путь от термина холоп, применявшегося для обозначения новых подданных, к собирательному понятию холопство для обозначения состояния, в котором находились все, кто был «принят» в подданство в имперском контексте, был с точки зрения лингвистики недолгим. Это первое обозначение подданства в Московском государстве утвердилось в начале XVII века. Оно распространялось на всех вновь присоединенных подданных в Сибири, на Дальнем Востоке, в Алтайских горах, в южных степных районах и на Северном Кавказе[203 - КабРО. Т. 1. № 49 (от 25.06.1614). С. 80; РМонгО. Т. 1. № 91 (между 03.06.1632 и 11.11.1632). С. 184; Колониальная политика Московского государства. № 6 (14.05.1641). С. 9; МпиБ АССР. Т. 1. № 51 (24.11.1663). С. 175, 176; ПСЗРИ. Т. 3. № 1585 (14.05.1697). Пункт 25. С. 320–322; Памятники сибирской истории. Т. 1. № 119 (07.09.1709). С. 506–515, здесь с. 508.]. До сих пор в исследованиях уделялось мало внимания понятию «холопство». Вероятно, это связано с тем, что коннотация имперского подданства всегда накладывалась на второе, гораздо более важное для внутрирусского контекста значение этого понятия, в соответствии с которым до конца XVIII века холопство обозначало состояние рабства, а позже стало синонимом крепостничества[204 - Одним из немногих исключений в исследовательской литературе является В. В. Трепавлов, который истолковывает холопство в смысле царского подданства в его имперском измерении в контексте Ногайской Орды в XVI веке. Трепавлов. История Ногайской Орды. С. 644–647. – Русский писатель А. Н. Радищев использовал в книге «Путешествие из Петербурга в Москву», опубликованной в 1790 году, понятие «холоп» как синоним, с одной стороны, слов слуга и раб и, с другой стороны, – слова крепостной. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. С. 288.].
Обозначение подданства – холопства – в его имперском измерении всегда сопровождалось выражениями, подчеркивающими личностный характер подчиненности, – например, «быть под высокою рукою в вечном холопстве» или «быти под высокою рукою в прямом холопстве навеки неотступным». Образное представление о «высокой руке» и терминологическая аналогия с социально-сословными отношениями господина и слуги вдвойне подчеркивали концепцию тесной связи с правителем. Однако именно это сходство с отношениями господина и слуги привело к тому, что понятие «холопство» постепенно перестало применяться для обозначения имперского подданства.
От холопства к подданству
Могущественный хан государства Алтын-ханов в северо-западной Монголии Бадма Эрдэни, также называемый Омбо Эрдэни, в середине 1630?х годов был очень заинтересован в сотрудничестве с московским царем. Будучи преемником основателя империи Алтын-ханов, он стремился, с одной стороны, обеспечить себе военную поддержку против конкурентов из Внутренней Монголии, а с другой – получить доступ к торговым рынкам сибирских городов[205 - Омбо Эрдэни был вторым из Алтын-ханов, который правил в северо-западной части Монголии примерно с 1628 по 1657 год после своего предшественника и основателя империи Алтын-ханов Шолоя Убаши. Шастина. Алтын-ханы западной Монголии; Она же. Русско-монгольские посольские отношения XVII века. С. 19–21, 35.]. Когда в ответ на его желание царские послы предоставили ему присягу на верность для вступления нехристиан в царское подданство (шертную грамоту), он возмущенно заявил: «В холопстве де <…> то бесчестно». Невозможно представить, чтобы он, «Золотой царь» (такое буквальное значение имеет монгольский титул, заимствованный Московским государством из тюркоязычного перевода слова алтын-хан), принес присягу для вступления в «холопство» «великого государя». «А если нельзя изменить слово холопство, то я, Алтын-царь, не могу подписать» («и то де слово холопство льзя ли переменить инак, а так де мне, Алтыну-царю, отнюдь не писатца»)[206 - Статейный список посольства томского сына боярского Б. Карташева к ламе Дайн Мерген-ланзу // РМонгО. Т. 2. № 8 (28.08.1636–23.04.1637). С. 50–64, здесь с. 58 (13.12.1636).].
Московская сторона старалась объяснить монгольскому хану, что многие государства до него уже перешли под «высокую царскую руку» правителя. Тот, кого государь называет холопом, достоин чести, а не бесчестия[207 - Там же.]. Но попытки не увенчались успехом: все переговоры о личном исполнении шерти монгольским Алтын-ханом закончились безрезультатно. Вместо этого монгольский царь, не желая сильно оскорбить представителей Московского государства, позаботился о том, чтобы его духовный ламаистский наставник вместе со своим братом принесли присягу (шерть) за него и «за всю свою землю»[208 - Там же. С. 57–59; Запись приема царем Михаилом Федоровичем монгольских послов Мергена Деги с товарищами // РМонгО. Т. 2. № 25 (18.02.1638). С. 94–97, здесь с. 96–97.].
Таким образом, монгольский «царь» все же не стал холопом московского царя. Это было поражение, с которым царские дипломаты не готовы были смириться. Последующая неопределенность политического курса, с одной стороны, свидетельствует о гибкости Москвы, но, с другой стороны, также указывает на границы царского прагматизма. Они обнаружились в тот момент, когда речь зашла о сути понимания подданства, о концепции милости. Прежде всего, необходимо было предложить Алтын-хану новое наименование, чтобы он все-таки согласился лично принести присягу. В конце октября 1637 года, после долгих переговоров, московские дипломаты решились представить «Золотому царю» термин для обозначения царского подданства, которого никогда прежде не предлагали нехристианским вождям, а на тот момент, возможно, только грузинскому (а значит, христианскому) князю Александру в конце XVI века: он имел право вступить в царское подданство как подданный[209 - Запись приема в Посольском приказе послов Алтын-хана и ламы Дайн Мерген-ланзу Мергена Деги с товарищами // РМонгО. Т. 2. № 24 (27.10.1637). С. 92–94. – Грузинские посланники использовали понятие подданство уже в 1588–1589 годах, объясняя российским послам причины, по которым грузинский «царь» Александр вступил в царское «подданство» («государю бил челом в подданные <…> Грузинская земля потому государю и била челом, в подданстве учинилася»). Возможно, речь идет о в принципе первом упоминании понятия подданство в русском/российском контексте. Посольство из Грузии князя Каплана, старца Кирилла и Куршита // Белокуров (ред.). Сношения России с Кавказом. № 6 (1588–1589). С. 53 и далее. – Издателям «Словаря русского языка XI–XII вв.» были неизвестны эти ранние случаи применения понятия подданства, в качестве первого упоминания они называют 1645 год. Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 15. С. 248.].
К сожалению, в источниках отсутствуют следы рефлексии по поводу того, какая интерпретация была связана с этими обозначениями. Однако представляется, что именно монгольский Алтын-хан был тем, кто впервые ввел новое понятие, чтобы навязать его московской стороне. Еще до того, как посланники царя предложили термин подданство, в письме к московскому правителю он уже называл себя «подданой твой»[210 - Письмо Алтын-хана царю Михаилу Федоровичу о пожаловании его служилыми людьми и жалованием и о верной службе русскому царю // РМонгО. Т. 2. № 14 (не позднее 04.02.1637). С. 72–73.]. Только после того, как московские посланники набрались смелости и попытались настоять на старом термине холопство, но потерпели фиаско, они согласились предложить монгольскому «царю» принести присягу в роли подданного[211 - Статейный список переговоров томского воеводы И. И. Ромодановского с Дурал-табунаном и послом Алтын-хана Мерген Дегой с товарищами // РМонгО. Т. 2. № 20 (23.04–05.06.1637). С. 78–88, здесь с. 87.]. С уверенностью можно сказать только одно: по мнению Алтын-хана, новое понятие означало новый статус: он считался более почетным, чем статус холопа.
Но и этот шаг не позволил московской стороне добиться своей цели. Даже с учетом нового обозначения монгольский царь не был готов лично положить руку на текст присяги для подтверждения шерти: в Монгольской земле «не повелось, что царь царю шертует»[212 - Там же. С. 82.]. Вместо этого он сообщил, что присяги, которую дали лама и его двоюродный брат за него, вполне достаточно и что он и так был готов следовать всем указаниям великого царя[213 - Запись приема в Посольском приказе послов Алтын-хана и ламы Дайн Мерген-ланзу Мергена Деги с товарищами // РМонгО. Т. 2. № 24 (27.10. 637). С. 92–94.].
Для московской стороны позиция Алтын-хана была неприемлема. Подданство в рамках понятия милости требовало личного, безоговорочного подчинения. Достичь его можно было только через личную подпись. На понятийном уровне гибкость в ограниченной мере была возможна, в вопросах подчинения – нет. Когда Алтын-хан отказался первым спросить московских посланников о здоровье московского царя в соответствии с московскими дипломатическими обычаями и вместо этого потребовал сначала поинтересоваться его собственным здоровьем, провал вступления в царское подданство был предрешен[214 - Статейный список посольства томского сына боярского Р. Старкова к Алтын-хану // РМонгО. Т. 2. № 28 (05.09.1638–26.04.1639). С. 103–133, здесь с. 107.]. Как ни желательно было бы с московской точки зрения после Сибирского ханства инкорпорировать и орду Алтын-хана – «Золотой царь» не желал ни становиться царским холопом, ни превратиться в подданного.
В конце концов была составлена жалованная грамота, в которой не содержалось ни слова холопство, ни слова подданство, а просто было сказано, что Алтын-хан переходит под «нашу царскую высокую руку в наше царское в милостивое повеленье и в послушанье навеки неотступно». Тем самым уже не оставалось никаких сомнений в том, что вступление в подданство не состоялось и был заключен скорее «договор о дружбе»[215 - Жалованная грамота царя Михаила Федоровича о принятии Алтын-хана Омбо Эрдени-хунтайджи в русское подданство // РМонгО. Т. 2. № 26 (28.02.1638). С. 97–102. – Вопреки названию, присвоенному документу только в ХX веке, в источнике не идет речи о подданстве.].
В литературе рассматриваются два варианта происхождения понятий подданный и подданство. Один из вариантов заключается в том, что дипломаты образовали их от польских терминов poddany и poddanstwo. Эти обозначения, вероятно, были знакомы московским дипломатам по контактам с польско-литовским государством (Речь Посполитая), по крайней мере, с середины XVI века[216 - Первое употребление прилагательного подданный относится к 1558 году: Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. II. СПб., 1887 // СИРИО. Т. 59 (1887). С. 541–542. См.: Каштанов. Государь и подданные на Руси в XIV–XVI вв. С. 219; Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 15. С. 248. С. М. Каштанов указывает на то, что понятие подданный использовалось в переводах иностранных писем на русский язык в начале XVII века, особенно в первой русской рукописной газете «Вести-Куранты». См.: Каштанов. Государь и подданные на Руси в XIV–XVI вв. С. 219.]. С российской точки зрения польская семантика понятия, производного от латинского subditus («покоренный»), вполне подходила для заимствования: старопольское понятие poddany также имело двойное значение и обозначало, с одной стороны, принадлежность крестьянина государству, а с другой – социально-сословную зависимость крестьянина от феодала[217 - Slownik Staropolski. Т. 6. Р. 236–237.].
Таким образом, двойственное положение принадлежности, которая, с одной стороны, была личной, а с другой стороны, в то же время соотносилась с надличной структурой правления, также было включено в новое понятие. Тем не менее польская и более поздняя русская и российская интерпретации имели одно существенное различие: poddanstwo в Речи Посполитой соотносилось исключительно с зависимым положением крестьян по отношению к польскому королю. «Покоренным» (poddany) назывался только тот, кто в социальном плане находился на самой низкой ступени общества. Напротив, в отношении представителя польско-литовской шляхты семантика статуса «покоренного» применяться не могла.
Другой вариант может заключаться в том, что, возможно, московские дипломаты вывели эти термины из корня слова «дань»: быти под данью. В этой деривации понятие подданный указывает на то, что лицо (данник) платит подати в пользу того, кому он подчинился[218 - Трепавлов. «Белый царь». С. 135.].
Поскольку термин подданство – вопреки тому, что утверждали до настоящего времени исследования – впервые был применен не в контексте переговоров с казаками Речи Посполитой в 1654 году, а, как описано выше – еще в грузинском контексте, а затем и в ходе переговоров с монгольским Алтын-ханом, его латинско-польское происхождение вызывает сомнения[219 - Трепавлов считает внутреннюю русскую деривацию столь же вероятной, как и польско-латинскую: Трепавлов. «Белый царь». С. 135. Аналогичного мнения придерживается и Марасинова. К истории политического языка. С. 7.]. Однако дальнейшее использование термина в течение XVII века свидетельствует о том, что его введение, без сомнения, находилось в русле семантики холопства и, следовательно, в контексте описываемого намерения повысить статус царя. Поэтому представляется более убедительным исходить из акцента на подчинении и связанного с этим понятия польско-латинского происхождения как подтверждения подчинения уплате дани, как предполагает производное от корня русского слова.
Отныне во всяком случае понятие подданства обозначало предполагаемую или осуществленную инкорпорацию любой имеющей высокий авторитет категории подданных, независимо от того, были эти подданные христианами или нехристианами. Оно употреблялось всякий раз, когда государственное образование с высокой степенью социальной и политической дифференциации должно было быть переведено или переводилось в реальное подданство или, по крайней мере, в своего рода отношения протектората. Соответственно, в уже упоминавшихся переговорах 1654 года о присоединении гетманской Украины обсуждалось только понятие подданства. То же самое произошло два года спустя с молдавским князем и еще два года спустя с курляндским герцогом. Также в переговорах 1661 года с калмыцкими аристократами ламаистско-буддийской веры (тайши[220 - Тайши у калмыков являлся высшим аристократическим титулом после хана. Он применялся по отношению к главам самой обширной калмыцкой подвластной территории (улуса), но мог обозначать также претендента на титул хана или бывшего хана. В русском языке этот титул обычно передается как тайша. Schorkowitz. Die soziale und politische Organisation bei den Kalm?cken. S. 272–274. – В целом обозначение тайши (или также тайша) использовалось для обозначения лидера народов монгольского происхождения.]) или при присяге царю кабардинского князя Каспулата Муцаловича Черкасского в 1676 году упоминалось исключительно понятие подданство[221 - ПСЗРИ. Т. 1. № 180 (29.06.1656). С. 384–390; № 316 (09.12.1661). С. 561–564. О принятии герцога Курляндского в подданство: Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА). Ф. 63. 1658 г. Д. 4; указано у Рухманова. К истории переговоров о принятии Курляндии в подданство России. С. 161. О принятии кабардинского тайши: КабРО. Т. 1. № 229 (08.01.1676). С. 357. – В. Прокопович еще в 1955 году пришел к аналогичному анализу семантики подданый/подданство в XVII веке, который, однако, в последующий период был едва ли воспринят. Прокопович не был знаком с контекстом, в котором впервые появилось подданство в 1637 году, поэтому упустил из виду преемственность с холопством и пришел к неверным выводам. Prokopovych. The Problem of the Juridical Nature. Р. 960–980.]. С другой стороны, при присоединении сибирских оленеводов, охотников и кочевников царская сторона в течение всего XVII века еще придерживалась понятия холопства[222 - Свидетельства об использовании слова холопство еще в конце XVII века и даже в начале XVIII века: ПСЗРИ. Т. 2. № 1099 (16.12.1684). С. 644–645; Т. 3. № 1542 (18.02.1696). Фрагмент 5. С. 237 (здесь, однако, использовались как холопство, так и подданство); Т. 3. № 1585 (14.05.1697). Фрагмент 25. С. 320–322; Т. 4. № 1802 (30.06.1700). С. 61–64; Т. 4. № 1822 (05.01.1701). Фрагмент 6. С. 95; Колониальная политика Московского государства. № 119. С. 506–515 (07.09.1709); МпиБ АССР. Т. 1. № 51. С. 175–176 (24.11.1663). – Башкиры еще в 1737 году говорили русскому государственному чиновнику о холопстве: МпиБ АССР. Т. 3. № 430. С. 39 (18.03.1737) и № 432 (1737). – В отношении кабардинцев термин подданство был впервые использован в 1676 году: КабРО. Т. 1. № 229. С. 357 (08.01.1676).].
Одновременное использование двух понятий для обозначения подчиненности в имперском контексте с середины 1630?х годов – подданства для высокопоставленных лиц и их свиты, холопства для этнических групп, не имеющих социальных классов, сопоставимых с российским высшим дворянством, соответствовало употреблению сразу двух понятий для самоназвания подданных по отношению к правителю во внутрироссийском контексте. Как и в случае с подданством и холопством, в использовании терминов холоп (для высокопоставленных лиц) и сирота (для простого населения) решающее значение имели только социальные критерии[223 - Среди дипломатов за пределами Российской империи различие между холопством и подданством должно было вызвать недоумение. Посланники монгольского князя в 1689 году в тексте ходатайства своего главы в целях безопасности выбрали вариант с обоими терминами: «быть под вашею великих государей под высокой самодержавною рукою в подданстве в вечном холопстве»: Отписка иркутского воеводы Леонтия Кислянского в Сибирский приказ <…> // Сборник документов по истории Бурятии. Вып. 1. № 125 (до 01.08.1689). С. 359–361, здесь с. 360.].
Как же повлияли усиление и расширение роли государства, которые продвигал Петр I, на понятийную систему и стоящие за ней концепции подчинения? Такой реформатор, как Петр I, который, с одной стороны, намеревался коренным образом реорганизовать Россию на основе принципов камерализма, а с другой – нуждался в мощной регулярной армии и для этого рассчитывал на призыв солдат из широких слоев населения, быстро пришел к выводу, что упомянутые различия больше не имели смысла. Для пополнения армии ему были необходимы и холопы, бежавшие от своих господ. Привлечение холопов в армию и, следовательно, их невозвращение прежним господам можно было осуществить только в случае одновременного упразднения холопства как социальной категории сословного права. Однако с отменой холопства возвращение на уровне языка к социально-сословным отношениям господина и холопа в контексте отношений монарха и его приближенных больше не имело смысла. Более того, возникшая из камерализма цель царя унифицировать положение населения по отношению к личности монарха также упраздняла различия между холопами и сиротами[224 - Марасинова. Власть и личность. С. 258–263.].
В связи с этим в 1702 году царь повелел, чтобы отныне все жители «российского царства» в своих челобитных, подаваемых монарху, единообразно и без указания своего ранга именовали себя нижайшими рабами. Больше не допускалось различия между сиротами и холопами[225 - ПСЗРИ. Т. 4. № 1899 (01.03.1702). С. 189. – О дискуссии, с какой семантикой связно понятие раб, см.: Марасинова. Власть и личность. С, 260–263; Каменский. Подданство, лояльность, патриотизм. С. 75–81.]. Но этого было недостаточно, повеление явно относилось не только к «природным» россиянам, боярам, служилым и купцам. В равной степени оно относилось и к нерусским и даже нехристианским жителям, то есть к тем жителям, которые назывались иноземцами или в последующие десятилетия иноверцами.
Таким образом, одновременно на двух уровнях был сделан значимый шаг к формированию представления об объединении подданных: с одной стороны, вне социальных слоев, с другой – вне этнического происхождения и религиозной принадлежности дистанция между троном и подданными должна была быть, по крайней мере номинально, одинаковой для всех, а единство населения должно было поддерживаться только имперским патриотизмом и институтом самодержца как верховного господина[226 - Марасинова. Власть и личность. С. 257–260. С критикой подобной интерпретации введения такого единого обозначения, как рабы, выступает Каменский. Подданство, лояльность, патриотизм. С. 75–82. – В дискуссии по вопросу, требовалось ли при Петре I подданство, связанное с личностью или с государством, Маргарет Вольтнер поддерживает позицию, что при Петре принятие православия для получения подданства утратило значение и было заменено требованием приверженности российскому государству. С другой стороны, Клаудио Ингерфлом, опираясь на историко-понятийные исследования текстов присяги коренных народов и иностранцев, пришедших с запада, придерживается мнения, что петровское представление о правлении все еще было связано с личностью и поэтому преждевременно говорить о том, что присяга была связана с государством. В. Н. Бенда указывает на значение новой формы впервые зафиксированной законом присяги на верность. Ранее это был только устав, теперь же она была зафиксирована в манифесте (18.08.1721). В этом манифесте, однако, по-прежнему утверждалось, что присяга приносится русскому государю (а не государству). Woltner. Untertanenschaft von Westeurop?ern in Russland bis Peter einschlie?lich. S. 47–60; Ингерфлом. Историографический миф о верности «государству» при Петре Великом; Бенда. «Присяга на верность…».]. Основополагающий для империй принцип политики различия следовало упразднить, цель унитарного государства необходимо было сформировать в умозрении подданных.
На фоне этой концепции дальнейшее уравнивание было вполне логичным процессом. Если с точки зрения отношения подданных к монарху между приближенными высокого ранга и широкими слоями населения уже не должно было оставаться различий, то и употребление понятия подданства среди нерусского населения уже не требовало дифференциации по социальному статусу. Таким образом, даже в рамках подданства нерусских жителей социальные различия потеряли свою актуальность, по крайней мере на понятийном уровне: холопство вышло из употребления как термин для обозначения подданства нехристиан низшего ранга. Подданство утвердилось как единое понятие для всех, кто был покорен в ходе имперской экспансии, будь то кочевники в степях, оленеводы на Дальнем Востоке или остзейские немецкие дворяне в Лифляндии и Эстляндии[227 - Вероятно, последнее упоминание холопства относится к 1737 году и встречается в башкирском контексте. Запись башкира Ногайской дороги Крыккулинской вол. Муллагула Топанова уфимскому посадскому человеку И. Н. Дюкову на вечное холопство с крещением в христианскую веру // МпиБ АССР. Т. 3. № 430 (18.03.1737). С. 359; Запись башкира сибирской дороги, Сельжутской вол. Афонасия Келчюрина оренбургскому купцу Ивану Ильину на вечное холопство с крещением в христианскую веру // Там же. № 432 (06.04.1737). С. 361.].
Унифицировано было не только понятие, обозначающее концепцию подданства. Отныне «природные» русские, так же как инкорпорированные «иноземцы» и «иноверцы», были приведены к единому обозначению подданные. Однако в качестве самоназвания в челобитных к царю это понятие пока еще не использовалось. Только в 1786 году Екатерина II ввела самоназвание верный подданный, отменив тем самым введенный Петром I термин раб[228 - ПСЗРИ. Т. 22. № 16329 (19.02.1786). С. 534.].
Еще при Петре I были отменены и языковые различия между клятвой на верность, которая исполнялась по христианской традиции крестным целованием, и шертью как присягой для людей других вероисповеданий. Вместо этого не позднее чем с 1720?х годов всем необходимо было приносить лингвистически унифицированную присягу на подданство[229 - ПСЗРИ. Т. 6. № 3778 (апрель 1721). С. 383–387; Т. 7. № 4646 (02.02.1725). С. 412; № 5070 (07.05.1727). С. 788–789. – Бывший московский государственный муж Григорий Карпович Котошихин уже в 1666–1667 году в написанном им в эмиграции в Швеции сочинении «О России в царствование Алексея Михайловича» использовал понятие подданные для обозначения представителей всех социальных слоев, начиная с бояр и князей и до простолюдинов. Котошихин. О России. С. 1. – Как показывают свидетельства и вопреки утверждению Каштанова, только политика Петра I в начале XVIII века создала семантику подданства, охватывающую все население Русского царства. Каштанов. Государь и подданные. С. 220.].
То, что совершенно иная концепция подданства в принципе могла быть возможна, обнаруживается при сравнении действий российского государства с политикой Британской империи. Для англичан включение коренного населения британских колоний, будь то Канада, Новая Англия, Австралия или Индия, в государственное объединение «свободнорожденных англичан» было бы немыслимым. Вместо включения (и постепенной аккультурации) коренных этнических групп в собственное население и в собственную социальную структуру британским властям, напротив, крайне важно было постоянно следить за сегрегацией англичан от коренного населения[230 - Darwin. Das unvollendete Weltreich, особенно S. 241.].
Однако другая картина наблюдалась в дореволюционной Франции. В частности, в «Новой Франции» (в Канаде) французская имперская элита придерживалась не только интегративного подхода, схожего с российским. Прежде всего французская колониальная элита на протяжении многих десятилетий как в XVII веке, так и периодически во второй половине XVIII века стремилась к полной ассимиляции автохтонного населения с французским. Несмотря на то что формирование французской нации, составляющей большинство, на решающем этапе образования империи в XVIII веке уже продвинулось намного дальше, чем в российском государстве, между обеими империями можно провести примечательные параллели.
Эти параллели заметны не только в осуществлении попыток инкорпорировать культурно чуждые этнические группы в соответствии с концепцией всеобщего подданства или гражданства. Наряду с этим в обеих империях обнаруживались ограниченность и амбивалентность таких попыток. Если в российском государстве XVIII века, несмотря на единый статус подданства, по-прежнему проводились различия между иноверцами и природными россиянами и даже после обращения «новокрещеные» не становились автоматически «россиянами», а продолжали считаться «новокрещеными» или даже крещеными иноверцами, то и во Франции, несмотря на политику ассимиляции, сохранялись различия между «природными французами» и «не природными французами», или натурализованными иностранцами[231 - Sahlins. Unnaturally French; Idem. Interview.]. Таким образом, в обоих случаях можно увидеть зачатки типичного явления, характерного для колониального дискурса, в соответствии с которым границы между колонизаторами и колонизированными хотя зачастую и стираются, но все же не исчезают полностью[232 - Bhabha. Of Mimicry and Man. – Более внимательное сравнение российской и французской концепций подданства в их имперском измерении и связанной с ним политики в дореволюционное время могло бы стать привлекательной темой для будущих исследований.]. Однако прежде всего взгляд за пределы Российской империи показывает, что отнюдь не контраст между морскими и континентальными империями был определяющим при выборе политики интеграции или сегрегации, а скорее ту или иную политику определяли исторические традиции и причины соответствующей имперской экспансии.
История понятия проливает свет не только на инициированное при Петре I слияние империи и протонационального государства посредством создания терминологически единого союза подданных. Вместе с тем она также может проиллюстрировать параллельно протекающий процесс огосударствления подданства. Таким образом, понятийная система отражает то, как изначально преобладающая двойственность российского подданства (с одной стороны, личного, с другой – трансперсонального) постепенно превращалась в однозначную связь с институцией, бытование которой все чаще рассматривалось как не зависящее от личности, которую она олицетворяла[233 - О деперсонализации правления и связанных с этим трудностях в российской державе см.: Raphael. Recht und Ordnung. S. 37–40, 67–74.].
В то время как в 1696 году такие формулировки, как быть под высокою рукою в вечном холопстве[234 - ПСЗРИ. Т. 3. № 1542 (18.02.1696). Фрагмент 5. С. 237.], не предполагали цели скрыть от людей личное подданство, уже через несколько десятилетий обозначения российское подданство (впервые употребленное уже в 1722 году)[235 - Из записи А. Тевкелева по поводу высказывания Петра I о привлечении казахов в российское подданство // КРО. Т. 1. № 24 (1722). С. 31.], а также подданные российские (1731) продемонстрировали[236 - ПСЗРИ. Т. 8. № 5704 (19.02.1731). С. 386–387.], какие изменения Петр I внес для отделения государства от правителя[237 - О значении Петровской эпохи для постепенного отделения понятия правления от понятия государства см.: Черная. От идеи «служения государю» к идее «служения отечеству».]. Конечно, в середине XVIII века все еще встречались отголоски личностного восприятия в употреблении таких формулировок, как быть в подданстве Его Императорского Величества (1741)[238 - РТуркО. № 29 (17.03.1741). С. 62.]. Однако не позднее начала XIX века концепция связи подданства с государственной структурой, то есть «империей» или «троном», окончательно утвердилась: теперь подданные находились в подданстве империи Всероссийской (1802)[239 - ПСЗРИ. Т. 27. № 20442 (03.10.1802). С. 265–269.] или оставались под покровительством всероссийского престола (1812)[240 - РДагО. Т. 2. № 397 (07.02.1812). С. 298, 299.].
От подданства к протекции и покровительству
Процесс огосударствления был важнейшей, но не единственной тенденцией, оказавшей влияние на развитие концепции подданства в XVIII веке. Другие преобразования происходили в результате освоения (западно)европейских понятий и связанных с ними концепций раннего и позднего периодов эпохи Просвещения. К ним относился термин протекция. Это понятие, произведенное от латинского protectio (защита, охрана), один из многочисленных неологизмов, проникших в российское государство через украинско-польское языковое пространство и взятое на вооружение Петром I и его окружением, в российском контексте приобрело два значения[241 - Еще П. А. Шафиров, Ф. Прокопович, Г. Ф. Долгоруков и Б. И. Куракин использовали понятие протекция. Шафиров. Рассуждение какие законные причин. С. 1; Прокопович. Слова и речи; Долгоруков // ПиБ. Т. 2. С. 544; Куракин (1707) // Архив Ф. А. Куракина. Т. 1. С. 189, 197, 202. См.: Christiani. ?ber das Eindringen von Fremdw?rtern in die russische Schriftsprache. S. 20, 21; Смирнов. Западное влияние на русский язык. С. 246; Фасмер. Русский этимологический словарь. Т. 3. С. 382.].
С одной стороны, оно представляло собой этап подготовки к «абсолютному подданству». Если казахский жуз не желает точного подданства, писал царь Петр I в одном из наставлений своему переводчику Алексею Ивановичу Тевкелеву (1674–1766), то нужно постараться, невзирая на большие расходы до 1 миллиона [рублей], в письме обязать его вступить под протекцию Российской империи[242 - Из записи А. Тевкелева по поводу высказывания Петра I о привлечении казахов в российское подданство // КРО. Т. 1. № 24 (1722). С. 31.]. Конечно, остается открытым вопрос, что именно Петр I понимал под протекцией. Но очевидно, что казахам (Младшего жуза) необходимо было предоставить статус, который бы не предполагал обязательств, вытекающих из «полного подданства»[243 - Даже несколько десятилетий спустя сохранились свидетельства того, что «протекция» и «подданство» терминологически различались. Например, в письме оренбургского губернатора Ивана Неплюева джунгарскому правителю Галдан-Церену говорится, что казах Абулхаир-хан сначала долгое время состоял «в протекции великих российских монархов», а с 1738 года стал «подданным по присяге» («торжественно присягал»). Письмо начальника Оренбургской комиссии И. Неплюева Галдан-Церену с требованием не вмешиваться в дела казахов, принявших российское подданство // КРО. Т. 1. № 95 (02.09.1742). С. 228–229, здесь с. 228. – Ногайские орды также просили в 1771 году Екатерину II о статусе протекции, но не подданства: «чтоб быть нам в протекции, а не в подданстве вашего величества». Цит. по архивному документу: Ногайско-русские отношения в XV–XVIII вв. С. 99.].
С другой стороны, гораздо чаще российская элита употребляла обозначение протекция как синоним подданства, невзирая на иное толкование со стороны коренных этнических групп[244 - По вопросу о том, как нерусские этнические группы на юге и востоке государства воспринимали свою связь с российским царством, в которое они вошли в результате «присоединения», см.: Трепавлов. «Белый царь». С. 134–197.]. Обязательства, связанные с концепцией подданства, а также личное принесение присяги по собственной вере, выплата дани и предоставление заложников называли то подданством, то протекцией, то и тем и другим одновременно[245 - Пример: хотя казахский Абулхаир-хан изначально просил о получении всероссийской протекции, российский дипломат А. Тевкелев рассуждал о том, можно ли считать желание Абулхаира быть принятым в русское подданство [sic!] «добрым и верным подданством» // КРО I. № 33 (03.10.1731–14.01.1733). С. 48–86, здесь с. 49; № 43 (10.04.1733). С. 99–100; см., кроме того, там же № 47 (10.02.1734). С. 103; № 50 (01.05.1734). С. 107–114; № 92 (07.06.1742). С. 217–218; особенно примечательно: Там же. № 178 (11–25.07.1749). С. 450–473; РДагО. Т. 1. № 1 (20.04.1719). С. 27–28; № 3 (21.01.1720). С. 28–29; № 38 (28.10.1723). С. 53; № 85 (17.05.1751). С. 85; КабРО. Т. 2. № 207 (19.06.1769). С. 290–291; № 225 (19.12.1777). С. 324–326.]. Тем самым вновь проявилась многовековая русская и российская традиция прагматичного и гибкого обращения с понятием царского подданства: неоднозначное употребление понятия протекции допускало его различные трактовки. Не было никаких критериев, которые указывали бы на разницу между протекцией и подданством. Более того, ни к чему не обязывающее взаимодействие плавно могло перейти в другую, значительно более тесную связь. Решающим с российской точки зрения оставался сам акт включения, а также связанное с ним притязание на длительные отношения. Обозначение и детали могли варьироваться[246 - В заблуждение вводит тезис Трепавлова, согласно которому неологизм протекция в начале XVIII века заменил понятие шерть в значении покровительства. В действительности понятие шерть в XVIII веке уже не использовалось. Игнорируется, во-первых, тот факт, что понятие шерть уже в XVII веке с точки зрения Москвы больше не несло семантики протектората, но просто обозначало присягу нехристианских представителей при вступлении в царское подданство, на что указывает также то, что обозначение шерть в начале XVIII веке было заменено на выражение присяга на подданство. С другой стороны, он упускает из виду широко распространенную практику применения в XVIII веке протекции и подданства как синонимов или одновременно, и даже без градации относительно «полного подданства» (см. свидетельства в предыдущем примечании). Трепавлов. «Белый царь». С. 138 и 147.].
И все же с появлением термина протекция в российском подданстве возник новый нюанс, который в последующие десятилетия значительно укрепил свои позиции. Восприятие мыслей Просвещения проявилось в том, что были введены такие новые термины, как покров и прежде всего покровительство. Эти новые понятия стали поздним следствием осуществленного при Петре I принятия парадигмы цивилизованности, которая еще будет подробно рассматриваться в настоящей работе[247 - См. гл. 4.1.]. С появлением новой парадигмы в российской имперской элите распространилось осознание себя как цивилизатора покоренных коренных этнических групп на юге и востоке и, следовательно, осознание своего долга вывести эти группы на более высокий цивилизационный уровень. Начиная с 1730?х годов убежденность в необходимости выполнить эту задачу связывалась не только со стремлением принудить людей к якобы «наилучшему пути» для них, но и с попыткой склонить их к изменениям «изнутри».
В связи с этим не позднее чем с середины XVIII века в центре внимания оказалась идея «покровительства». С правления императрицы Екатерины II новый дискурс терминологически проявился в том, что этнические группы, инкорпорированные в ходе имперской экспансии, принимались не в подданство, как это было раньше, а уже главным образом в покровительство императрицы. Как ранее протекция, так и покровительство применялось с разной семантикой: в редких случаях это понятие выступало для обозначения однозначно не достигающей подданства принадлежности к имперской структуре (в смысле протектората)[248 - ПСЗРИ. Т. 21. № 15835 (29.09.1783). С. 1013–1017 (Под протекторатом грузинского царя); Т. 19. № 13636 (12.08.1771). С. 294 (Под протекторатом крымских татар).]; часто оно использовалось либо в одном ряду с подданством[249 - ПСЗРИ. Т. 25. № 18990 (02.06.1799). С. 674–675; № 19107 (01.09.1799). С. 780; Т. 26. № 19994 (28.08.1801). С. 763 и далее; КабРО. Т. 2. № 213 (09.08.1771). С. 299–304, здесь с. 303; № 220 (24.04.1775). С. 312; № 221 (после 1775). С. 318–319; РДагО. Т. 2. № 248 (1783). С. 183; № 258 (02.03.1786). С. 190 (здесь покров и подданство одновременно); Доношение Г. И. Шелихова иркутскому генерал-губернатору И. В. Якобия // Русские открытия в Тихом океане. № 18 (19.04.1787). С. 206–214, здесь с. 207; КРО. Т. 2. № 64 (1786); РТуркО. № 85 (1801). С. 137; № 91 (09.05.1802). С. 143.], либо как синоним к подданству[250 - ПСЗРИ. Т. 23. № 16937 (27.01.1791). С. 206–207; РДагО. Т. 2. № 167 (30.09.1769). С. 131–132; № 241 (03.07.1783). С. 179–180; № 250 (1783). С. 184; № 272 (26.08.1786). С. 198–200; КабРО. Т. 2. № 208 (08.08.1769). С. 291–292; № 212 (до 15.10.1770). С. 295–299; КРО. Т. 2. № 66 (1786); № 86 (1803). С. 152–163; № 105 (07.10.1820). С. 185–186; № 117 (10.02.1823). С. 204; МпиБ АССР. № 497 (11.01.1770). С. 473–484; РТуркО. № 98 (13.03.1803). С. 153; № 100 (1803). С. 157; № 103 (16.04.1803). С. 159–160; № 141 (23.11.1819). С. 208; № 146 (25.01.1820). С. 217: «Они, приняв высокое покровительство императора Александра I, почтут себя счастливыми, когда будут носить имя подданного всероссийского государя»; № 149 (12.04.1820). С. 221–226; № 150 (21.04.1820). С. 226–228. – После смены столетия подданство все более вытеснялось покровительством.]. Иногда покровительство также непосредственно выражало только мысль о царской милости, защите и заботе – обычно с тем примечанием, что желательно было попасть под «особое покровительство» императрицы[251 - ПСЗРИ. Т. 38. № 29127 (22.07.1822). С. 417–433, здесь § 285 и 286; Т. 29. № 22371 (28.11.1806). С. 884–891; КабРО. Т. 2. № 220 (24.04.1775). С. 312; РДагО. Т. 2. № 267 (не позднее мая 1786). С. 195; № 316 (10.02.1796). С. 227–230; КРО. Т. 2. № 66 (1786). С. 118; № 123 (13.05.1824). С. 214; № 88 (10.05.1805). С. 164; № 89 (20.09.1805). С. 165; № 120 (07.01.1824). С. 209. – В целом Екатерина II снизила подобным смешением границ вступления в «покровительство» или в «подданство» доселе базовую значимость присяги. Она все больше воспринимала его как ритуал, который утрачивал свою ценность, если не соответствовал внутреннему настрою человека. В свете сопротивления польской шляхты присяге после восстания Костюшко она даже приказала, чтобы присягу принимали исключительно «от наличных и усердных». СИРИО. Т. 16. СПб., 1875. С. 62.].
Эти категории покровительства, прогресса и представления о различных уровнях цивилизации, получившие широкое распространение в поздний период эпохи Просвещения во второй половине XVIII века, не могли не повлиять на концепцию подданства. Прежде всеобщая и унифицированная концепция Петра I была частично разрушена, что расчистило путь для патерналистского образа мыслей и действий. В качестве примера «политики покровительства» в конце XVIII века можно привести действия в отношении Младшего жуза казахов. С российской точки зрения цель состояла в том, чтобы сломить упорную казахскую несговорчивость и привести кочевников в подчинение. В то время как, с одной стороны, царская сторона самочинно назначала казахского хана на российской земле, с другой стороны, казахской элите предоставлялась возможность войти в российские административные структуры и получать за это регулярное жалованье[252 - Подробнее об этом экспериментальном проекте «политики покровительства» в гл. 4.5.].
Однако сформулированный на этой основе тезис, как это делает историк Дов Ярошевский, что только такая политика служила цели «предоставить» казахам «полное» подданство, неубедителен. Ярошевский предполагает, что при императрицах Анне и Елизавете сознательно избиралась концепция лишь «ограниченного подданства». Таким образом, утверждает он, речь шла только о минимизации набегов казахов на российских подданных путем передачи казахам «выкупа» в виде жалованья или подарков. Только при Екатерине II и ее оренбургских губернаторах Дмитрии Васильевиче Волкове (1715–1785) и Осипе Андреевиче Игельстроме (1737–1817 или 1823) возникла новая линия политики, посредством которой из подданных, которые были таковыми «только по названию», пытались сделать лояльных подданных[253 - Yaroshevsky. Attitudes toward the Nomads of the Russian Empire.].
Как до него Трепавлов и Шаблей, Ярошевский не основывает анализ на понимании подданства современниками событий. Скорее, исходя из существующих сегодня представлений, он измеряет возможности участия в государственном управлении, которыми обладали казахи на соответствующих этапах российского подданства. При этом он аналитически опирается на концепцию, которую можно обозначить скорее как гражданство, нежели подданство. Однако политика Екатерины II в отношении казахов не была связана в первую очередь с наделением их особыми правами участия в управлении. Ее главной задачей был поиск новых средств, направленных на борьбу с постоянными грабительскими набегами казахов, и обеспечение их неизменной лояльности российскому государству. Не укрепление подданства само по себе было ее целью. Речь шла о новой политике в духе Просвещения, которая полагалась не столько на физическое насилие для воспитания из казахов «послушных подданных», сколько на то, чтобы «завоевать» их сердца и заставить изменить образ жизни посредством политики царского «покровительства» и вовлечения в дела государства[254 - Оренбургский губернатор О. А. Игельстром в конце 1780?х годов с неприязнью вспоминал предшествующую российскую политику организованного грабежа казахов, которая обозначалась как «карательная экспедиция» и по факту, как правило, касалась невинных людей. Игельстром, напротив, преследовал цель «и у дичайших народов приобресть доверенность в пользу империи». В этом духе он обратился к казахам с предложением принять участие в «пограничных судах», созданных для них // МпиК ССР 1785–1828. № 33 (10.05.1789). С. 108–127, здесь с. 110, 111. Больше об этом в гл. 4.5.]. Таким образом, цель была та же, что и в начале принятия казахов в царское подданство в 1730?х годах, только средства были другие. Опять же, именно гибкость российской концепции подданства дала возможность и в этом случае пересмотреть выбор средств.
2.4. ВЫВОД
Царскую концепцию подданства в имперском контексте XVIII века можно понять только с оглядкой на возникновение внутрирусской концепции подданства в конце XIV – начале XV века. Ее сущностные характеристики формировались из условий присяги на верность, которая со времен русского Средневековья составляла основу акта принятия в подданство правителя.
Со времен образования Великого княжества Московского решающее значение имела концепция неравенства участников. Правитель оказывал милость, принимая кого-либо в свое царство. В отличие от заключения равноправного договора, согласно московскому подходу, подразумевалось полное подчинение без правовых ограничений. Отличительной чертой подданства была личная связь, что было типично для правящих структур раннего Нового времени. В Российской империи это продолжалось дольше и было более выражено, чем в Западной Европе, несмотря на содержащееся в тексте присяги положение о трансперсональной вечной связи подданных с господином. Свидетельством русского, а затем российского подданства в соответствии с монгольской традицией выдачи ярлыка служила жалованная грамота, которую должен был предоставлять великий князь или царь. Для достижения максимальной истинности присяги клятва должна была осуществляться по собственной вере инкорпорированных.
Эти компоненты концепции подданства были взяты из внутрирусского контекста, когда в XVI веке впервые зашла речь об инкорпорации представителей чуждой, нехристианской высокой культуры. Это была та же концепция подданства с ее основным элементом – присягой на верность, и в межимперском сравнении в этом заключается особенность, которая проявилась при инкорпорации чуждых этнических групп Казанского ханства, а также при «собирании земель Киевской Руси» Великим княжеством Московским несколькими десятилетиями ранее. Эта инклюзивная традиция, продолженная в XVII веке, стала предпосылкой того, что дальнейшее расширение Российской империи в XVIII веке было самым тесным образом связано с образованием российского унитарного государства, а параллельно протекающие процессы частично даже слились друг с другом. Это важное наследие XVIII века, инклюзивный характер имперских дискурсов и государственной политики, несмотря на некоторое противодействие, сформировало российскую историю вплоть до XIX и XX веков и продолжает оказывать на нее влияние по сей день.
При этом цель царской власти объединить нерусские этнические группы, инкорпорированные в рамках имперской экспансии, с собственным населением, в межимперском сравнении отнюдь не была уникальной. Французская имперская элита сформулировала ту же самую цель в некоторых частях «Новой Франции» (Канада) и уже в XVII веке проводила аналогичную политику. Однако, пожалуй, ни в какой другой европейской империи стремление к объединению населения не доминировало в дебатах и имперской политике с такой настойчивостью и так эффективно, как в российском государстве.
Благодаря истории понятий становится ясно, как концепция подданства раннего Нового времени отделилась от своего первоначального двойственного положения между личными и зарождающимися государственными связями и развилась в начале XVIII века от личного подданства к гражданству: отправной точкой является холопство, первое русское понятие, обозначающее подданство, в котором терминологическое сходство с социально-сословными отношениями между государем и холопом демонстрирует личностный характер, несмотря на его употребление в контексте отношений господства. Когда в первой половине XVII века монгольский Алтын-царь Омбо Эрдэни отверг термин холопство в тексте своей присяги, российские власти ввели термин подданство. Он употреблялся до 1917 года и служил с Петровской эпохи общепринятым обозначением подчиненности, вне социальных и политических различий. С тех пор он отражал формирование концепции российского государственного народа, которая в равной степени характеризовала как давно проживающее население, так и вновь инкорпорированные нерусские этнические группы.
Царская администрация допускала расхождения между номинально установленным и иногда едва различимым реальным подданством. Современное понятие подданства включало различные ступени «натурализации», которые могли плавно перетекать друг в друга. В этом смысле российское подданство в XVIII веке, если не учитывать его основные компоненты, было ситуативной категорией, которая могла гибко корректироваться на местах в зависимости от региона и условий. Российские имперские акторы использовали именно эту гибкость концепции для установления все новых и новых притязаний и этим обеспечивали постоянный приток новых подданных.
Только один компонент концепции подданства уже с XVI века придавал инкорпорации новых подданных на юге и востоке явно имперский колорит: помимо сбора дани представители нехристианских аннексированных коренных этнических групп должны были передавать российской государственной власти в качестве живого залога членов самых уважаемых семей, которые регулярно обменивались. Этому методу, имевшему первостепенное значение для построения и консолидации Российской империи на юге и востоке, посвящена следующая глава.
3. ЗАЛОЖНИЧЕСТВО КАК ИМПЕРСКИЙ И КОЛОНИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Концепция царского подданства в ее основных принципах с самого начала распространялась на всех, кто подчинялся или хотел подчиниться российскому господству. Однако в случае нехристианских подданных, помимо присяги/шерти и ясака, выдвигалось дополнительное требование предоставить заложников[255 - Lutteroth. Der Geisel im Rechtsleben.]. Для коренных русских или членов других этнических групп, если они были христианами, обязанности платить ясак соответствовала аналогичная обязанность платить налоги или служить своему господину. Обязательное же предоставление заложников в том виде, в котором оно формировалось начиная с XVI века, не имело никаких аналогий ни во внутрирусском контексте, ни в форме господства над теми жителями державы, которые хотя и не были русскими, но все же являлись христианами.
Значение заложничества заключалось в первую очередь в том, что, в отличие от присяги, которая могла быть зафиксирована только на бумаге, взятие заложников являлось видимым признаком властно-политического превосходства. В этом пункте представления коренных народов, выдававших заложников, также во многом совпадали с мнением российской стороны, удерживающей заложников. В большинстве других вопросов, связанных с заложничеством, мнения расходились: с царской точки зрения заложники символизировали обещание постоянного подданства в виде лояльности и послушания. Для коренных этнических групп или их предводителей предоставление заложников обычно имело другое значение – например, оно могло являться символом временного протектората, связанного с притязанием на военную защиту, установлением дипломатических отношений или обременительным условием для получения подарков[256 - Трепавлов. «Белый царь». С. 134–197; Khodarkovsky. Russia’s Steppe Frontier. Р. 63–69.].
С российской точки зрения с XVI по XIX век удержание заложников служило решающим средством обеспечения царского права на подданство, даже среди нехристианских этнических групп, и надежным методом укрепления российской экспансии. Положения, которые впервые освещают этот имперский метод от его истоков до начала XIX века и с акцентом на XVIII веке, могут прояснить два момента. Во-первых, требование заложников, как ничто другое, обнаруживает, что царская власть управляла своими имперскими перифериями двояко: при присоединении христианской гетманской Украины, остзейских или польских губерний не было взято ни одного заложника. Во-вторых, на примере того, как решался вопрос с заложничеством, можно изучить, как в XVIII веке возникла российская миссия цивилизирования – политика, предусматривавшая всестороннюю трансформацию образа жизни коренного населения на юге и востоке.
3.1. ЗАЛОЖНИЧЕСТВО В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Взятие заложников относится к правовым архетипам. Еще в Библии рассказывается, как Иосиф удерживал при себе Симеона в качестве гаранта, когда его братья отправились обратно домой, чтобы привести к нему младшего брата Вениамина. Упоминания о взятия заложников встречаются в самых ранних источниках Китая, Вавилона и Индии, у ассирийцев и тимуридов[257 - Первое свидетельство о взятии заложников в Китае относится к VIII веку до н. э. Yang. Hostages in Chinese History. Р. 507. – Kosto. Hostages in the Middle Ages. Р. 3; Lutteroth. Der Geisel im Rechtsleben. S. 179; Pollock. «Thus We Shall Have Their Loyalty and They Our Favor».].
Особое значение захват заложников приобрел при римлянах. С самого начала они использовали заложничество для создания своей империи, прибегая, однако, лишь к одностороннему взятию заложников. Это означало, что получали заложников (obsides) исключительно римляне, сами же их не предоставляли[258 - Единственным исключением были самниты. Римляне должны были сначала предоставить им заложников, но затем в итоге смогли их освободить. Lutteroth. Der Geisel im Rechtsleben. S. 181–182.]. Покоренные этнические группы принуждались к заключению союза с Римом (foedera iniqua) и в качестве побежденных были обязаны предоставить заложников (так произошло в 201 году до н. э. с карфагенянами и в 189 году до н. э. с этолийцами). Известно о заложнике Полибии из Греции, который в 167 году до н. э. поселился в доме полководца Эмилия, где воспитывал юного Сципиона.
Однако чем дольше заложник находился вдали от дома, тем больше Рим опасался, что с его отсутствием могут смириться и в результате снизится важность заложника в обеспечении договоренностей. Поэтому через определенный срок заложников заменяли на новых. Положение взятых под надзор было для римлян священным, за исключением случаев, когда заложник утрачивал свое значение. Такое положение дел возникало, если покоренная этническая группа, предоставившая заложника, не соблюдала соглашения.
В позднеримский период истребование заложников сводилось к тому, чтобы продемонстрировать блеск и престиж Imperium Romanum: с помощью заложничества демонстрировалось не только превосходство Рима над другими этническими группами. Прежде всего возросло стремление использовать взятых в заложники сыновей «варварских» вождей для того, чтобы оказывать на них влияние в духе Рима и приобщать их к римским ценностям.
Несмотря на то что этот аспект заложничества в значительной мере был утрачен в Европе в Средневековье, столетия на рубеже первого тысячелетия являлись расцветом взятия и обмена заложников. Шла ли речь о нашествии викингов, нормандском завоевании Англии, борьбе за инвеституру, иберийской Реконкисте или крестовых походах – все европейские державы вплоть до папы римского были вовлечены в широко признанный институт поручительства – захват заложников[259 - Kosto. Hostages in the Middle Ages. Р. 4.].
Вариантов этой практики существовало великое множество, они варьировались от взятия заложников как гаранта высокой дипломатии между королями до насильственного и одностороннего захвата в заложники обычных людей с целью подчинения. Карл Великий для подтверждения своего господства над недавно завоеванными этническими группами регулярно брал заложников, особенно у саксов. Заложники рассматривались им как гарантия мирного поведения остальных членов рода. Так же как позднее и в российском государстве, эта форма заложничества в большинстве случаев сопровождалась принесением присяги[260 - Lintzel. Zur alts?chsischen Stammesgeschichte. Bd. 1. S. 98–100; Braunfels. Karl der Gro?e. S. 43 f., 58; Lampen. Sachsenkriege, s?chsischer Widerstand und Kooperation. Bd. 1. S. 264–272; Becher. Karl der Gro?e. S. 56–74.].
Международно-правовые дискурсы XVI и XVII веков фундаментально изменили на Западе отношение к захвату заложников. Благодаря трудам, подобным произведениям Гуго Гроция, захват заложников в мирное время как средство давления и договоренностей рассматривался в рамках международной политики все чаще как противоречащий нормам международного права, поскольку оценивался как неправосудное насилие по отношению к невинным частным лицам. Подобное считалось допустимым исключительно в том случае, если захват заложников побуждал другое государство отказаться от поведения, противоречащего международному праву[261 - Например, в 1740 году Фридрих Великий арестовал двух российских дворян, чтобы побудить российское государство освободить прусского дипломата. Lutteroth. Der Geisel im Rechtsleben. S. 230.]. В противном случае привлекались другие формы дипломатии, и в 1748 году, с подписанием Аахенского мирного договора, состоялась последняя среди западноевропейских государств передача заложников[262 - Англичане передали Франции двух высокопоставленных заложников, чтобы гарантировать передачу Франции острова Кейп-Бретон. Lutteroth. Der Geisel im Rechtsleben. S. 205–206.].
Вместе с тем размышления о международном праве едва ли мешали западноевропейским империям прибегать к захвату заложников в ходе заморской экспансии. Скорее, напротив, нарушение соглашений и их одностороннее толкование были обычным явлением в обращении с местным населением, как, например, с североамериканскими индейскими племенами. И все же, по сравнению с происходящим в российском государстве, заложничество не сыграло значительной роли в испанской, голландской, британской или французской колонизации Северной и Южной Америки. Только в отдельных случаях голландцы прибегали к договорам о заложниках в рамках международного права, как, например, голландские колонисты в Южной Америке, когда по мирному договору 1762 года они предоставили свободу сарамакам, но хотели защитить себя от набегов с помощью взятия заложника[263 - Price. To Slay the Hydra. Р. 162.]. О французах и англичанах известно лишь, что при каждой колониальной войне XIX века они время от времени брали заложников[264 - Hammer, Salvin. The Taking of Hostages. Р. 22. Авторы ссылаются в качестве доказательство на: Morgan J. H. The German War Book, being «The Usages of War on Land» issued by the Great General Staff of the German Army. London, 1915. Р. 119.]. В мирное время этим занимались преимущественно частные лица, которые путем взятия заложников пытались вымогать шкуры или другой выкуп. Английские или французские купцы в Африке также часто прибегали к частноправовому договору о заложниках, чтобы использовать их в качестве гарантии или залога при торговых сделках либо для обеспечения долгов при штрафах, в азартных играх или пари[265 - Pawn – английский термин для обозначения заложников, которые выступали в качестве гаранта в гражданско-правовых договорах в торговле и на невольничьем рынке (или pawnship — заложничество). Lovejoy, Falola (Ed.). Pawnship; Lovejoy, Richardson. The Business of Slaving. Р. 67–89. – Помимо этого, в контексте африканских колоний существовала практика взятия в плен или похищения (panyarring) на короткое время человека, который являлся членом общины, к которой принадлежал должник или убийца, чтобы принудить к одному конкретному действию (например, вымогательство ценностей, уплата долгов) или для краткосрочного наказания (после убийства). Английские и американские купцы применяли эту практику, которая, вероятно, была знакома им из африканского контекста, на берегах Северной Америки, захватывая коренных жителей и принуждая автохтонное население к отдаче шкур животных. Gibson. Otter Skins, Boston Ships, and China Goods. Р. 160–161; Гринев. Туземцы-аманаты в Русской Америке. С. 136. – Однако эту практику (по-русски «полон») следует отличать от российского заложничества («аманатство»).].
Тем не менее ни в одной из западноевропейских колониальных империй раннего Нового времени, располагавших заморскими колониями, «добровольно» заключенные договоры о заложниках или основанное на международном праве одностороннее (насильственное) взятие заложников в мирное время не служили систематическим средством содействия имперской экспансии и обеспечения насильственно-военных претензий расширяющегося государства. В континентальной Османской империи ситуация была иной. Не позднее XV века удержание заложников происходило здесь на регулярной основе[266 - Pollock. «Thus We Shall Have Their Loyalty». Р. 144.]. Могущественные султаны на протяжении двух столетий выступали в качестве господ по отношению к заложникам – сыновьям правителей из многих покоренных ими стран, которых они на протяжении долгого времени держали в зависимости. К ним принадлежал, например, знаменитый сын валашского господаря Влада Дракулы, граф Дракула (Vlad Draculea), который с 9 до 17 лет удерживался в качестве «человеческого залога», вероятно, временами в крепости, временами при дворе османского султана. После смерти его отца султан объявил его наследником престола Валахии[267 - Местонахождение Дракулы во время его пребывания в заложниках не совсем ясно. Хайко Хауманн изначально предполагает, что он получил образование при дворе султана, но в другом месте упоминает, что его точное местонахождение неизвестно. Другие источники указывают Эгерскую крепость, где он, по крайней мере временно, находился в заключении. Haumann. Dracula. S. 17 f., 22; Klell, Deutsch. Dracula; Treptow. Vlad III. Dracula.]. Эта процедура была типичной для османского обеспечения власти. В случае с Крымом, завоеванным в 1478 году, султаны пытались с помощью заложников, большинство из которых являлись братьями крымского хана, повлиять на вопрос о том, кто должен быть избран наследником престола вассального ханства[268 - Греков. К вопросу о характере политического сотрудничества; Bennigsen, Lemercier-Quelquejay. Le khanat de Crimеe; Pollock. «Thus We Shall Have Their Loyalty». Р. 144; Fisher. The Russian Annexation of the Crimea. Р. 6.].
Однако с падением Османской империи в XVII и XVIII веках и потерей многочисленных территорий удержание заложников становилось все менее важным. В последний раз оно имело место после недолговечного триумфа османов над русскими в результате поражения последних в 1711 году на реке Прут, когда султану удалось получить в заложники Михаила, сына русского фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, и дипломата и доверенное лицо царя Петра Павловича Шафирова (1670–1739), в качестве гарантии заключенного мирного договора, однако лишь на короткое время[269 - Журналы и камер-фурьерские журналы 1695–1774 гг. СПб., 1853–1864, здесь – 1711 год. С. 74; Шафиров смог уже в 1714 году вернуться в Россию. Лихач. Шафиров. С. 42–43.]. Российское государство вследствие усиления своей власти во внешнеполитическом контексте больше уже не видело себя в роли того, кто предоставляет заложников, но исключительно в роли того, кто их берет.
В противовес снижающейся значимости взятия заложников в западноевропейских и Османской империях, в российском государстве с конца XVI века значение заложничества неуклонно возрастало. В XVII и особенно в XVIII веке в контексте российской экспансии и укрепления власти взятие заложников приобрело наибольшее значение. Различие, проведенное Асканом Луттеротом между предоставлением заложников, регулируемым договором, с одной стороны, и их насильственным захватом, с другой, в российском случае бесполезно. Хотя, за единственным исключением в конце XVIII века, речь всегда шла об одностороннем взятии заложников, границы между их «мирным» предоставлением по соглашению и захватом силой или под угрозой применения силы были подвижны.
Вместе с тем можно говорить о «градиенте насилия» с востока на юг: в то время как взятие заложников на Северном Кавказе и в Южных степях, несмотря на элементы принуждения и насилия, как правило, с обеих сторон встречало понимание и часто сопровождалось своеобразным договором о заложниках, взятие заложников в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в северной части Тихого океана и на Аляске почти всегда основывалось на открытом применении силы. Выражаясь современным языком, это можно было бы обозначить как «организованное на государственном уровне похищение людей»[270 - Гринев. Туземцы-аманаты в Русской Америке. С. 129.] и этим провести очевидные связи между понятием заложника раннего Нового времени и тем же явлением конца ХX века, террористический вариант которого в 1979 году был объявлен вне закона в Международной конвенции о борьбе с захватом заложников[271 - Kosto. Hostages in the Middle Ages. Р. 4–5.]. Однако значительные семантические различия между понятиями «заложник» конца ХX века и раннего Нового времени намного перевешивают терминологическую идентичность.
Несмотря на значение для российской империи заложничества как инструмента экспансии, методы взятия и удержания заложников до сих пор мало изучены в историографии российского государства[272 - Только после распада Советского Союза историки «обнаружили» тему заложничества, но либо рассматривали ее не как основную тему и только с точки зрения региональной специфики, либо ограничивали ее рассмотрение несколькими страницами. Тхамоков. К вопросу о роли системы аманатства; Khodarkovsky. Russia’s Steppe Frontier. Р. 56–60; Гринев. Туземцы-аманаты в Русской Америке; Асфандияров. Институт аманатства в Башкирии; Торопицын. Институт аманатства; Зуев. «Аманатов дать по их вере грех»; Озова. Институт аманатства в Кабарде; Pollock. «Thus We Shall Have Their Loyalty». – Незадолго до выхода в свет данной книги автор узнала о недавно опубликованной статье: Rusakovskiy. Geiselstellungen an den Russischen Kulturgrenzen in der Fr?hen Neuzeit. Материал данной статьи, затрагивающий несколько российских периферий и сосредоточенный преимущественно на XVII веке, не учтен в данной книге.]. Очевидно, что гетерогенность имперских периферий царства привела к тому, что удержание заложников не рассматривалось как один из наиболее трансрегионально значимых российских методов имперской экспансии и стабилизации господства на юге и востоке[273 - В обзорных работах Диттмара Дальмана о Сибири и А. Каппелера и Нэнси Коллманн об истории Российской империи эта практика упоминается, но не получает особого внимания в качестве важнейшего инструмента российской имперской экспансии и консолидации власти. Dahlmann. Sibirien, например, Р. 78, 83, 90; Каппелер. Россия – многонациональная империя. С. 33–34, 39; Kollmann. The Russian Empire. Р. 63, 70.]. Тот факт, что сегодня доступны лишь малочисленные преимущественно связанные с региональной спецификой исследования, чреват тем, что этот феномен в целом окажется недооцененным[274 - Поллок определяет российскую форму практики заложничества как «дипломатическое взятие заложников». Однако при этом он оценивает данный феномен в его северокавказском проявлении. Pollock. «Thus We Shall Have Their Loyalty». Р. 139.].
3.2. МОНГОЛЬСКИЙ ТРАНСФЕР? СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПРАКТИКА ЗАЛОЖНИЧЕСТВА В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ