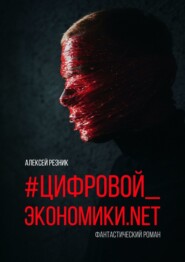
Полная версия:
#Цифровой_экономики.NET
Борис Дмитриевич, как раз подошел к этой «вешалке» и остановился, задумчиво глядя на меня.
– Борис Дмитриевич – что-то не так?! – не знаю, почему, вдруг, но мне сделалось немного «не по себе», словно бы я ожидал какой-нибудь дикой и страшной выходки от, хорошо знакомого мне с раннего детства, «дяди Бори», ныне являвшегося моим научным руководителем, доктором технических наук, заведующим кафедрой «Информационные системы».
– Саша, ты сейчас не пугайся – я тебе кое-что покажу! – как можно более спокойным голосом произнес Борис Дмитриевич и неуловимым движением потянул за какую-то веревочку, отчего «брезентовое» покрывало, издавая тихий шорох, сползло с «вешалки», и я увидел, что это была ни какая ни «вешалка», а стояла передо мной непонятная статуя, изображавшая неизвестного человека в человеческий же рост. Растительный аромат резко усилился, и я понял, что аромат этот испускала загадочная скульптура. Положа руку на сердце, следует сразу оговориться, что глазам моим предстало нечто среднее между скульптурой, несомненно изваянной руками человека и естественной растительной формой – деревом с «глазами и руками».
Хоть и предупреждал меня Борис Дмитриевич, чтобы я «не пугался», я все же не мог не вздрогнуть, столкнувшись взглядом с «глазами» «статуи» – «глаза» мне показались совершенно живыми и осмысленными, что красноречиво доказывало, прежде всего, гениальность неизвестного ваятеля, создавшего эту скульптуру из цельного куска светло-золотистой древесины какого-то безумно дорогого сорта дерева. Две руки-«ветви» статуи-«дерева» были широко расставлены в стороны, символизируя, видимо, «широко распахнутые дружеские объятия». На окончаниях кистей-«сучьев» висело по большой увесистой шиш, каждая из которых сильно смахивала на, на хорошо известные мне «кедровые шишки», наполненные мелкими орешками, заключавшими в своих скорлупках нежные вкусные ядрышки съедобных зерен.
Я не был ботаником, но хорошо знал, что растут в мире деревья, чья древесина испускает свой собственный аромат, но никогда не слышал о деревьях, силуэты чьих стволов так сильно бы напоминали человеческие фигуры. И я, кажется, начал понимать, по какой причине «БД» никого не хотел впускать внутрь этой своей «тайной лаборатории» – ему, действительно, было, что скрывать от глаз, психологически неподготовленных к подобным зрелищам, и, к тому же, не умеющих «держать язык за зубами», коллег по работе!
– Что это, Борис Дмитриевич?! – выдавил из себя я, не в силах справиться с нарастающим изумлением, грозившим перейти в полный «психологический ступор».
– Это, Игиг или ИИ – «младший брат верховного шумерского Бога Мардука». По древним шумерским преданиям, статуи Игига ставились-«высаживались» у входа в древние шумерские храмы-зиккураты.
Статуи эти изготавливались-«произрастали» из редкого сорта деревьев, являвшихся дальними сородичами «ливанского кедра» – древние шумеры называли их «деревом жизни» и об этом мне подробно поведал профессор Норбук.
Не знаю, известно тебе или нет, но главный герой самого древнего литературного художественного произведения на Земле, легендарный шумерский царь Гильгамеш пытался найти «эликсир бессмертия», а эликсир этот можно было получить только из древесины «священных кедров», охраняемых на заколдованном острове злым демоном Хумбабой. Как видишь, человечество, даже на самой заре цивилизации волновала, главным образом, лишь одна проблема – проблема человеческого бессмертия!
Все высшие шумерские жрецы были отличными математиками, и изображения Игига вдохновляли их на новые научные подвиги в области математики – наиболее таинственной и непознанной из всех человеческих наук.
Мне этого Игига подарили иракские коллеги. Вернее – один коллега, некто Муххамед Норбук, профессор математики Багдадского Университета.
Это, конечно, копия, но очень хорошая копия с настоящего Игига, оригиналы которых, безусловно, никак не могли сохраниться за пять прошедших тысячелетий, как и сам Древний Шумер.
Я тебе, Саша, не буду рассказывать во всех деталях, кто такой, на самом деле, этот профессор Норбук, где и как, и при каких обстоятельствах мне пришлось с ним познакомиться, но, так уж получилось, что я спас жизнь профессору, и за это он подарил мне вот этого Игига, объяснив, что другим способом не сумеет выразить мне свою глубокую благодарность за, спасенную ему жизнь.
Этот Игиг достался Норбуку от отца, а отцу – от деда, а деду – от его отца, ну и так далее. Семейка эта, вообще, конечно, странная и, более чем, самобытная, но он так настаивал с этим Игигом, что я не мог отказать профессору, чтобы кровно не обидеть его. Он меня твердо заверил, что этот ИИ принесет мне огромную удачу и поможет сделать какое-то крупное научное открытие, если не мне, то моему самому талантливому ученику. Единственным условием профессор Норбук поставил мне то, чтобы я никому не показывал раньше времени этого Игига никому другому, кроме того, самого «талантливого ученика». Вот настал момент, и я решил показать Игига тебе! Или – наоборот!
– В каком смысле – наоборот?! – не понял я.
– Ну, показать не Игига тебе, а тебя – Игигу!
– Простите, Борис Дмитриевич, но это – какая-то чертовщина! – не сдержался я, и высказал то, что думал.
– Саша, я не сошел с ума – так что ты не «кипятись» раньше времени! – очень рассудительно произнес Борис Дмитриевич, глядя на меня мудрым взглядом. – У ИИ есть другое имя или его материальное воплощение – «Лунный Жрец». Об этом, втором имени, сообщил мне под большим секретом все тот же профессор Норбук во время нашего прощального с ним ужина, состоявшегося накануне моего отлета в Москву.
Я же тебе объяснил, что Игиг считался младшим братом Великого Мардука, шумерского ПервоБога, создавшего человечество и, подарившего людям много знаний, необходимых им для построения своей счастливой жизни. Среди знаний, которые подарил людям Бог Мардук, важнейшими оказались письменность и математика. Благодаря алфавиту и числам люди начали накапливать информацию, и постепенное накопление универсальной информации, спустя пятьдесят веков, привело к возникновению прикладной науки, название которой – Информационные Технологии.
Так что, Саша, ты видишь сейчас перед собой нашего общего «научного прародителя» и отнесись к нему с подобающим уважением – вполне возможно, что в этой деревянной статуе заключен Дух Игига, и, однажды… – Борис Дмитриевич раздумал продолжать и накрыл деревянного Игига «брезентовым покрывалом», добавив: – Пусть пока отдыхает – мне почему-то с некоторых пор стало казаться, что он не любит яркого неонового освещения!
– Что – однажды, Борис Дмитриевич?! Вы не договорили, прервавшись на самом интересном месте!
– Если я договорю, что произойдет «однажды», то ты, Саша, точно тогда укрепишься в мысли, что я свихнулся в той давней Иракской командировке и все эти годы скрывал от окружающих, свое, глубоко замаскированное, безумие! – объяснил мне Борис Дмитриевич и добавил. – Это «однажды» когда-нибудь наступит для тебя, Саша и ты поймешь, что я имел ввиду! А, сейчас, за поздним временем, распрощаемся – я надеюсь, что ты не расскажешь никому о ИИ – Игиге, даже своему отцу, иначе волшебства не случится… если я нарушу обещание, данное профессору Норбуку.
– Можете положиться на меня, Борис Дмитриевич! – твердо заверил я своего научного руководителя и для пущей убедительности приложил ладонь правой руки к сердцу, но, тут же задал вопрос, подспудно начавший мучить меня с самого начала этого «смутного и чудного» разговора: – А, как вам, Борис Дмитриевич удалось провезти через границу такую большую статую, и как, потом вы сумели пронести ее совершенно незамеченной в наш Полутех, и – на нашу кафедру?! Как было возможно произвести все эти действия незамеченными для окружающих?!
– Я же тебе сказал, Саша, что этот Игиг сделан из древесины «живого», так называемого, «квантового дерева», и, когда мне его подарили в Ираке, он был совсем маленьким – всего лишь восемнадцать сантиметров высотой… – «БД» вдруг сделал неожиданную паузу и посмотрел на меня с заметно изменившимся выражением в глазах, сути какового я сразу-то и не понял.
Несколько секунд помолчав, «БД» произнес мне с такой интонацией, как, если бы выдавал важнейшую государственную тайну, на чье разглашение не имел никакого права:
– Знаешь, Саша – когда ты только-только зашел в эту лабораторию, то я еще не был уверен в том, что сумею рассказать тебе всю правду о той своей достопамятной командировке в Ирак и – о всех ее, далеко идущих последствиях. Но сейчас мне стало ясно, что, сказавши: «А», мне придется сказать и: «Б»! Поэтому я и расскажу тебе все, как оно было в Ираке на самом деле – не под «протокол»! А дальше, Саша уже будет твое дело – поверишь ты мне или не поверишь?! О нежелательности разглашения информации, которую ты сейчас услышишь в качестве моего «Альфа-ученика» – «ученика Чародея», я считаю тебя излишним тебя предупреждать, как умного, порядочного и хорошо воспитанного человека. В общем, слушай меня очень внимательно, ничего не записывай, но все запоминай!
Этот Мухаммед Норбук, как я уже успел тебе сообщить, человек очень непростой! И познакомились мы с ним вроде бы случайно, но в случайности этой мне сразу же почудилась некая предопределенность, не то, чтобы эта предопределенность оказалась навязанной «свыше», но – близко к этому.
Ты слышал когда-нибудь словосочетание: «халдейские мудрецы»?!
– Ну, слышал, конечно! – кивнул я и добавил: – Что-то очень древнее и невероятно «мудрое»! Но, больше, как-то мне это словосочетание всегда казалось нарицательным и не совсем серьезным понятием – чем-то, вроде, отмершего и никому не нужного «архаизма»!
– Да нет, Саша – вот здесь ты немножко неправ! – твердо возразил мне «БД». – «халдейские мудрецы», это – очень серьезно! Они существуют до сих пор! И, с одним-то из них, с профессором математики Багдадского Университета, Мухаммедом Нурбаком мне и «посчастливилось» познакомиться в Ираке. Его полное имя – Уцин Мухаммед Нурбок Бит-Дакури, и он – из очень древнего, богатого и могущественного клана иракской элиты!
У почетного наименования «халдей», благодаря многовековым наслоениям и искажениям истинного значения этого слова, появилось, как ты верно подметил, немало нарицательных и негативных синонимов, не имеющим ни малейшего отношения к истинным «халдейским мудрецам», являющимися прямыми наследниками знаний самых первых математиков цивилизованного человеческого мира – древнешумерских жрецов.
Знаешь, в чем заключается главная заслуга истинных «халдейских мудрецов» перед всем человечеством?!
– В чем?!
– Они первыми в мире научным математическим путем доказали существование «бессмертия человеческой души»!
– Впервые слышу об этом, Борис Дмитриевич! Да и, мне всегда казалось, что сам термин «бессмертная душа» является прерогативой христианских богословов, а – не «халдейских математиков»! Но недаром же говорят: «Век живи – век учись!».
– Вот и учись, Саша, пока есть у кого, пока я – живой! Мухаммед Нурбок, как ты, наверняка, уже догадался, прямым потомком самых, что ни на есть настоящих «халдейских мудрецов» – «мудрецов от божественной математики»!
Когда мы с ним познакомились, он продолжал напряженно работать в стратегическом направлении дальнейшего совершенствования незаконченных расчетов своих прямых уважаемых предков над пресловутой проблемой «человеческого бессмертия». И вот, именно, представитель древнейшего халдейского рода, Уцин Бит-Дакури и подарил мне этого Игига, который был и, вправду, всего лишь, восемнадцать сантиметров в высоту, почему я и сумел провезти его незамеченным из Ирака в Москву.
Он выглядел совсем не так, как ты себе, наверное, уже его представил – не маленькой копией вот этого «человека-дерева», Игига, которого ты сейчас имеешь удовольствие лицезреть перед собой.
Уцин Бит-Дакури, соблюдая все возможные предосторожности, чтобы не дай Бог, кто-нибудь стал невольным и нежелательным свидетелем этой «исторической» «передачи из рук в руки», торжественно «всучил» мне пластиковый цилиндр, наполненный специальным физиологическим раствором – «чудодейственным священным бальзамом». Цилиндр имел длину восемнадцать сантиметров и внутри цилиндра, в толще вышеупомянутого физиологического раствора плавала «кедровая шишка».
Как выяснилось, это была не совсем обычная «кедровая шишка» – профессор Норбук, без каких-либо намеков на неуместный юмор, разъяснил мне, что в цилиндре хранятся семена «священного кедра», произраставшего когда-то на мифическом острове Хабах, о котором упоминается в древне-шумерском эпосе «Гильгамеш».
И далее мой фантастический иракский друг доходчиво разъяснил мне, что эту «шишку» нужно будет обязательно посадить в, так называемую почву Чистых Земель, потому что ни на какой другой почве семена «священного кедра бессмертия» не смогут дать всходов!
И, предупреждая всем дальнейшие естественные расспросы, Уцин Бит-Дакури дал мне один адрес в Москве, по которому я должен буду обязательно разыскать тибетского монаха религиозно-философской традиции Бон по имени Ринчен Тензин, который и является тайным хранителем священной почвы «Чистых Земель».
– И вы нашли этого монаха?!
– Да, нашел! – задумчиво кивнул Борис Дмитриевич и заговорил дальше почему-то немного нервно: – Получилось все, как в лихо закрученном полуфантастическом детективе!
Ты пойми меня правильно, Саша – времена то тогда были суровыми, советскими, идеологически выдержанными, а я, как раз, так уж со мной приключилось, невольно «с головой» влез в «махрово-оголтелую», как любили выражаться тогда наши партийные идеологи, самую, что ни на сеть, настоящую «дурманно-религиозную антисоветчину», почему мне и пришлось столько лет «держать язык за зубами» и, не дай Бог, случайно кому-нибудь проговориться!
Скажу сразу, что тибетец этот отнесся к моему визиту и к моей просьбе очень серьезно и с полным пониманием. И, уже на следующий день после моего посещения «Клиники тибетской медицины» в районе станции метро «Смоленская», я высадил «шишку священного кедра» в десятилитровое пластиковое ведро, предварительно заполненное «священной почвой» «Чистых Земель». Я вылил туда, в «Чистые Земли» и «физиологический раствор», который мой иракский «визави» почему-то упорно называл «кровью Хумбаба». Еще там, в Ираке, профессор Нурбок объяснил мне, что это – питательная субстанция, необходимая для семян «священного кедра» на первичном этапе его «поступательного развития»… Спустя пять суток после «посадки», семена «священного кедра» дали «первые ростки».
И, за шестнадцать прошедших с того момента, лет. Он так вот сильно вырос – дерево то, из которого он сделан, является живым, а все «живое», как тебе хорошо известно, имеет склонность к постоянному росту.
Профессор Норбук объяснил мне подробно, как правильно ухаживать за маленьким Игигом, чтобы он вырос, достигнув нужных размеров, и без сомнения стал бы полезен живым людям, вроде нас с тобой!
Я поливал его, едва-едва проклюнувшиеся слабые росточки каждую ночь, когда на небе сияла полная луна – ростки семян «священного кедра» можно и нужно было поливать только при свете полной луны. И вода, используемая для полива этих семян, тоже была непростой. Я постоянно набирал в православном храме «освященную» воду и в ночи полнолуния выставлял трехлитровые стеклянные банки полные этой воды на подоконники своих квартирных окон. Спустя десять «ночей полнолуния» вода оказывалась «готова» для «полива».
Так что, Саша – здесь нет никакой мистики, а – один сплошной, сугубо научный, «математический» подход! Я имею ввиду «математический подход» под специфическим углом зрения на математику «халдейских мудрецов». Недаром же говорят, что математика – самая таинственная из всех человеческих наук, и автор «Алисы в стране чудес», Льюис Кэррол был, прежде всего, великим математиком, а потом, уже – поэтом!..
Борис Дмитриевич умолк и какое-то время мы сидели совершенно молча, и я поочередно рассматривал ошарашенным взглядом то «дерево-статую» – Игига, то самого Бориса Дмитриевича, казавшимся мне в те незабываемые минуты таким же необычным существом, как и сам вот этот Игиг, «выращенный» неустанными «садоводческо-огородническими» заботами моего научного руководителя.
Сколько минут мы просидели в оцепенелом молчании. Я точно не помню, но в какой-то момент я, все-таки, нашел в себе силы задать самый насущный, из всех возможных, вопрос своему наставнику:
– А, все же, Борис Дмитриевич – что он, все-таки, такое, этот Игиг, и почему, и зачем вы все это показали не кому-нибудь, а именно – мне?!
– Ты, наверное, не совсем внимательно меня слушал, Саша! – с легкой укоризненной улыбкой ответил «БД». – Как я тебе уже объяснил по ходу своего рассказа, моя встреча с настоящим «халдейским мудрецом» не явилась случайностью! И. наверняка, не случайно, профессор Нурбок попросил меня открыть, доверенную мне тайну – «семена Древних Знаний» только самому талантливому своему ученику, который использовал бы эти знания по нужному назначению! И на этом, Саша, мы сегодня пока закончим, а у меня к тебе большая просьба – постарайся до поры до времени забыть все, что ты здесь увидел и услышал! Можешь ты пообещать мне это, как мужчина мужчине?!
– Обещаю, Борис Дмитриевич! – твердо заверил я «БД» и не смог не добавить: – если бы, даже. Я вздумал бы кому-нибудь рассказать про «Игига» и про весь сегодняшний вечер, то, в лучшем случае, мне бы не поверили, а в худшем – вызвали бы «психушку»! Разве я не прав, Борис Дмитриевич?!
– Прав, конечно! – без особого энтузиазма в голосе согласился со мной Борис Дмитриевич и во взгляде его я неожиданно увидел выражение сильной озабоченности или, может, даже, самой настоящей тревоги, которой еще секунду назад там не наблюдалось и в «помине».
– Что-то не так, Борис Дмитриевич?! – уточнил я, повнимательнее глянув на «засмуревшего» «БД».
– Все может оказаться очень опасным и непредсказуемым, Саша…, – как-то неопределенно объяснил он изменение собственного настроения в худшую сторону. – Впредь необходимо быть предельно осторожным и мне, и – тебе! Никому и никогда не говори про Игига – никому и никогда!!!
Я ничего не сказал больше ему, так, как и без лишних слов все очень хорошо понял и, спустя минуту, мы распрощались, крепко пожав друг другу руки…
…Больше за все время обучения в Университете, мы ни разу не заговаривали с Борисом Дмитриевичем о таинственном Игиге, и, с того памятного сентябрьского вечера, Борис Дмитриевич ни разу не приглашал меня посетить свою «тайную лабораторию».
Я постарался поскорее «забыть» об Игиге, как и пообещал Павлову, и весь, «целиком», «погрузился» в интереснейшую учебу, пытаясь с максимальной добросовестностью и тщанием постигнуть все тайны информационных технологий…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Окончание Университета. «Причащение к Ай-Ти»
Мир Информационных Технологий (ИТ или «Ай-Ти») являлся в моем представлении свежерожденным «мировым разумом» уникальной замкнутой вселенной, внутри которой я чувствовал себя, как «рыба в воде», купаясь в родной стихии маниакальной одержимости фаната «Ай-Ти», устремленной безостановочно двигать вперед и вперед человеческий прогресс. Я нисколько не сомневался в те, свои счастливые безоблачные студенческие годы, что стану специалистом высочайшего класса в столь нужной людям профессии, призванной заметно облегчать их труд и, говоря, протокольным языком «материалов» Партсъездов, «канувших в Лету», «всемерно повышать материальное благосостояние населения нашей страны».
«Каждый человек должен быть на своем месте!» – неукоснительное соблюдение этого правила, исходя из законов банальной формальной логики, должно было бы безвариантно обеспечивать стабильность любого человеческого сообщества, консолидированного по территориальному и национальному признаку, в совокупности своей представляющей сложное многоплановое и многослойное социально-экономическое объединение под названием «государство». Я оказался настоящим «счастливчиком», потому что в очень, фактически, раннем возрасте, без каких бы то ни было долговременных колебаний, нашел то самое заветное «свое место», как в своей собственной жизни, так и в моем родном российском человеческом обществе.
Когда я защищал диплом и выпускался из своего «альма-матер», у меня не возникало и тени сомнения в том, что я окажусь востребованным гражданином России, и до последнего вздоха буду плодотворно трудиться на благо и процветание своей великой Родины! Мои родители в день получения мною «красного» диплома – «диплома с отличием» гордились по праву мною и были счастливы от одной только мысли, что их сын вырос достойным и полностью состоявшимся человеком. А я, в свою очередь, радовался за своих родителей, что оправдал их самые смелые чаяния и надежды! После выпускного вечера в университете меня ждала интересная работа и настоящее человеческое счастье во всем многогранном и глубоком смысле этого светлого слова!
Как один из самых (без всякой ложной скромности и преувеличения) способных выпускников своего курса я без проблем и проволочек, после экстерном сданных кандидатских минимумов, был принят в аспирантуру по соответствующей специальности по инициативе моего научного руководителя, доктора технических наук, профессора Павлова Бориса Дмитриевича.
Борис Дмитриевич был талантливым ученым и мудрым педагогом, оказавшим мне неоценимую помощь в начале моего научно-производственного пути и, именно, благодаря его умелому наставничеству я стал тем, кем являюсь в настоящее время – руководителем одной из самых передовых фирм России, занимающейся разработкой и внедрением новейших ИТ-технологий и систем в различные отрасли экономики своей великой Родины.
В момент начала моей учебы в аспирантуре в Твери у меня еще, естественно, и мыслей никаких не возникало о Москве и о том, что я когда-нибудь буду там не только жить и работать, но и возглавлять весьма успешную коммерческую ИТ-компанию.
Сразу после поступления в аспирантуру, я, естественно, как и любой добросовестный аспирант был «заточен» в основном на работу над избранной мною темой будущей кандидатской диссертации, и задача эта являлась для меня на тот период жизни самой сложной и важной.
Я был полон новаторскими идеями, которые мне не терпелось поскорее внедрить на практике, доказав, тем самым, верность своих теоретических выводов, блестяще подтвердившихся бы на практике. Другими словами, я занимался эффективной научно-изыскательской деятельностью по направлению: «анализ и выбор рациональной структуры региональных распределенных сетей передачи, обработки и хранения данных». У меня все получалось, чтобы я ни задумывал, и я чувствовал себя невероятно способным и прилежным, очень перспективным «учеником чародея», и жизнь моя казалась мне «прекрасной и удивительной» и все ее будущие дали были раскрашены, исключительно, в «голубые и розовые» тона! Ничто, казалось, никакая сила в мире не могла бы сбить меня с задуманного курса, во всяком случае – на три, четко распланированных года учебы в аспирантуре. Да и, спустя ближайшие годы, после окончания аспирантуры, трезво оценивая свои способности и уровень профессиональной подготовки, я, в принципе, не мог разглядеть каких-нибудь «подводных камней» в плавном, трезво спрогнозированном, течении моей будущей научно-производственной жизни.
Вспоминая годы обучения в аспирантуре на своей родной кафедре, я опять же не могу не упомянуть добрым словом Бориса Дмитриевича Павлова, который в самом начале трехлетнего обучения в аспирантуре предложил мне и моему товарищу по учебе работу в Администрации Тверской области.
Вообще, могу сказать, что с наставником мне очень и очень повезло – помимо вышеупомянутых мною качеств, какими обладал Борис Дмитриевич, в нем, в его непередаваемом умении обращаться с людьми, особенно, со своими учениками, на которых он возлагал определенные надежды, имелось одно ценнейшее свойство – приберегать на крайний случай стратегический интеллектуальный резерв. Он никогда не торопился выкладывать все, что у него имелось за душой и, что он хранил «себе на уме» (в хорошем, добром и полезном смыслах этого расхожего выражения). В частности, про возможность устроить меня в Администрацию Тверской области, «под крылышко» самому Губернатору, Борис Дмитриевич сказал мне далеко не сразу. Видимо, умудренный опытом прожитых лет, он долго все взвешивал «за и против», стараясь учесть все многообразие, как, безусловно, положительных факторов, так и несомненных замаскированных опасностей, поджидающих неискушенного во многих житейских вопросах, молодого, хотя и очень одаренного специалиста, попадающего сразу в «высшую лигу». А, еще, он ни разу за прошедшие три года не упомянул в разговорах со мной, того самого Игига (ИИ) или его материального воплощения – «Лунного Жреца», который, по словам Бориса Дмитриевича, сказанным три года назад тем памятным «полусумасшедшим» сентябрьским вечером, что, однажды ИИ поможет мне сделать некое научное открытие мирового масштаба. Но, как выяснилось, не упоминал мой научный руководитель Игига («Лунного Жреца») не случайно…



