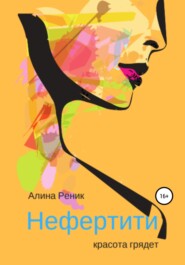скачать книгу бесплатно
«Ничего плохого не случится, я только узнаю, что готовят мне боги», – подумала она. Самый главный вопрос, что терзал и разъедал её душу, как ржавчина разъедает такой дорогой материал, как железо[18 - Железо в период восемнадцатой династии – очень дорогой материал.], – родит ли она сына, наследника. Без него её власть по праву первой жены эфемерна, и в любой момент любая из жён может стать первой. Стоит только фараону, Божественному Аменхотепу, погладить по голове кого-нибудь из отпрысков и сказать: «Ты мой наследник, и твоя мать первая в моём доме».
Но даже не этого боялась Нефертити. Она боялась умереть безвестной, как её мать, где-то в гареме, никому не нужная и всеми забытая. Нефертити хотелось, чтобы её земной путь был красивым и полным, хотелось любить и быть любимой, и тогда жизнь после ухода в царство Осириса будет такой же сладостной и значимой. А ещё она мечтала, чтобы о ней помнили и говорили с восхищением, как о Хатшепсут, которая была не просто фараоном-женщиной, а властителем Великого Египта целых двадцать лет! Нефертити всегда с лёгкой тенью зависти думала о Хатшепсут, которая оставила своим потомкам сильное государство, раскинувшееся «от края до края земли её». Хатшепсут строила храмы и стелы, и теперь её имя ежедневно проговаривалось жрицами в этих храмах и устремлялось в вечность. Но Нефертити знала – она хрупка, слаба духом и подобные деяния не для неё.
«Произнеси моё имя, и я буду жить вечно, – часто шептала Нефертити старую истину и всегда после этих слов печально добавляла, – но кто же будет произносить моё имя, если я умру в безвестности?»
Поэтому Нефертити давно решила: главное – любить и услаждать мужа так, чтобы никто не смог занять её место. И она должна оправдать надежды Аменхотепа – она должна подарить ему сына. Должна!
* * *
– Как зовут тебя, прелестное дитя? Но если не хочешь, чтоб я знала твоё имя, не говори, – произнесла гадалка. Голос был низким, но приятным. Она посмотрела на Нефертити взглядом всё понимающего человека. – Что привело тебя ко мне, любимый заставил плакать тебя и не спать всю ночь?
– Нет. Всё хорошо. Муж любит меня. Но мне бы хотелось узнать, что ждёт меня в этом мире? Будут ли боги добры ко мне и подарят ли мне сына. Я очень его жду, от него многое зависит в моей жизни!
– И не только в твоей, о приятная голосом, – сказала женщина, пристально вглядываясь в Нефертити. – Судьба многих людей, близких тебе и далёких, и твоя жизнь зависит от этой крохи, которую ты носишь сейчас под сердцем!
Брови Нефертити удивлённо поднялись, а гадалка спокойно продолжала:
– Не пугайся, дитя. Да, ты носишь ребёнка, и надеждам твоим не суждено сбыться – это девочка! – Нефертити вздрогнула, мороз пробежал по коже, словно она услышала страшный приговор, словно зияющая бездна разверзлась, и она на краю этой бездны.
– Но! – продолжала гадалка, будто не замечая её состояния. – Она будет так прекрасна и так любима своим отцом, что все твои страхи развеются, и ты никогда не пожалеешь, что носила под сердцем эту кроху. А надо сказать, красавица будет удивительная! – Гадалка улыбнулась. – Ни одно дитя не займёт в твоей жизни большего места, чем эта малютка. И хоть жизненный путь она пройдёт небольшой, но он будет полон таких радостей и горестей, каких иные не испытывают за целые столетия. Благословенное рождение, безмятежное детство, раннее замужество, раннее вдовство, и неожиданная прекрасная любовь, какой ещё не было в этом мире! Предательство, горе, отчаянье и третий муж, но это, скорей будет бегство от судьбы, чем любовь. Муж-отец, муж-брат, муж-слуга, а потом забвение на долгие, долгие годы…
Увидев, как изменилась в лице сидящая перед ней женщина, гадалка не прервала свою речь, а, лишь помолчав, добавила:
– Но не печалься, её имя после долгого небытия вспыхнет яркой звездочкой, его будут произносить, лаская слух богам, и оно останется в веках! Её будут помнить, пока солнце сияет на небосклоне.
– Ты говоришь о том, о чём я не просила! Откуда ты знаешь, что я жду ребёнка? Я сама в этом ещё неуверена. – Нефертити нервно перебирала простенькие чётки сестры. – И разве можно предсказать судьбу не родившегося малыша? Только богам подвластна жизнь и смерть. Они ревностно хранят свои тайны и могут покарать меня за подобное любопытство!
– Могут! Если речь идёт о простом смертном, а не о равном богам. Твоя дочь трижды взойдёт на престол Гора как его жена. Но только второе восхождение даст ей истинное счастье и настоящую любовь, которую она будет оплакивать до конца своих дней… – гадалка не успела договорить, Нефертити побледнела, чётки выпал из рук…
Гадалка лишь успела подхватить обмякшее тело царицы.
– Ну вот, испугала бедняжку! – прокряхтел, вставая, старик-врачеватель. Он положил заскорузлую руку на шею «бедняжки». – Жива! И то хорошо, ведь недавняя красавица от твоих предсказаний, по-моему, и дня не протянула. Сколько тебе можно говорить: «Не пугай их правдой». Видишь, как плохо им от твоих слов? Придёт время, сами всё узнают. А то смотри, – он погрозил гадалке скрученным пальцем, – попадётся кто-нибудь из дома фараона и наговоришь ему правды, которой ему знать не захочется, тогда и тебя, и меня сожгут заживо, и развеют наш прах над Нилом, как было с Ментуии. Помнишь? А он, слепой дурак, всё себе усыпальницу готовил. Вечной жизни захотел! Саркофаг приобрёл, ну словно фараон. А где теперь его Ба[19 - Душа-проявление – птицей мент покидала гробницу и путешествовала по небесам, и в подземном царстве.] найдёт своего Ка[20 - «Двойник» – физическое проявление тела, обитал в гробнице.], а? – ворчал старик.
Он бережно приподнял голову красавицы и положил на подушечку, на которой до того сидел сам. Намочил льняной платок из стоявшего рядом кувшина, положил ей на лоб и стал обмахивать небольшим свитком папируса, на котором записывал обращения к богу врачей Хонсу.
– Кожа у неё, как лепесток лотоса, гладкая и прозрачная. Пальчики, как у младенца, такие нежные, наверное, никогда не знали никакой работы. А посмотри на эти волосы! Какой они красы – чистая тебе богиня! – не унимался старик.
Красивых дев в стране Кеми немало, но та, что лежала перед ним, была необычно красива. Нежный овал лица с точеным носиком, с большими миндалевидными глазами, над которыми птица Маат[21 - Богиня правды, изображалась птицей, раскинувшей свои крылья.] раскинула два своих смолёных крыла, и розовые губки чуть приоткрытого ротика обнажали два ряда белоснежных зубов. От неё исходил тончайший аромат юности и дорогих благовоний. Этот аромат кружил и дурманил старику голову, возвращая его в то далёкое время, когда он сам был молод и свеж.
– А запах! Запах, словно все лавки города открыли сосуды с благовониями, – прошептал он, глубоко вдыхая аромат молодости. – Смотри, она приходит в себя!
– Как ты себя чувствуешь, дитя? – спросила гадалка. Всё то время, пока старик корпел над красавицей, лечил и обмахивал её, дышал ею и выстраивал умозаключения, она молча наблюдала за ней. – Я напугала тебя?
– Нет! – пролепетала та, проводя рукой по лбу и убирая льняной платок. – Наверное, жара или мой обморок только подтверждает мои догадки и правоту твоих слов, умная женщина: я действительно жду ребёнка!
Нефертити не хотелось признаваться, что предсказания слишком напугали её. Откуда эта уличная гадалка могла знать, что её ребёнок, ещё не родившийся, равен богам, что его отец – сын Гора? Да и сами предсказания были нерадостны – надеждам вновь не суждено сбыться. Это очень напугало Нефертити, и ещё больше укрепило в желании узнать свою судьбу. «Может быть, сказанное гадалкой поможет мне в нелёгкой жизни в гареме, где плетутся бесконечные интриги, и каждый день можно ожидать яд в кувшине с водой, нож в спину, клевету соперниц или просто быть замурованной в лабиринте дворцовых коридоров, потайных ходов так, что никто и никогда даже при большом желании не найдёт меня там? Жизнь в гареме – опасна, а я любимая жена. Пока! Как долго продлится его любовь? Не появится ли более красивая?»
Да, она должна знать всё! Если знать, чего опасаться, всегда можно принять правильное решение или быть хотя бы на шаг впереди врагов.
Что суждено ей в этой жизни?
За жизнь в царстве Осириса она не страшилась. Нефертити знала, что к его трону её бессмертную душу поведёт Анубис – бог с телом человека и головой шакала. Он же взвесит её сердце на весах истины, скажет, чего она совершила больше – добрых или злых дел. А перед взвешиванием сердца она должна будет поклясться Осирису, что не совершала ни одного из сорока двух смертных грехов, и произнести: «Я чиста».
«Я чиста, я чиста! – твердила себе Нефертити, – я творю только добро, никому не желаю зла! Заступаюсь даже за самого большого грешника! Меня не сожрёт чудовище с головой крокодила! Нет! Мне позволено будет вступить на поля Иалу, где я буду вечно молодой и красивой. Это будет потом, а сейчас я должна знать всё и быть готовой ко всему, что мне предстоит в земной жизни».
– Погадай мне, пожалуйста, – попросила Нефертити, протягивая гадалке медный браслет со своей руки. – Что ждёт меня? Скажи всё, не тая, я ничего не боюсь.
– Я погадаю тебе с большой охотой…
Гадалка взяла карты Тота и попросила Нефертити сдвинуть левой рукой на себя любые семь дощечек. Царица с интересом и с затаённым страхом проделала этот несложный ритуал. Семь карт Тота теперь лежали перед ней, как семь предсказаний Хатхор, семь вестниц её жизни. Что скажут они? Откроют ли все тайны? Нефертити, затаив дыхание, вопросительно посмотрела на гадалку.
Та же, взяв первую карту, посмотрела на Нефертити, закрыла глаза и стала покачиваться из стороны в сторону, из груди её вырывались какие-то невнятные звуки, словно тростниковая дудочка играла у неё во чреве. Временами она открывала глаза, закатывала их и, вновь закрывая, продолжала сипеть всем телом. Нефертити с интересом наблюдала за происходящим. И вдруг гадалка пристально, не мигая, посмотрела на царицу так, что у той мороз пробежал по коже, и, положив, карту принялась вещать:
– Ты проживёшь долгую, очень долгую жизнь! Но карта противоречива, – она указала на изображение павиана в обрамлении ростков пшеницы. – Всё в твоей жизни переменчиво и непостоянно. Ничто в жизни не зависит от тебя, и хоть ты очень умна, но всегда стоишь второй и твоё слово говорится не твоими устами. Но пройдёт время, и ты, подобно ростку пшеницы, как Осирис, оживёшь с новой силой, которую уже нельзя будет остановить, и будешь первая в вечности! – Произнося это, гадалка заметила, как гордая улыбка промелькнула на лице красавицы. – Своему вознесению будешь обязана неожиданной любви, которая, как свежий северный ветерок, ворвётся в твою жизнь и наполнит её сладостными мгновениями счастья. Но берегись, деточка! Любовь может быть и испепеляющим ураганом, который пронесётся по твоей судьбе и доставит немало страданий!
«Правду говорит, – думала Нефертити. – Я вознеслась и приблизилась к богам благодаря любви ко мне Аменхотепа. Я вторая после него, и мои уста закрыты, а всё, что хочу сказать, шепчу ему на ушко ночью. Но почему она говорит, что любовь эта неожиданная и почему «испепеляющий ураган»? Наша любовь спокойна и в самом деле похожа на северный ветерок, что дремлет у порога, а просыпаясь, поёт нам сладкую песню любви. А когда же я оживу с новой силой… после смерти, что ли?»
Подобное не очень-то устраивало Нефертити. Она хотела всё сейчас, не откладывая на долгое счастье, в царстве Осириса.
– Эти зелёные ростки пшеницы указывают на то, – продолжала гадалка, – ты после своего воскрешения всегда будешь первая, и тот, о ком говорят: он бог, будет всего лишь твоим спутником жизни. Он прославится только тем, что был с тобой и следовал твоим советам!
«Да, он без меня как дитя», – задумалась над сказанным Нефертити.
Во многом из того, что говорила гадалка, угадывалась правда. Её муж и брат великий фараон Аменхотеп IV должен сказать «нет!» жрецам Амона, но медлит…
Жрецы Амона имеют всё, но требуют большего – они хотели бы видеть Египет подвластным только себе. Их уже не устраивают подарки в виде золотых колесниц или богатых усыпальниц, им нужны целые номы[22 - Провинции.]! Они повышают дань, «царские люди» работают на их полях в три раза большее, чем на полях самого фараона! Народ стонет и ропщет.
Прокормить и угодить только тем, кто обслуживает Амона, становится с каждым годом всё трудней, а с ними ещё несметные полчища жрецов других богов начиная от Исиды и заканчивая богами животных. Однажды Нефертити решила подсказать любимому мужу идею единобожия, как в других странах – соседях. Её прекрасная мысль долго не находила отклика в его сердце, но сами жрецы с каждым днем становились всё наглее – будто проверяли каждым своим шагом, каждым словом терпение фараона.
И Аменхотеп уже был готов пойти на открытую войну, но, как всегда, медлил! Вероятно, ей придется направить его силы на борьбу со слугами Амона. А борьба предстоит нелёгкая. Нефертити хорошо осознавала это: жречество не отдаст власть над душами людей.
«Значит, я останусь в веках как первая, кто скажет жрецам: „Нет!“ – горделиво решила про себя Нефертити. И тут же, задумавшись, с грустью добавила, – но тогда кто же будет помнить обо мне, кто будет петь песни в храмах Амона, воскуривать фимиам, восхваляя и повторяя моё имя, чтобы я жила вечно, если не будет самих жрецов?»
* * *
В то время как Нефертити склонилась над картами, за ней, не отрывая глаз, следил мужчина лет двадцати. Одежда его была проста: на голове белый платок, завязанный, как у фараона намес, набедренная повязка ловко подхватывала стройный стан. На нём не было ни парика, ни золотых украшений, лишь кожаные сандалии указывали на его не совсем простое происхождение. Скорее всего, он принадлежал к касте мастеров. Он стоял, опершись о ствол дерева, сложив на груди руки, и, подобно богу, взирал на происходящее.
Тутмоса мучили сомнения; красавица, что сидела подле гадалки, была очень похожа на «грёзы его снов», на ту, о которой он мечтал, о которой думал каждое мгновение. Её образ в его сознании был настолько чётко запечатлён, что он выхватил бы его сияющую красоту из тысяч других женских лиц. Но как царица могла очутиться здесь? Одна? Без охраны? Да ещё в такой день? Нет, это не могла быть Нефертити. Или это её сестра, говорят, они похожи, или где-то поблизости всё же есть охрана?
Осмотрелся: ни на площади, ни рядом с храмом, ни на улицах он не заметил людей, похожих на охрану царицы.
Всё как обычно: многоликая толпа, одетая более чем просто, и только кое-где были видны богатенькие, пришедшие поглазеть на праздник и показать себя, и своё богатство. Они увешаны золотом с ног до головы, на головах тяжёлые парики, из-под которых струйками стекал пот, застилающий им глаза. Эти люди так горды собой, своей значимостью в этом мире, что, появись сейчас здесь даже сам фараон, возможно, никто из них и не заметил бы его присутствия, не говоря уже об одной из него жён.
«А, может, это не она?» – засомневался Тутмос.
Обычно женщин фараона охраняли рабы-евнухи, здоровяки-кушиты, и не заметить их даже в такой людный день – невозможно.
«Если это царица, то где-то должны быть и кушиты. Не могли оставить царицу одну без охраны», – размышляя, Тутмос оглядывался по сторонам. Но никого – ни рабов, ни соглядатаев – он не заметил. И в нём росло жгучее любопытство.
Ему хотелось подойти ближе и услышать её голос, хотелось вдохнуть запах её благовоний, дотронуться до полы платья и припасть к божественным стопам. Хотелось целовать след её сандалии и остаться навечно рядом с ней, пригвождённым метким копьём кушита.
Он с радостью бы пал, сражённый этим копьём, к её ногам, лишь бы она обратила на него царственный взор! И удивлённо подняв, брови спросила бы: «Кто ты?» А он, умирая, на последнем вздохе, произнесёт: «Я Тутмос! Люблю тебя, Божественная!»
И это так мучительно жгло ему душу и с каждой мгновением становилось всё невыносимее, что он еле сдерживался, чтобы не броситься к её ногам.
Но всё же трепетное отношение к ней – она жене царёва – не позволяли ему приблизиться на непочтительное расстояние.
Поэтому он продолжал стоять, то складывая руки на груди, то нервно перебирая пояс, подхватывающий набедренную повязку, и не спускал с неё глаз…
Когда солнце уже клонилось к закату, Нефертити поднялась, простилась с гадалкой и пошла к храму. В какое-то мгновение Тутмосу показалось, что он потерял её: царица была так невелика, что ей легко было затеряться среди толпы. Тутмос забеспокоился: «О, Боги! Сейчас выведут Аписа! Толпа! Её же раздавят!» Он бросился за ней…
С пилонов храма трубы возвестили о выводе народного любимца – чёрно-белого быка Аписа. И все с радостными криками устремились к храму.
Тутмос не отставал от неё ни на шаг. Он уже был уверен – царица одна, и в нём проснулось чувство, подобное льву, охраняющему прайд. Он готов был разорвать каждого, кто обидел бы Нефертити.
Из ворот храма жрецы вывели Аписа, и неистовая толпа бросилась к нему. Считалось, что прикосновение к священному животному сулило избавление от всех недугов и удачу на долгие годы. Вот каждый и норовил дотянуться и погладить быка. Неготовая к тому, что люди ринутся к священному животному, Нефертити растерялась и оказалась затянутой в самую гущу толпы. На неё давили со всех сторон липкие от праздничных натираний и благовоний тела людей, каждый из которых старался протиснуться вперёд. Они все что-то кричали и тянули руки. Людской поток нёс её, и казалось, что никакая сила не могла бы его остановить. Она пыталась сопротивляться, но тщетно, с каждым мгновением дышать ей становилось всё тяжелее, от страха подкашивались ноги. Нефертити поняла, что в толпе она никто: ни царица, ни жена фараона, а одна из простых смертных. И если её сейчас задавят, затопчут, то даже не приготовят сах, просто завернут в льняной саван и закопают где-то в песках, как простолюдинку. Никому и в голову не придёт, что это Нефертити – любимая жена фараона!
Охватил ужас – она погибнет вот так в этой беснующейся толпе, и никто не прольёт слёзы над её изувеченным телом. Перед глазами промелькнули миленькие личики дочек. Как-то сложится у них судьба без матери, без защиты в этом змеюшнике – царском гареме?
И не успела Нефертити ещё раз пожалеть себя и детей, как сильная рука, обхватив стан, выдернула её из толпы и увлекла за собой. Вдохнув полной грудью и бессознательно поправляя платье, она подняла глаза на своего спасителя…
О молодость, молодость! Только что смерть раскрывала ей свои объятия, и Нефертити готова была войти в царство мёртвых, но не прошло и мгновения после невероятного спасения, как она уже забыла о боге Осирисе.
В лучах заходящего солнца перед ней стояло живое воплощение бога: великолепное тело цвета бронзы, с гигантским разворотом плеч, с красивыми, сильными руками. Юноша был похож на превосходную статую лучшего мастера – Создателя. И более прекрасного творения Хнума[23 - Одно из воплощений бога-творца, создал человека из глины.] ей никогда не приходилось видеть!
Они молчали… В душах бушевал хаос… Хатхор[24 - Богиня любви.] поражала их сердца огненными стрелами любви, а коготки Баст[25 - Тоже богиня любви в виде кошки.] впивались в них.
В мгновение уместилась вечность, и незримая связь, как лунная дорожка, пролегла между сердцами. Нефертити казалось, что она знает его всю жизнь! Это он врывается к ней во сны, которые она гонит от себя, когда просыпается, но вспоминает, когда восходит на ложе фараона, чтобы одарить его увиденными во сне ласками. И это именно он был в её девичьих грёзах до того, как она вошла в дом Аменхотепа. Именно его она ждала, но не дождалась…
А Тутмос был поражён хрупкостью тела, которое он только что спас. Ладони, щёки горели – он посмел прикоснуться к ней, к божественной жене Гора. Но может, это вовсе и не царица?
Как истинный художник, он смог по достоинству оценить её красоту: тонкая и гибкая, словно папирус, нежная, полная изяществ и гармонии. И от него не укрылось, как вспыхнули её глаза и наполнились каким-то невероятно тёплым блеском… Она словно восторгалась и улыбалась ему глазами.
«Это она?! – вихрем проносилось у него в голове. – О боги! Какие глаза!»
«О боги, – стучало у неё серебряным молоточком в мозгу, – о боги…»
Время шло, а они продолжали стоять, не видя никого и ничего вокруг, словно подхваченные солнечным ветром они взмыли над миром, и там высоко-высоко кружились в одиночестве, видя, только глаза друг друга.
Он не замечал и того, что её рука всё ещё покоилась в его большой ладони.
– Кто ты? – улыбаясь, спросила она, осторожно высвобождая руку.
«Она прекрасна… улыбка очаровательна… уголки губ чуть поддёргиваются, а голос… голос, как песнь соловья на утренней заре… она что-то сказала… Что она сказала?» Тутмос словно лишился дара речи. Он промычал в ответ, как гигантская статуя фараона[26 - Так называемые Колоссы Мемнона, статуя Аменхотепа III по утрам издавала протяжный стон.], которая по утрам издаёт тревожные звуки над долиной, что расстилается у её ног.
Тутмос окаменел, он боялся пошевелиться. Происходящее было видением, сном. Он стоял как истукан, и только мозг скульптора сосредоточенно работал: он запоминал каждую чёрточку, каждый взмах ресниц и все линии, и пропорции её лица. Тутмос впитывал, запомнил всё и зримо наслаждался ею целиком, и каждой чёрточкой отдельно.
– Этого не может быть! Ты немой? – не дождавшись ответа, переспросила она, и осматривая его достаточно откровенно. Она уже немного оправилась от потрясения, и обычное игривое настроение вернулось к ней. – Жаль, – сказала она уже скорей самой себе, – а такой красивый, как бог!
От этих слов у Тутмоса перехватило дыхание. Если до тех пор он напоминал статую, издающую хотя бы мычание, то сейчас он превратился в сфинкса с ничего не выражающей глупейшей улыбкой на лице. А Нефертити не унималась:
– Немой спаситель! Это хорошо! Не скажешь никакой глупости, и не расскажешь никому, как спасал царицу Египта.
Жаром окатило Тутмоса: «Я был прав!»
– Вот посмеёмся с Бенремут – меня спас немой… – Она продолжала что-то щебетать, а Тутмос ничего не слышал, он был поражён тем, что произошло, и наслаждался тем, что видел пред собой…
Эти несколько мгновений озарили их, наполнили сердца лучезарным светом и полностью изменили их жизни…
* * *
Но вдруг вспомнив, что ей не следует даже заговаривать с простолюдином, она холодно, как подобает царице, поблагодарила Тутмоса за спасение и, резко повернувшись, пошла по уже опустевшей улице.
Тутмос так и остался стоять, смотря ей в след. Оцепенение прошло только после того, как знакомый мальчишка, пробегая мимо, окликнул:
– Ей, Тутмос, чего стоишь?
Тутмос проводил взглядом убегающего мальчугана, повернулся и побрёл обратно в свою мастерскую. В его голове зарождалось нечто, чему ещё не было названия, но он чувствовал, что идея начинала развиваться и обретать вполне зримые формы. И эта работа мозга заставляла всё его тело двигаться быстрее и быстрее. Чем осознанней и ярче становился образ, тем быстрее он шагал. Вскоре он уже бежал, легко преодолевая любые преграды на пути: людские заторы или какие-либо нагромождения на улице из колесниц и корзин с продуктами. В голове стучало: «Мне нужно её ваять! Сейчас, пока я помню, пока свежи в памяти черты. Ваять! Сейчас! Завтра будет поздно! Мне не нужен больше розовый гранит. Гранит не передаст всей нежности её кожи, красоту и цвет её губ и глаз, а этот чарующий румянец… Нет, я сделаю бюст из самого простого материала – известняка и раскрашу его. И не надо ждать платы за усыпальницу! Как я раньше об этом не догадался! Как я раньше об этом не подумал! Сколько потеряно драгоценного времени!» И он, окрылённый творческой идеей, ослепившей его сознание, бежал через весь город к себе, в деревню мастеров.
Вдохновлённый, Тутмос вбежал в мастерскую, расчистил место и набросился на работу с рвением приговорённого к смерти человека, которому осталось жить до завтрашнего утра, а сделать надо так много!..
Два дня он не выходил из мастерской, забыв о сне, позволяя себе передышку, лишь когда подсыхал материал. Без отдыха глаза воспалились, а тело ныло от усталости. Но глоток воды, кусок ржаной лепёшки, и он вновь за работой.
Поначалу он не знал: оставить голову царицы непокрытой, как у простолюдинки, или всё же покрыть царской тиарой, той, что была на ней в день, когда впервые увидел её. Оставить образ царицы без надлежащего атрибута власти нельзя! Но без него она была милее ему в сотни раз…
Тутмос выполнял эскиз за эскизом, и хоть форма получилась сразу и задумка отвечала всем канонам, но что-то в образе не соответствовало оригиналу: то она получалась простушкой, то, наоборот, лик её был суров, и в нём не было гармонии. То она не имела царственной осанки, то весь её облик указывал на то, что это царица, и она была столь надменна и холодна, а такой образ никак не устраивал самого Тутмоса. Разбив последнюю из заготовок, он впал в отчаянье. Неужели он никчёмный ваятель не в силах создать всего лишь образ любимой им женщины? Да, он видел Нефертити всего несколько раз, но каждая чёрточка её лица врезались в память так, что он может с закрытыми глазами вылепить её всю. Но что же в её облике ускользает от него, что неподвластно его мастерству? Если то, чему его учили, не способно передать очарование глаз, красоту её лица, мягкость линий и их совершенство, то тогда зачем это мёртвое искусство? Или оно только для того, чтобы лепить статуи и барельефы в усыпальницах? Нет, он должен создать Нефертити такой, какая она предстала пред ним – живой, озорной девчонкой; хоть она и мать троих детей, но стройна, как лань и так прекрасна! То, чем наградили её боги, он обязан воплотить, ничего не уменьшая и не приукрашивая. Он должен передать непостижимое величие и чарующую женственность. Но как?
Ответа не было. Всё, что он умел, – лепить бюст и скульптуры, которые или охраняли покой мёртвого, или были вместилищем его души. Но в бюсте Божественной ему хотелось видеть и дыхание жизни, и то внутреннее сияние, которым был наполнен весь облик царицы…
Обхватив голову руками, Тутмос сидел, раскачиваясь из стороны в сторону…
Отчаянье поглотило его целиком – нет способов передать всю красоту царицы Нефертити! Ничто не может сравниться с ней, и он не может вдохнуть жизнь ни в одну из её копий!
Но не успели звёзды сменить друг друга на небосклоне, он решил – не станет делать как надо, как его учили старые мастера, как делают все. Нет! Он сделает так, как велит ему сердце, как никто и никогда не делал до него! И работа закипела с новой силой, с новым вдохновением.
Он ещё не знал, как это будет, но чувствовал – то, что собирается сделать, до него не делал никто! Это образ любимой, на чей лик он сможет любоваться звёздными ночами и приветствовать по утрам. Создаст для себя! Неслыханно, но эта скульптура не будет служить для заупокойного культа, она будет служить для него – живого человека! Создаст, чтобы наслаждаться её образом, чтобы она всегда была рядом и радовала бы улыбкой. Эта крамольная мысль жгла душу. А маленький человечек, сидящий в нём, шептал: «Остановись! Не делай этого! Это опасно! Тебя покарает рука Тота и недремлющее всевидящее око Гора».
Другой голос – сильного и окрылённого любовью человека – говорил ему: «Делай! Делай всё, как считаешь нужным, и ты будешь самым счастливым в этом мире и прославишься в веках!»
Необычайно взволнованный упоительным чувством творчества, он беспокойно метался из угла в угол по тесной мастерской: то готовил материал, то верстак, на котором вновь будет ваять, то останавливался, вспоминая и мысленно прорабатывая каждую линию, каждый изгиб, каждую чёрточку. И снова берёт материал и почти бессознательно делает этюд, воплотивший в себя все муки творчества, всю страсть и любовь, желания и сомнения. Тутмос творил всю ночь, не отрываясь и не поднимая головы до утра…
Закончив работу, он уснул, уснул сном праведника, исполнившего свой долг, сном самого счастливого человека, а на верстаке стоял бюст Нефертити. «Прекрасная пришла» была создана в порыве величайшего вдохновения и неземной любви.
* * *
Нефертити вернулась во дворец и поспешила в купальню рядом с искусственным озером. Единственное место, где сёстры могли проводить время в уединении. Здесь Бенремут ждала её возвращения, переживая, что кто-либо разгадает их маленькую хитрость.
Рабыни сняли с Нефертити платье и простенькие украшения, а она стояла безучастно, задумавшись, глядя на воду. Коснувшись пальчиками ноги спасительной влаги, царица только сейчас почувствовала, как она устала. Она опустилась в золотую ванну. Вода приняла ласково. Рабыни закружились, предлагая напитки, кушанья и сладости, а Нефертити принимала всё как во сне, сердце её было далеко: там, на пыльных улицах, где мир был совсем иным, и где впервые она ощутила странное волнение, ранее неведомое, но такое сладостное! Что-то необъяснимо томило душу… И образ спасителя не покидал её…