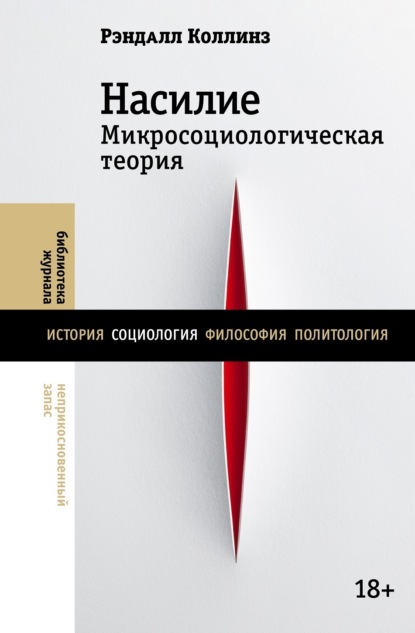
Полная версия:
Насилие. Микросоциологическая теория
В мае 1970 года после двух дней антивоенных демонстраций в Университете Кент Стейт военнослужащие Национальной гвардии убили четырех студентов и ранили еще девятерых. Демонстранты подожгли здание Корпуса подготовки офицеров запаса на территории кампуса, издевались над гвардейцами, а кое-кто бросал в них камни. Внезапно ситуацию прорвало: в течение 13 секунд гвардейцы произвели 61 выстрел. Одной из убитых была студентка, не участвовавшая в демонстрации, – она просто шла мимо на занятия. Общее соотношение между убитыми и ранеными и количеством выпущенных пуль составило 13:61, то есть около 20% – типичная картина для беспорядочной и неточной стрельбы [Hensley, Lewis 1978].
Беспорядочная стрельба характерна не только для полиции. В феврале 1997 года двое участников ограбления банка в Лос-Анджелесе, одетых в бронежилеты (что, видимо, придало им смелость считать себя неуязвимыми), вступили в перестрелку с полицией, которая длилась 56 минут. Грабители сделали 1100 выстрелов из автоматического оружия, а две сотни полицейских выпустили в ответ сопоставимое количество пуль. 11 полицейских и шестеро посторонних лиц получили ранения, некоторые из них – от дружественного огня. Двое грабителей были убиты, причем в одного из них попало 29 пуль. По сообщениям СМИ, полицейские прогнали людей, которые были готовы оказать этому человеку первую помощь, и дождались, пока грабитель истечет кровью, держа пистолет у его головы (см.: Los Angeles Times, 1 марта 1997 года, и San Diego Union, 20 февраля 2000 года). С обеих сторон масштаб огня был чрезвычайно избыточным, причем стрельба в основном была неточной: по живым мишеням попали лишь около 1% пуль.
К описанным случаям можно добавить и другие, хотя речь в данном случае идет не о статистической частоте, а о закономерности, которая обнаруживается в подобных случаях. К наиболее известным подобным инцидентам, несомненно, относится чрезмерное насилие, спровоцированное наступательной паникой; тем самым мы склоняемся к тому, чтобы делать выборку по зависимой переменной и не учитывать те обстоятельства, в которых задержание полицейскими или какая-либо иная конфронтация не приводят к наступательной панике. К этому вопросу мы обратимся в последующих главах, в особенности в главе 9, где будут рассмотрены взаимодействия, которые не перерастают в насилие.
Когда описанные выше случаи, имевшие место в 1990‑х годах и в последующий период, вызывали политическое возмущение, по большей части они рассматривались как проявления расизма. Внимание к подобным инцидентам привлекает именно возмутительное поведение – обычно акцент делается на чрезмерной жестокости и актах насилия, которые повторяются и не имеют практического смысла. Скорее всего, такие случаи не привлекали бы столько внимания, если бы в ходе инцидента был сделан всего один выстрел или нанесен всего один удар. Но как только эти случаи публично квалифицируются как возмутительные, в качестве причины событий быстро появляется цвет кожи полицейских и их жертв. Между тем главное – это механизм наступательной паники. Расизм иногда может играть определенную роль, однако это случайный фактор, который порой задает исходную ситуацию. В случае с расстрелом Диалло полицейские действовали в «черном» районе, и это обстоятельство воспринималось ими как общий признак опасности, а их стереотипное восприятие Диалло привело к возникновению напряженности и внезапной погоне в коридоре. Но механизмы наступательной паники – беспорядочная стрельба и чрезмерная жестокость – действуют в очень широком масштабе и не привязаны к расовым границам. Аналогичным образом во время инцидента в Риверсайде полицейских подтолкнули к вспышке насилия представление об этом районе как об опасном «черном» квартале (его разделяла и сама жертва) и то обстоятельство, что женщина в машине воспринималась как жительница этого района. Еще один подобный пример обнаруживается при сравнении различных стычек, в которых за всю свою жизнь участвовал Тай Кобб [Stump 1994]. Кобб был откровенным расистом – в конце XX века таких персонажей уже почти не обнаружить: этот южанин, перебравшийся в 1910‑х годах на север США, чувствовал себя оскорбленным всякий раз, когда какой-нибудь чернокожий отказывался ему подчиняться. Жертвами нескольких его яростных нападений становились чернокожие служащие в отеле, мясной лавке или на стадионе. Однако драки Кобба с белыми, которые случались даже чаще, чем с чернокожими, проходили по той же схеме и заканчивались тем, что Кобб колотил и пинал противника, поверженного на землю. Кроме того, случаи наступательной паники во время полицейских перестрелок при столкновениях между белыми обнаруживаются в таких описанных выше случаях, как явное самоубийство пьяного мужчины на эстакаде в Лос-Анджелесе, расстрел студентов в университете Кент Стейт и стычка с грабителями банка в бронежилетах.
Механизмы наступательной паники обнаруживаются во взаимодействиях как между самыми разнообразными этническими группами, так и внутри них – наглядным подтверждением этого являются фотоснимки. Например, на снимке, опубликованном в 1996 году AP/World Wide Photos, изображена сцена на открытом рынке в Кении, где поймали на краже уличного мальчишку довольно малых лет (вероятно, от девяти до двенадцати) – двое взрослых мужчин наступают на него и избивают ногами, а за этим наблюдает толпа из по меньшей мере пятнадцати человек на заднем плане фото. Можно также рассмотреть пример снимка, на котором все участники происходящего принадлежат к белой расе. На фото, опубликованном Reuters в августе 1996 года, изображен эпизод, случившийся во время демонстрации греков-киприотов, которые вступили на территорию Северного Кипра в знак протеста против турецкой оккупации. Один из греков, отделившийся от своих соплеменников и оказавшийся в одиночестве, на фото лежит поваленным на землю – четверо турок замахиваются на него длинными палками, а еще девять мужчин подбегают, чтобы присоединиться к нападению. Примерно тот же паттерн во множественных контекстах и этнических комбинациях демонстрируют фотоснимки насилия, происходящего в толпе, которые более систематически будут рассмотрены далее.
Расовые предрассудки могут выступать исходным фактором, который формирует напряженность и вызывает наступательную панику – отсюда и соответствующее восприятие избыточного насилия как случившегося на расовой почве. Однако наступательная паника обладает собственной динамикой и функционирует независимо от расизма. Как уже отмечалось, наступательная паника является одним из процессов, способных сыграть определенную роль в многофакторной ситуации. Итог неутешителен: даже если бы не было никакого расизма, полицейское насилие и подобные зверства все равно бы происходили. Расовый антагонизм является не единственным способом, при помощи которого может нарастать первоначальная напряженность конфронтации; там, где задействован этот фактор, он часто накладывается на более общий механизм напряженности/страха.
Насилие в толпе
Наступательная паника часто сопровождает насилие, совершаемое толпой (хотя это не относится к случаям толп гуляк). Выразительными признаками этого выступают масштабная диспропорция в силах между толпой и ее жертвами, ритмичное вовлечение в сам акт насилия, навал на жертву и чрезмерная жестокость. Однако исходя из одних лишь указанных результатов невозможно сделать вывод о наличии наступательной паники – для этого требуются свидетельства некой закономерности, развивающейся во времени. Она предполагает нагнетание напряженности/страха и переход к внезапному ослаблению жертвы, распахивающему мрачный туннель, в который коллективно проваливаются участники инцидента.
Именно такая закономерность обычно проявляется в массовых беспорядках на этнической почве. Разумеется, при этом еще присутствуют фоновые структурные условия, имеющие более долгосрочную природу, от которых зависит то, носят ли отношения между этническими группами антагонистический характер23. Однако этнические противоречия не всегда и даже не в большинстве случаев приводят к беспорядкам с человеческими жертвами, и даже среди тех этнических групп, между которыми такие столкновения иногда случаются, они происходят не каждый день, а по очень особым поводам.
Беспорядки на этнической почве представляют собой последовательность событий с нарастающей драматической интенсивностью, которые монополизируют внимание и побуждают к участию в них. Сюжет этой драмы в самом широком смысле всегда один и тот же: на почве давней напряженности (этот момент можно считать прологом к I акту драмы) происходит некое неожиданное событие, которое одна этническая группа воспринимает как провокацию со стороны другой (I акт). Затем наступает период некоторого успокоения с атмосферой зловещей тишины и затишья перед бурей (II акт). После этого происходит вспышка этнического насилия – массовые беспорядки, сопровождаемые жертвами, которые почти всегда появляются в результате зверств одной из сторон (акт III). В этой драме могут быть и последующие акты – как правило, в виде повторения событий акта III, с периодическими ответными действиями группы, понесшей ущерб, и вмешательством властей с тем или иным успехом. В данном случае нам необходимо сконцентрироваться на акте II и начале акта III, поскольку именно здесь обнаруживается паттерн наступательной паники.
Затишье перед бурей представляет собой момент, когда одна из этнических групп собирается с силами, чтобы дать ответ на то самое исходное событие, которое в ее восприятии оказывается провокацией. Этот период затишья обычно длится не более двух дней, хотя иногда может продолжаться до недели [Horowitz 2001: 89–93], и характеризуется зловещим спокойствием – зловещим оно оказывается потому, что преобладающей эмоцией выступает масштабное ощущение напряженности. В ретроспективе эту напряженность можно назвать ощущением дурных предчувствий дальнейших событий, ожидаемой и заблаговременной напряженностью перед схваткой, которая вот-вот начнется. Однако в центре этой напряженности также находится страх перед противником. Страх вызывает провоцирующее событие, выступающее непосредственным фоном ситуации: например, противник только что выиграл выборы, которые приведут к необратимому отстранению нашей этнической группы от власти, или только что совершил (или объявил о соответствующих планах) массовое шествие по нашей территории, демонстрируя собственную силу, или подчинил себе наших соотечественников и вскоре нападет на остальных [Horowitz 2001: 268–323].
Затишье – это еще и время слухов; тишина царит потому, что разговоры ведутся за кулисами, вне публичного поля зрения, то есть вне поля зрения противника и властей. Однако эта тишина ненормальна: люди не появляются на улицах, где они обычно находятся, избегают своих привычных занятий и удовольствий. Это настроение заразительно: сама ненормальность публичной обстановки заставляет всех нервничать, опасаться и проявлять осторожность, даже если никто с воодушевлением не призывает переходить к насильственным действиям. Тем временем возникает некая массовая общественная атмосфера, которую ощущают даже те, кто располагается на периферии происходящего, и это обстоятельство усиливает ощущение значимости ситуации у находящихся в центре событий. Эта атмосфера представляет собой повсеместное и заразительное возбуждение, однако оно не сопровождается буйством и горлопанством, поэтому еще не бьет через край (что в дальнейшем и случится), а наполнено страхом и напряженностью.
Слухи имеют ряд последствий. Они обращены назад во времени и вовне – на врага, еще больше изображая его в качестве злонамеренного и гнусного. Слухи укрепляют страх и напряженность. Отчасти это происходит благодаря процессу гиперболизации. Если целевая группа уже собралась для проведения демонстрации или шествия, появляются слухи об уже случившемся насилии, а если группа еще не собралась, то в слухах идет речь о грядущих злодеяниях [Horowitz 2001: 79–80]. В слухах обыгрываются ритуальные преступления, нападения на сакральные религиозные места, истории о сексуальных увечьях, таких как кастрация мужчин или отрезание женских грудей24. По мере распространения слухов вера в них крепнет, их уже нельзя поколебать никакими официальными опровержениями, и ни одно сообщение, противоречащее слухам, не воспринимается как авторитетное. Таким образом, когнитивный процесс выступает скорее следствием, нежели причиной поведения группы; распространение группой слухов оказывается заражением эмоциями, сосредоточенным на самом себе. Содержание этих слухов выступает в том же качестве, что и символ у Дюркгейма – маркером идентичности мобилизованной группы. Поверить слуху – значит продемонстрировать, что являешься участником группы; поставить слух под сомнение – значит поставить свое участие в ней под вопрос; отвергнуть слух – значит поставить себя вне и против группы. Таким образом, имеется еще одна причина того, почему период затишья требует определенного времени: в этот момент осуществляется реальная интеракционная работа, ведется оценка потенциальной группы поддержки, выдвигаются сначала едва различимые, а в конечном счете и совершенно реальные угрозы в отношении тех, кто противостоит группе. Нападения на тех, кто призывает к миру, и исповедующих многонациональные ценности космополитов превращаются в актуальную повестку – именно эти лица обычно и становятся первыми мишенями в процессе эскалации злодеяний [Калдор 2015; Coward 2004; Horowitz 2001]. И это еще одна особенность, благодаря которой затишье превращается в период нарастающей напряженности.
Кроме того, в слухах появляется некий момент предвкушения. Сначала люди гадают, что произойдет дальше, в страхе перед дальнейшими действиями врага, но затем акцент все больше смещается на планы предпринять некие меры, способные упредить и остановить неприятеля, прежде чем он сможет совершить великое злодеяние против нас. Распускание слухов превращается в планирование, смещается от нагнетания утверждений о зверствах к предчувствиям необходимости что-нибудь сделать – и того, что это будет сделано. Люди собираются вместе – некоторых из них вы можете знать лично, а кто-то может сообщить, где именно это произойдет. Слухи представляют собой не просто получение каких-либо знаний – они являются действием. Это действие по распространению взаимосвязей между людьми, по фокусированию их внимания в некой общей точке, а в процессе люди фокусируются на самих себе как на особой группе. Сам процесс распространения слухов заставляет людей ощутить, что они участвуют в большом потоке событий, выходящем за пределы их самих, а следовательно, в чем-то мощном, в чем-то, что позволит одержать победу, если начать действовать. Если фаза распространения слухов протекает успешно, то есть когда возникает стадный эффект со значительным количеством присоединившихся, мы имеем дело с процессом мобилизации.
Нагнетание напряженности эквивалентно первой стадии наступательной паники. Беспорядки на этнической почве являют собой более масштабный паттерн напряженности и ее снятия, нежели мелкая драка, полицейская акция или даже военные действия в разгар сражения, – ведь такие беспорядки более продолжительны и охватывают больше людей. Для них требуется больше времени, поскольку это коллективный процесс, в ходе которого люди пытаются вовлечь в действие как можно больше сторонников. Все это можно рассматривать как среднеуровневую модель напряженности и ее снятия – она в большей степени разворачивается на стороне напряженности, но порой и в момент ее снятия, хотя момент перехода от напряженности к ее снятию представляет собой все то же сваливание в горловину туннеля, которое мы наблюдали выше.
Стремительное снятие напряженности, выражающееся в насилии толпы, имеет подавляющий односторонний характер. Согласно оценкам Хоровица [Horowitz 2001: 385–386], в ходе беспорядков на этнической почве 85–95% погибших приходится на одну из сторон. Это подразумевает, что жертвы не дают отпор, даже несмотря на то что в иной ситуации и в ином месте25 они могли бы успешно напасть на своих обидчиков. Здесь перед нами вновь оказывается схема, напоминающая наступательную панику: всплеск насилия направлен против почти полностью беспомощных жертв, причем последние не только неспособны дать вооруженный отпор в данном месте и данной ситуации, но и эмоционально пассивны и не в состоянии предпринять контратаку26.
Сам момент нападения зачастую сопровождается настроением повышенного возбуждения и даже веселья. Пытки и увечья могут совершаться в атмосфере уморительной и «злорадствующей фривольности» [Horowitz 2001: 114]. Сразу после того как беспорядки завершаются, сторона, учинившая насилие, не демонстрирует раскаяния, в связи с чем Хоровиц квалифицирует такие инциденты как «морально санкционированные массовые убийства» [Horowitz 2001: 366]. Две эти особенности – гротескное наслаждение и демонстрация жестокости при последующем отсутствии моральной ответственности – вызывают особое отвращение у сторонних наблюдателей, но в совокупности они дают ключ к пониманию лежащего в их основе процесса. Можно еще раз привести слова лейтенанта Капуто о том, что следовало за зверствами/наступательной паникой во время войны во Вьетнаме: «Заключительная часть сражения напоминала сон… [так что] некоторым из нас было трудно поверить в то, что именно мы сотворили все эти разрушения» [Caputo 1977: 289].
В момент подобных актов насилия совершавшие их лица находились в герметично закупоренной зоне общих со своим окружением эмоций, в особой реальности, которая в момент насилия не только подавляла все прочие моральные чувства, но даже в ретроспективе была непроницаема для памяти или внешнего морального осуждения. Кроме того, этот закупоренный эмоциональный анклав – именно его мы сравнивали со спуском в туннель – объясняет ту особую атмосферу экзальтации, которая переживается при нахождении в нем. Бурное веселье и фривольность в самой крайней жестокости выступают составляющими ощущения пребывания в особой реальности, в некой зоне, отрезанной от привычной морали, – само ощущение разрыва с тем, что было раньше, является частью ощущения экзальтации, которое при выходе на поверхность воспринимается как чертовски прекрасное настроение. Едва ли это настроение передается дальше – сомнительно, чтобы те, кто устраивает все эти ужасы, могли вспоминать о них в том же самом настроении уморительно приятного времяпрепровождения; как и мир снов, оно герметично закупорено от последующих воспоминаний.
Подобное насилие со стороны толпы представляет собой одну из разновидностей ситуации, когда нападающие наваливаются на жертву, временно испытывающую слабость. Акцент в данном случае следует сделать именно на временности. В качестве отправной точки межэтнической вражды и провоцирующих инцидентов, как правило, выступает представление о силе противника – именно угрожающие характеристики врага запускают процессы страха и напряженности. Хоровиц [Horowitz 2001: 135–193] приводит серию свидетельств, демонстрирующих, что участники беспорядков на этнической почве не выбирают другие этнические группы в качестве своих мишеней просто в силу их слабости, они не переносят свою фрустрацию с экономических или иных проблем на удобного слабого козла отпущения. Напротив, нет никакой корреляции с экономическими успехами выступающих в роли мишени групп – ни вышестоящих, выступающих предметом зависти, ни нижестоящих, которые с легкостью можно ставить ни во что27. Мишени этнического насилия воспринимаются как сильные, агрессивные и неминуемо угрожающие – и все же на них можно напасть, потому что они находятся в такой локальной ситуации, где это удастся сделать беспрепятственно [Horowitz 2001: 220–221, 384–394]. Поэтому для нападения выбирается какой-нибудь район или деловой квартал, где противник не мобилизован, а в качестве мишеней зачастую выступают ни в чем не повинные, не отличающиеся особой агрессивностью родственники тех, кто устроил исходную провокацию; подходящая для нападения территория должна быть расположена неподалеку от пункта сбора атакующей группы, куда легко добраться, а также можно без проблем туда отступить в случае сопротивления или вмешательства властей. Излюбленным местом таких нападений являются районы со смешанным этническим составом жителей, где нападающие составляют значительное большинство28. Кроме того, нападающие умело отслеживают действия властей, выискивая признаки молчаливого одобрения своих действий с их стороны или оценивая, насколько расхлябанно или неэффективно власти действовали прежде при подавлении беспорядков. Нападающие ищут подходящее для себя «окно возможности» во времени и пространстве и используют его. В этом отношении их действия напоминают действия армий, стремящихся достичь локального превосходства – и в том и в другом случае начало успешной атаки обычно носит характер наступательной паники.
Поиск слабых целей является одним из тех мероприятий, которые проводятся в период затишья. Наряду со слухами, начинается мобилизация в виде определенных действий: небольшие группы активистов, ощущая свои силы благодаря формирующемуся сообществу, которое вскоре приступит к действиям, предпринимают разведку, чтобы определить цели, которые они будут атаковать. Дома, где проживают противники, и принадлежащие им магазины отмечаются и обозначаются специальными знаками или пятнами краски. Подобная активность, а также способность нападающих реалистично рассчитывать действия полиции и своих жертв, как правило, дает аргументы той стороне теоретической дискуссии, которая рассматривает насилие как рациональное преследование интересов, против тех, кто считает его эмоциональным и экспрессивным феноменом. Однако в действиях людей рациональный расчет всегда сочетается с социально обусловленными эмоциями. Наступательная паника представляет собой зону во времени, в которой преобладают эмоциональные импульсы – прежде всего потому, что они являются совместными для всех: как для тех, кто поддерживает нападение и участвует в нем, так и, наоборот, для пассивных жертв. Наступательная паника – это период сваливания в туннель насилия. Но в процессе обнаружения входа в этот туннель может присутствовать много предусмотрительности и расчета29. То же самое происходит в случае наступательной паники у военных и полицейских: в период нагнетания напряженности присутствуют значительные рациональные расчеты практических действий, которые приводят на грань конфронтации. Но когда случается наступательная паника, это выглядит так, будто ситуация вышла из-под контроля, – слишком уж далеко за пределами зоны нормального поведения находятся ее участники, чьи действия выглядят архетипически иррационально. Однако к распахиванию туннеля ведут именно нормальные действия и нормальные расчеты.
Демонстранты и силы, контролирующие толпу
Наступательная паника также характерна для насилия, которое совершают во время организованных демонстраций как сами их участники, так и полиция или вооруженные силы, призванные их контролировать. На демонстрациях часто собирается большое количество людей, но, когда вспыхивает насилие, в подавляющем большинстве случаев прямого столкновения двух этих групп серьезного ущерба не происходит. Подобно равным по силе армиям, демонстранты и их оппоненты, представляющие государство, обычно вступают в противостояние с ничейным исходом, издеваясь друг над другом (в современных условиях полицейского контроля над толпой эти издевательства поначалу, как правило, исходят только с одной стороны, поскольку представители власти выстраиваются в более статичном, контролируемом бюрократическими методами порядке).
Толпы демонстрантов и силы, контролирующие толпу, очень напоминают армии эпохи боевых порядков типа фаланги, и когда между ними вспыхивают столкновения, они обычно похожи на соревнования по толканию друг друга, характерные для большинства сражений с участием фаланг. Именно поэтому на некоторых фотоснимках обнаруживается насилие в легкой форме, когда во время физического столкновения организованные ряды и демонстрантов, и сил, контролирующих толпу, сохраняют исходный порядок. В таких случаях полицейские берутся за дубинки, чтобы наносить беспорядочные удары по демонстрантам, которые вклиниваются в их шеренгу (либо когда демонстрантов толкают сами полицейские, или даже если демонстранты непреднамеренно натыкаются на полицию). Все это напоминает фалангу в ближнем бою, а ущерб от таких столкновений, как правило, относительно невелик – по тем же самым причинам, из‑за которых фаланги не могут вести слишком серьезный бой, пока их шеренги остаются сплоченными. Например, именно так развиваются события, когда полиции удается успешно оттеснить демонстрантов в замкнутое пространство, что позволяет отрезать им пути отступления в любых направлениях от таких мест, как перекресток или площадь. В результате демонстранты оказываются в давке, по периметру которой полиция может бить дубинками отдельных лиц, пытающихся убежать. В качестве примера можно привести первомайские демонстрации в Лондоне. Большинство демонстрантов на фотоснимках, опубликованных в Daily Mail и лондонской Times от 2 мая 2001 года, выглядят испуганными и подавленными; несколько человек наносят пинки или удары кулаками по полицейским шеренгам, а полицейские бьют демонстрантов дубинками. В прессе действия полиции не квалифицируются как зверства. Избиваемые испытывают боль, а остальные участники событий оказываются в неприятной давке и получают пугающий опыт, однако в глазах журналистов и наблюдателей подобное насилие в толпе выглядит не очень эффектно и обычно не получает широкой огласки. Отчасти это объясняется тем, что наступательная паника не возникает, пока обе группы толпятся по разные стороны – такая ситуация не располагает к продолжительному и эмоциональному атакующему порыву, который имеет столь неприглядный вид.



