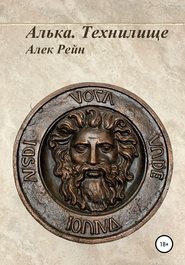 Полная версия
Полная версияАлька. Технилище
– Что-то плохо впитывает, – потом распрямилась и с удивлением сказала: – Это не тушь.
– Как не тушь? – сразу несколько вблизи стоявших наклонились над чертежом, и кто-то попытался осторожно приподнять опрокинутый пузырёк с клеем, когда вместе с пузырьком поднялся лист, под которым показался нетронутый чертёж, выдохнуло сразу человек двадцать. Гарри Моисеевич схватил нашу прелесть и, с остервенением скомкав её, сунул в корзину, стоящую под столом, – какое отсутствие вкуса – это, между прочим, инсталляция, а не как-либо что, нет бы сохранить для памяти. Мы, можно сказать, были близки к вершине сюрреализма, а какие эмоции вызвало наше произведение!? Да Дали бы обзавидывался. Вандалы.
Бледный, как полотно, Григорий Дмитриевич молчал, потихоньку приходя в себя, видно, подумал – пронесло.
Комиссия приняла наш проект без единого замечания, видно, прочитали в глазах нашего начальника желание кого-нибудь убить.
После ухода комиссии Григорий Дмитриевич громко, голосом, в котором звенела высоколегированная углеродистая сталь, закалённая на твёрдость 70 HRC, произнёс:
– Ну, шутники, узнаю кто – квартальной не видать.
Вот публика, а?! Даже пошутить нельзя.
Мы продолжали шкодить, но не так масштабно – себе дороже. Однажды, работая в субботу, заменили Минькову грифель в механическом карандаше на кусок проволоки. Нет, ну такой классный кусок проволоки попался – вылитый грифель, ну как тут не заменить, ну а шефу-то – это вообще праздник, не со зла же, так, по приколу. Но тут промашка вышла – у грифелей бывал такой недостаток: какие-то мелкие частицы попадались – проводишь по бумаге, а он, зараза, не чертит. Тогда надо чуть сильнее нажать – он и сдирается, вот Моисеевич и решил нажать посильнее, чтобы он содрался, а как он сдерётся? Он же проволока. Не содрался, а разодрал Моисеевичу общий вид пополам, да ещё кусок из неё углом выдрал, ну, проволока же, дура, чего с неё взять, а он расстроился, побежал к Розену жаловаться. Розен тоже – нет другу посочувствовать – хихикать начал.
Нехорошо над горем товарища подсмеиваться, неправильно это.
Мы тогда, чтобы ему жизнь сахаром не казалась, слепили из зелёного пластилина прямоугольничек, у него ластик был зелёный фирменный, вот ему точь-в-точь такой же и замастырили и заменили его родной ластик пластилиновым. За кульманом работал он азартно, решил что-то стереть, схватил наш ластичек – и ррраз по листу. Ну, дальше понятно – пластилин – плохая замена ластику, да хрен бы с ним, что не стирает, так ещё на листе зелёная полоса. Розен чертыхнулся, а потом негромко, но отчётливо произнёс:
– Всех премии лишу.
Далась им эта премия. И премии-то у нас в НИИТавтопроме, надо сказать, пустяшные были. Обошлось – оттаял.
На КАМАЗе мне побывать не довелось, но наши разработчики больших штампов ездили туда на их отладку. Володька Александров рассказывал, что транспортёры мои в цеху хвалили за безотказность.
***
По окончании работы над транспортёрами поручили мне спроектировать устройство для подачи заготовок металлопластмассовых втулок в штамп. Технологически это довольно просто: в соответствии с техническим заданием предлагалось штамповать в двух штампах, проблема была в том, что штамповать их надо было миллионов по десять каждого типоразмера и их было четыре или пять. На первой операции заготовку сгибали пополам, и она падала в корзину, откуда её было сложно извлечь. Шеф мой что-то нервничал – механизировать процесс сложно из-за формы заготовки после первой операции, вручную штамповать западло, мы ж передовая держава. Да и где место для такого количества штамповщиков? Поговорили, я сказал:
– Да плюнуть и растереть, сделаем линию автоматизированную.
– А как ты вилку из корзины первого перехода извлекать будешь?
– А я её туда и класть не буду.
– И знаешь, как подать её во второй штамп?
– Знаю.
– Тогда рисуй.
Я не знал, конечно, как это будет выглядеть, но знал, что придумаю. Тоже муть какая. Люди в космос летают, а мы какую-то сраную втулку вручную собрались штамповать, да ни в жисть.
Я покумекал недельку и предложил для обозрения эскизное предложение полностью автоматизированной линии штамповки металлопластмассовых втулок, состоящей из правильно разматывающего устройства металлопластмассовой ленты, шиберной подачи ленты, кривошипно-шатунного пресса первой операции, автопитателя заготовок, пошагового лепесткового транспортёра, устройства подачи заготовок и кривошипно-шатунного пресса второй операции. Втулки штамповались в два перехода в штампах, установленных на прессах первой и второй операций.
После загрузки рулона ленты в правильно разматывающее устройство и заправки её в шиберную подачу штамповка втулок происходила автоматически, без участия операторов, до полной выработки ленты. По существу, каждую линию должен был обслуживать один оператор.
В первом штампе заготовка отрезалась, предварительно сгибалась и перемещалась на промежуточную позицию, откуда она автопитателем перемещалась на пошаговый транспортёр, который был установлен под углом к горизонту. Заготовки как бы забирались в гору по транспортёру, а в его конце под собственным весом съезжали вниз, попадая в бункер загрузки, откуда они по одной подавались устройством подачи в штамп второго перехода. Окончательно отштампованная втулка падала в корзину.
В целом схема возражения не вызвала, но поскольку чёрт зарыт в деталях, мне предложили детально прорисовать все тонкие моменты, касающиеся передачи заготовки с позиции на позицию. Я прорисовал, шефы мои в целом всё одобрили, за исключением поведения заготовки в бункере загрузки, были сомнения: а вдруг заготовки начнут цепляться друг за друга? Решили в целом всё одобрить, и я приступил к проектированию отдельных устройств, а для понимания поведения заготовки в бункере на нашем экспериментальном заводе заказали загрузочный короб бункера в натуральную величину. После изготовления провели натурный эксперимент – заготовки вели себя как мама велела, толпились, но не цеплялись и строго по одной, поскольку в коробе был предусмотрен отсекатель, попадали в рабочую зону.
Линия была одобрена целиком, типоразмеров втулок было четыре или пять, и мне поручили спроектировать автоматизированный участок штамповки. Ничего принципиально революционного в этом проекте ни для промышленности, ни для технологии листоштамповочного производства не было, но для меня, студента-вечерника второго семестра четвёртого курса, нового было много.
Каждое в отдельности устройство не вызвало никаких затруднений, а вот как втиснуть эти четыре или пять линий в предусмотренное для этого помещение, не нарушив требований по технике безопасности и охране труда? Как грамотно написать задания для отделов пневмогидравлики и электротехники, да что они из себя представляют и как они, собственно говоря, пишутся? Уйма этих вопросов возникала у меня по ходу проектирования, но я как-то не запаривался, бегал по институту, разбирался со всем потихоньку.
Поначалу начальники отделов не воспринимали меня всерьёз, когда я появлялся со своими бумагами в отделе и спрашивал, с кем мне придётся сотрудничать, происходило следующее:
– А что, разработчику трудно самому прийти?
– Нет, я пришёл.
– Понятно, Вас как зовут?
– Алек.
– Алик, хорошо, Алик, подожди чуток, – после этого начальник снимал трубку, накручивал номер и говорил:
– Григорий Дмитриевич, привет, это гидравлик (электрик, охрана труда) тебя беспокоит. Слушай, кто у тебя участком металлопластмассовых втулок занимается? Рейн, а, понял, Гарри Моисеевичу в пару, шучу, шучу. А чего, ему самому тяжело до меня дойти, пацана прислал, – затем начальник поднимал голову и спрашивал: – Как Ваша фамилия?
– Рейн, Алек Рейн.
После этого меня знакомили со специалистом, который в дальнейшем вёл работу по этой теме.
Поначалу меня водили носом по моей писанине, указывая на то, что так технические задания не составляются, объясняли, как надо, я переписывал, вникал в нюансы работы гидравлических, пневматических, электрических систем, и начиналась предметная работа.
Через полгода в очереди в столовой я услышал, как у меня за спиной шептались две девчонки: «вон, видишь, парень в чёрном свитере, он вторую по объёму тему в институте ведёт, а сам только на четвёртом курсе в институте учится». Не знаю точно, была ли эта работа второй по объёму, но то, что она была не последней, – это точно. Но скажу, не соврав: меня это вообще не занимало никак, мне думать об этом было некогда, крутился как заяц – было страшно интересно.
Из-за острой нехватки времени, скорее, даже из-за того, что постоянно думал о работе, я получил пару на экзамене по горячей объёмной штамповке – единственную двойку за все годы обучения. Читал нам курс ГОШ Владимир Григорьевич Кондратенко – блестящий специалист в этой области и отличный мужик. Я, признаться, курс его слушал вполуха – занимался холодной листовой штамповкой и менять профиль не собирался, зачем, думаю, мне голову забивать, на троечку как-нибудь да сдам. И сдал бы кому-нибудь другому, но Владимиру Григорьевичу – шалишь. Вопросы-то все, по сути, были ерундовые, помнится, один вопрос назывался так: «Выталкиватели заготовок на прессах для ГОШ». Так как я понятия не имел, как они выглядят, я напридумывал этих выталкивателей с десяток, думал, вдруг угадаю. Не угадал. Потом я из интереса глянул, что это такое – оказалось, проще гороха, на кривошипном валу пресса маленькая кулиса, при повороте вала в верхней точке она наезжает на толкатель – и привет – деталь отлипла. А тогда выслушал меня, молча взял зачётку, полистал её и поставил неуд. Что ж тут поделаешь, я не расстроился, а даже слегка загордился, всё ж таки первая пара, а то мужики смеются, говорят, какой ты студент, институт закончишь и двойки ни одной не получишь. Это был последний экзамен зимней сессии, пошли в стекляшку в Булонский лес, отметили сдачу сессии, поржали над моей первой парой.
На следующий день на работе ко мне подошла девчушка, у нас были приятельские отношения, она заканчивала дневное отделение нашей кафедры и проходила практику у нас в отделе. Подошла и рассказывает:
– Слушай сижу вчера на кафедре у Шубина6, подходит Кондрат и говорит: «Ты почему Рейну пятёрку поставил по ХЛШ?» – «Он знал – я поставил. Натянул, может быть, немножко». – «Слушай, он мне вчера сдавал, ничего не знает, я ему пару поставил. Ну, ты ведь знаешь, так не бывает, если у студента по одной специальности знаний нет, то он и по другим, как правило, ничего не смыслит». – «Володь, это же вечерники, у них так бывает, может, он по специальности работает». Повернулся и ушёл, недовольный. Ты смотри, к пересдаче подготовься, не сдашь – засушит тебя, он мужик вредный.
Решил постараться подготовиться получше – готовился по экзаменационным билетам Кондрата, которые Володька Павлов, работавший в Технилище на кафедре, дружественной нашей, как-то раздобыл ещё перед экзаменами группы. Я, как человек очень умный – слава богу, курс по теории вероятности был уже пройден и отмечен высокой оценкой, – не стал даже проглядывать материал к билету, который попался мне при первой сдаче, тут нечего время тратить понапрасну, нечего гадать – вероятность того, что тот же билет выпадет снова, невелика.
Явился на пересдачу я в отличном настроении, всё у меня ладилось, материал я знал более-менее, был уверен – проскочу. В аудитории мы были вдвоём, я положил зачётку перед Кондратом, взял билет, пошёл к столу, по дороге заглянул в билет и чуть не сел мимо стула – это был билет номер двадцать, тот самый билет, на который я не смог ответить при первой сдаче и который я не стал учить, опираясь на знания теории вероятности и следуя простой логике. Посидев в растерянности пару минут, понял, что ничего не высижу, поднялся и пошёл назад. Владимир Григорьевич, продолжая изучать мою зачётку, поинтересовался:
– Что, уже готов?
Я начал мямлить про то, что я готовился, про теорию вероятности, невезение и готовность рассказать что-нибудь другое, не из двадцатого билета. Кондратенко, положив мою зачётку на стол, посмотрел на меня грустными глазами и произнёс:
– Ну, садись, давай поговорим.
И стал меня расспрашивать про мою жизнь, как я поступил в Технилище, как попал именно на кафедру обработки давлением, где работаю, чем занимаюсь. Заметив обручальное кольцо, поинтересовался, есть ли у меня дети. Ни одного по билету он не задал, немного поговорили об обработке давлением вообще, но спрашивал не по билетам – скорее его интересовала моя общая осведомлённость в ковке и горячей штамповке, а затем спросил:
– А почему ты не хочешь изучать горячую объёмную штамповку?
Я рассказал, что я думаю, и он ответил:
– Ты не прав. Лишних знаний не бывает, тем более что ты работаешь в профессии и хочешь продолжать в ней трудиться. Когда-нибудь ты пожалеешь, что плохо ознакомился с моим предметом.
Затем раскрыл зачётку, поставил мне оценку «хорошо», попрощался, велел передать привет Григорию Дмитриевичу и вышел. Признаться, я опешил.
А участок штамповки металлопластмассовых втулок был запущен на Кинешемском автоагрегатном заводе через год уже без моего участия, жаль, мне было бы очень интересно посмотреть.
***
В конце лета сестра жены рассказал, что у её школьной подружки мать работает в детском саду Министерства рыбного хозяйства, который располагался прямо в их доме, в котором жили она с отцом и матерью, то есть с моими тестем с тёщей. Малюсенький уютный детский садик, всё под боком, что может быть лучше? И мать эта обещала оказать протекцию в зачислении сынули в этот райский уголок. У меня состоялся серьёзный разговор с сыном, Мишута нехотя согласился обсудить некоторые аспекты жизни нашей, оно и понятно – мужик занятой, не до разговоров со старичьём.
Я рассказал, что денежек в семье совсем немного, а для того, чтобы жить интересно и хорошо, они нужны непременно, и если мама пойдёт работать, то денежек будет больше. Сказал ему, что он уже большой парень и в детском саду ему будет интересно, в общем, мы договорились попробовать. Конечно, он волновался, маленький же, было ему на тот момент три года семь месяцев, но пошёл без рёва – мужик. Первые несколько дней он слезу пускал: и когда собирали его и вели в садик, и когда забирали – надо же доиграть, но не истерил. Когда у меня была возможность я сам забирал его, придя, просил воспитателя вызвать его, Мишанька, разгорячённый игрой, выскакивал в коридорчик, где родители дожидались своих отпрысков, увидев меня, как правило, говорил:
– Сейчас, ещё чуть-чуть.
Обычно, дав ему возможность ещё с немного порезвиться, я аккуратненько, с помощью воспитательницы извлекал его из кучки ещё не разобранной малышни, и мы шли домой.
Мне нравилось идти вечером с ним рука об руку домой в девяносто девятый, беседовать, обсуждать что-то по-взрослому. Зимой, если было холодно, я старался говорить больше, боялся, что при разговоре он застудит горло.
Однажды во время такого зимнего похода от дома восемьдесят девять до дома девяносто девять мы увидели очень интересную картину. Шли мы обычно по тротуару вдоль трамвайных путей, расположенных параллельно проспекту Мира, беседуя с сыном, я поглядывал по сторонам и обратил внимание, что по стороне проспекта Мира, идущей в центр, нет движения совсем, в то время как по полосе, идущей в область, движение было довольно оживлённым. Пройдя метров двести, прямо напротив магазина «Океан» мы увидели преинтереснейшую картину: в центре обездвиженной полосы спиной к неподвижной армаде автомобилей, конец которой терялся в зимней темноте, стоял пузатый генерал милиции. Такую картину я видел впервые, поэтому мы решили постоять, поглядеть, что будет происходить дальше. Минут пятнадцать ничего не происходило, таких праздношатающихся зрителей собралось человек двадцать, как вдруг со стороны центра показались две стремительно приближающихся машины, которые, приблизившись, оказались двумя правительственными Зилами. Когда они подъехали к нему на расстояние около двадцати метров, генерал отдал честь и изобразил руками жест регулировщика, предписывающий поворот налево. Автомобили свернули налево и прямо по заснеженному газону подъехали к входу в магазин. Вся глазеющая толпа ринулась к магазину и облепила стёкла «Океана», но два крупных мужика, неожиданно материализовавшихся из вечернего сумрака, негромко, но убедительно рявкнули:
– Освободить проход.
Все мы, как люди законопослушные, властью пуганые, но всё равно наглые, моментально забрались на сугроб, оттуда всё было видно ещё лучше, хоть и на полтора метра дальше. Из первой машины вышли два человека в демисезонных пальто и прошли в магазин, их сопровождали три двухметровых мужика, надо полагать, телохранители. Приехавшие, войдя в зал, пошли вдоль холодильников, главный иногда заглядывал в них, останавливаясь и беседуя с каким-то перепуганным кавказцем, судя по всему, с директором магазина, лицо которого было белее его ослепительно белого халата, не помогала даже характерная смугловатость. Когда они подошли поближе к нам, в главном мы узнали Председателя Совета Министров СССР Косыгина Алексея Николаевича, пройдя треть расстояния, Косыгин повернулся и, судя по всему, что-то сказал телохранителю, наша галёрка выдвинула предположение, что он велел охране не задерживать покупателей, похоже, так оно и было, потому что охранник в ответ на реплику развёл руки в стороны, повернулся вполоборота к покупателям, теснившимся у начала прохода, и сделал приглашающий жест. Но наш народ не так-то прост, никто не поддался на эту дешёвую провокацию, за исключением одной не в меру любопытной бабёнки. Знаем мы эти штучки. Типа проходите, проходите, пойдёшь, а там Косыгин – опа – и подставил свой ботинок лакированный, наступил на него случайно – и кирдык: или умысел на теракт накрутят, или порчу государственного имущества в особо крупном размере, ботинок-то дорогой, но он его не покупал, всё государственное. А там всё: суд, ссылка, тюрьма, Сибирь.
И покупатели молодцы, никто не дрогнул, стояли стеной, не моргая.
Телохранитель тоже своё дело знал нехило, типа проходите, проходите, но, сука, так раскорячился в проходе, что сперматозоид не протиснется, однако одна бабёнка всё ж таки пролезла. И так шустренько, в одно холодильное корыто нос сунула, потом в другое, и глядь, а она уже под мышкой у Председателя Совета Министров СССР шебаршит, чой-то ищет. Ну, Алексей Николаевич – известный демократ, поначалу, может быть, даже хотел склеить её, но потом смотрит – уж больно суетная, решил просто поговорить. Что-то её спрашивал, а она радостная такая, всё лыбилась и головой кивала. Видать, рассчитывала, что что-нибудь под шумок похлебить удастся, ну, там, балычка или икорки, да где там. Кончил с ней говорить, обошёл торговый зал, сел в Зил – и только его и видели.
На второй день тёща рассказала, что директору магазина руки закрутили и прям на одном из Зилов увезли на Лубянку. Ну, это враньё, с собой его никто не увозил, это точно, а вот то, что его в подвале в тазу с икрой утопили, это мы прямо самолично с сугроба видели.
Тогда только что прогремело масштабное уголовное дело под название «Океан», то ли в сети этих самых магазинов, то ли в рыбной отрасли, но тырили как-то не по чину, ну и как в песне: «тут гоп-стоп, облава, заштормило море, до свиданья, Клава, я вернуся вскоре».
Месяца через полтора-два стояли с пацанами, курили перед началом занятий и трепались в прихожей кафедры, был там такой небольшой «предбанничек», используемый в зимне-осенний период в качестве курилки (в наши времена курение на территории института не возбранялось), наша кафедра, как одна из старейших кафедр института, располагается в отдельно стоящем здании, находящемся во внутреннем дворе института. Преподы стояли там же, обсуждали, как им добыть чертежи и описание какой-то печи для нагрева заготовок, вдруг Кондратенко повернулся ко мне и спросил:
– Алек! А ты, помнится, говорил, что в НИИТавтопроме работаешь?
– Да, работаю.
– Слушай, там ваши печники спроектировали печь безокислительного нагрева в кипящем слое, очень интересный проект. Мы просили их поделиться – не дают, что-то жаба их душит. Не поможешь?
– Конечно, Владимир Григорьевич.
Тут интересы кафедры совпадали с моими – мне надо было делать курсовую по печам, и я решил совместить полезное с необходимым.
В НИИТавтопроме дать материал к курсовой работе студенту-вечернику было нормально, сроду никто не отказывал, и я на другой день заявился в отдел печей.
– Мужики, дайте материал на курсовую по печам.
– А где учишься?
Я назвал вуз.
– А тебя не доценты-проценты ваши оттуда прислали?
Я с честными глазами заявил:
– Нет, а что случилось?
– Да допекли. Всё проект наш хотят выцепить, письма пишут.
– А что, не защищён?
– Да нет, всё нормально. Одно авторское получили, за второе боремся с экспертизой.
– И в чём же дело? Почему не дать проект?
– А они, суки, Палычу отзыв плохой на работу дали.
– Хорошая работа?
– Работа-то говно, но чего козлить? Не нравится – вообще не присылайте.
– Понял, да мне на курсовой так, общий вид, описание какое-нибудь простенькое.
– Ладно, дадим, есть у нас вариант, для выставки готовили, там хрен кто разберётся.
Получив материалы, по номеру заказал в архиве через наш отдел две полных копии, одну себе для курсовой, другую отдал Кондратенко – он радовался как ребёнок.
С другой стороны, работа защищена патентом, а плыть в говно из-за отзыва – это как-то мелковато, тем более что отзыв-то справедливый.
Тут надо понимать, что в советские времена законодательно всё, что ты понапридумывал в рабочее время, решая производственные задачи, считалось собственностью государства. Да, ты являлся автором устройства, технологии, химической формулы, но права на них принадлежали государству – по логике вождей – ты ж создал это, работая над государственными заданиями, трудясь на государственном предприятии и получая при этом деньги от государства. Поэтому в государственных интересах всё, что создал один, принадлежит всем, государство-то у нас народное, как народ говорил: «Ты здесь хозяин, а не гость – тащи с завода каждый гвоздь». Считалось нормой написать письмо с просьбой об оказании технической помощи, и тебе выдавались необходимые чертежи и технологии, если, конечно, это не было гостайной. Собственно, поэтому внутри страны не было такой формы защиты авторского права, как патент, и формой защиты авторских прав в СССР являлось авторское свидетельство. По тем же причинам материальное вознаграждение авторам изобретений ограничивалось двумя процентами от экономического эффекта, полученного после внедрения изобретения, но не более десяти или двадцати (не помню точно) тысяч рублей по одному авторскому свидетельству.
Летом семьдесят четвёртого года сестра с мужем вернулись из Японии – у Жоры закончился срок командировки. Мы с Милкой и Мишкой снова переехали к тёще, что нас, конечно, мало порадовало, но приятным бонусом к нашему переезду было приглашение со стороны сестры и зятя провести отпуск совместно с ними – прокатиться на машине по Союзу. Дело было в том, что Георгий по возвращении на родину сразу приобрёл машину, и не какую-нибудь, а «Волгу». Мы согласились сразу – проехаться на новой «Волге», посетив Ленинград, Прибалтику, Одессу – да об этом можно было только мечтать. На работе, чтобы уйти в отпуск не по графику, я соврал, что жене предложили на работе горящие путёвки, так поступали все и всегда, когда рабочий график отпусков не совпадал с личным. Начальство всегда понимало, что его дурят, но закрывало глаза.
В последних числах июля ранним утром во дворе дома девяносто девять по проспекту Мира мы загрузили небольшой чемоданчик со своим барахлишком в необъятный багажник чёрной «Волги», где, кроме их внушительного саквояжа, лежали палатка, походный столик и четыре стульчика, запаска и куча прочего полезного хлама, сели в просторный автомобиль и рванули по Ленинградке по направлению к культурной столице.
Скоростной режим на дорогах был тогда несколько иным, Жора держал строго девяносто, решили остановиться по дороге в Новгороде, посмотрели кремль, заночевали, утром были в городе на Неве.
В силу специфики работы Гоши у него были знакомые во многих городах Союза, во всяком случае, поселили нас в «Европейской». Катька с Милкой сидели в машине, пока мы с Гутей (Гутя – это семейная кликуха Георгия) оформлялись, и полагая, что мы остановились вдвоём, нас с Жорой попытались снять гостиничные проститутки, но Жора жёстко пресёк вражеские поползновения.
В Ленинграде я был впервые, и до поездки, признаться, ни я, ни Людмила не ночевали в гостиницах ни разу, а уж попав в гостиничный номер со столетней историей, были поражены. Был он не очень комфортным, но впечатлял: старинная мебель, люстры, огромная ванная комната со стариной чугунной ванной в центре, светильники, ковры виды из окон.

