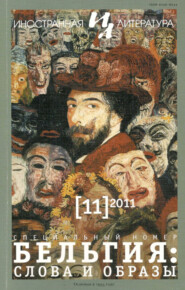
Полная версия:
Иностранная литература №11/2011
Однажды, в пятницу вечером, когда я ужинал у Жанны и, в очередной раз расклеившись, не смог сдержать рыданий, она дала мне хороший совет: когда у нее была депрессия, ее друг психолог порекомендовал ей садовничать. Сада у нее не было, но она стала выращивать цветы в горшках и развела великолепный зимний сад в самой солнечной комнате своей квартиры. В ней мы и сидели в тот вечер, и чистая, естественная красота комнатных роз, дурмана с ангельскими рожками цветов, завитков плюща и зелени вдохновила меня. Назавтра я встал пораньше, взял в подвале ржавый инвентарь, валявшийся там со времен родителей Николь, и пошел косить заросший сад.
Работе не было конца, а я чувствовал себя смешным и неуклюжим, и пришлось запеть, чтобы справиться с подступающими рыданиями. Пение-то и разбудило Изабеллу. Она распахнула окно, высунулась и весело окликнула меня. Всего через несколько минут она появилась в саду, одетая в старые брюки и старую белую рубашку – мою, в разноцветных брызгах краски, – на ногах резиновые сапоги, волосы распущены. Она натянула рабочие рукавицы – они были старые и непарные, это я хорошо помню: ей пришлось надеть две правых, вывернув одну наизнанку, – взяла вилы и принялась мне помогать.
Временами мы запевали вместе, все больше арии из итальянских опер, и соседка, мадам Каньяс, взобравшись на табурет или на лесенку, заглянула через стену в наш садик и завела с нами милую беседу. Она говорила, с глуповатым видом, вообще ей свойственным, как безумно любит музыку и с каким удовольствием, в хорошую погоду, когда Изабеллина игра слышна через открытое окно, слушает ее, сидя на стуле в своем саду.
Субботний денек выдался на диво. Мы закончили работу в сумерках, вышли поужинать пиццей в итальянском ресторане по соседству, и я уснул, едва коснувшись головой подушки.
Садовничать я скоро бросил, но чувствовал себя получше. Я словно очистился и теперь мало-мальски держался. Снова стал читать, а поскольку всегда ставил прочитанные книги одну за другой на полки, легко мог восстановить хронологию моего чтения и перечитывал их, начиная с самой первой, по порядку. Я воспроизводил последовательность десяти-двадцатилетней давности.
Однажды – я точно помню, что в тот день с ностальгическим чувством упивался “Впечатлениями” Верхарна, – трое моих старых друзей, Эмиль, Жанна и Макс, без предупреждения позвонили в мою дверь. Они были уверены, что застанут меня дома: я ведь теперь почти никуда не выходил. Мне было велено одеться и следовать за ними.
Все вчетвером, на машине Жанны, мы поехали к морю. Я немного удивился, но деваться было некуда. Макс изрядно набрался, он пил даже в машине, прямо из горлышка. Не отказался и я приложиться к его бутылке. Что-то витало в воздухе, что-то назревало.
4На пляже, среди дюн, под защитой рядов песчаного колосняка, мы походили то ли на компанию припозднившихся подростков, то ли на кружок заговорщиков.
Сидя на песке, мы не видели моря, но его шум звучал фоном к нашему разговору. Начал Макс. Эмиль и Жанна были уже в курсе.
Мне никогда не понять, зачем понадобилось, чтобы поговорить об этом, ехать к морю. Макс объяснил мне, что связался с комиссионером, работающим на одного видного коллекционера, – на кого именно, Макс не знал, но предполагал, что речь идет об Эрнсте Яхере. Он спросил, знаю ли я Яхера. Я знал, еще бы мне не знать. В Вене я копировал Веласкеса из его собраний. Но кто этот коллекционер, в конечном счете было не важно, дело предстояло иметь с комиссионером. Он, частый гость в магазине Макса, как-то обмолвился, что ищет хорошего копииста. Позже, когда оба прониклись доверием, клиент дал понять, что нужен ему скорее не копиист, а фальсификатор высшей пробы. Макс еще не говорил ему обо мне, но намекнул, что у него есть кое-кто на примете.
Слово “фальсификатор” неприятно резануло меня, и Макс это заметил. Он больше ни разу его не произнес, заменив “копиистом”. Впрочем, в моем угрюмо-безразличном состоянии обиды были подобны ударам в мягкий живот, тотчас же вновь принимающий свою обвислую и дряблую форму. Я и бровью не повел, продолжая собирать пальцами песок в бугорки, а Макс продолжал.
Комиссионеру требовалась, в сущности, безупречная кисть, способная создать ту или иную картину, которую можно было бы атрибутировать, приписав какому-нибудь художнику второго ряда, полного каталога и внятной биографии которого не имелось, и, стало быть, искусствоведы могли поверить в существование его неизвестных произведений. То есть речь шла не о копиях, а о создании новых картин “в точной стилистике такого-то”. Красноречивый Эмиль хотел, чтобы мы называли их “липой”.
Идея комиссионера была выставить эти новые картины на продажу и сделать таким образом деньги из ничего, деньги, на которые потом будут куплены более ценные, подлинные, полотна. План, умно придуманный с коммерческой точки зрения, – и старый как мир, если верить Максу, – был довольно трудновыполним технически. От меня, разумеется, не требовалось создание нового Моне, Рембрандта или Леонардо, что, без сомнения, привлекло бы внимание специалистов на международном уровне. Нет. Речь шла о художниках второстепенных.
“В общем, – подытожил я, – мне придется создавать посредственные картины”.
И Жанна ответила на это, как я понял позже, в высшей степени умно, что, наверно, и положило конец моим колебаниям: “Да, в этом-то и загвоздка”.
Нет, конечно же. Загвоздка, конечно же, была не в этом, но я в это отчасти поверил или, по крайней мере, поверил, будто они в это верят и боятся, что их предложению препятствуют, во-первых и в особенности, моя гениальность и гордость художника. Моральная сторона дела даже не затрагивалась. Как и вопрос законности. Хотите верьте, хотите нет, это так. Все, видимо, думали, что это не предмет для коллективного обсуждения и что каждый волен сам для себя решить, в какой мере его это касается. Говорили же в первую очередь о том, насколько унизительной для меня, мастера копий мастеров, будет эта черная работа по созданию произведений в плане эстетическом куда менее достойных, чем то, что я делал до сих пор.
Второй темой нашего разговора были технические трудности, насчет которых я их успокоил, – ибо был уверен, что мне это под силу, – а Макс взял на себя, как, впрочем, и Эмиль, и Жанна, все необходимые изыскания и прочую посильную помощь.
Выбравшись в кои-то веки к морю, мы поели мидий, прежде чем ехать назад в Брюссель, и Эмиль рассмешил всех, сказав, что поданные нам четыре Бротарса положат начало нашему богатству[20].
Обратный путь прошел в молчании, отчасти виной тому был плотный ужин, отчасти напряжение из-за этого нового замысла, который всех нас объединил и встревожил.
Сначала мы высадили Макса у его дома. Потом Эмиль с Жанной отвезли домой меня. Я предложил им выпить чаю, и они охотно согласились. Эмиль выкурил сигару длиной почти с его – уже седые – усы, а Жанна села за пианино. Помню, мне подумалось тогда, что Изабелла теперь играет несравненно лучше своей первой учительницы. И я вспомнил те далекие времена, первые уроки Изабеллы, ее ручонки, маленькие, но упорные, укротившие в конце концов огромные для них клавиши и заставившие петь красиво и верно этот инструмент, огромного кита, который мог бы легко проглотить четырех таких крох. Эмиль все восхищался портретом беременной Николь, висевшим теперь в этой комнате над пианино. Он бурно выражал мне свои восторги, повторяя, что моя кисть творит чудеса.
Когда они стали прощаться и Эмиль пошел за машиной, Жанна, поджидая его вместе со мной у дверей, поцеловала меня настоящим женским поцелуем. Подъехал Эмиль, она побежала к машине, скользнув по мне прощальным взглядом через плечо. Взревел мотор, и они укатили. Я ничего не чувствовал.
5На первое “дело” у нас ушло полгода. Я долго выбирал среди предложенных Эмилем и Максом имен, и решил написать полотно Эмиля Клауса[21]. Вернее, два полотна. Диптих, два антверпенских пейзажа: на первом коровы, бредущие через речку прямо на зрителя, с пастухами на заднем плане, на втором те же пастухи со спины и далеко за ними стадо, уходящее вглубь картины.
Эмиль был в восторге. Он-то и предложил композицию. Эмиль явно оказывал нарциссическое предпочтение великим людям, отзывавшимся на то же имя, что и он: усы он носил под Эмиля Верхарна, а его любимым художником был Эмиль Клаус. Он знал его, как никто, с юных лет читал все, что можно было о нем прочесть: каталоги выставок, исследования, статьи в прессе его времени, переписку – все без исключения.
Целью этой двойной работы было продать сначала первую картину, а вторую до поры придержать и позже выставить на продажу как парную к первой. Таким образом, если пройдет первая, по поводу второй сомнения отпадут, и цена ее повысится.
Подготовка и упражнения в стиле заняли два месяца. Само создание картин – по неделе на каждую с недельным перерывом между ними. Пока подсыхали краски, Макс связался с комиссионером, который явился за заказом не скоро, но пришел в восторг – Макс один имел с ним дела, нас из осторожности даже не знакомил – и заплатил наличными.
Макс поделил деньги, не уточняя, кому сколько причиталось. Я был более чем доволен – и даже слегка удивлен полученной суммой; думаю, что остальные тоже, и о цифрах никто не заговаривал. Мне, полагаю, достался самый большой куш; наверняка Макс не обделил и себя; гонорар Эмиля он, скорее всего, рассчитал по времени, затраченному на изыскания, а Жанна вряд ли получила много. Такая дележка была логичной и наиболее вероятной.
Работал я в своей мастерской на авеню Брюгманн. Изабелла не имела обыкновения заходить туда без меня, и опасаться мне было нечего. Я ее, разумеется, ни во что не посвятил, а она ни о чем таком не спрашивала.
Когда мы собрались “У Винсента”, чтобы отпраздновать наш первый успех, разговор зашел как раз об этом. Осторожность и еще раз осторожность – к этому призывали Макс и Жанна. Эмиль был настроен куда оптимистичнее и даже считал, что ничего не менять – самый верный способ не привлечь к себе внимания. Жанна и Макс вскинулись: у них-де, разумеется, и в мыслях не было, что Изабелла шпионит за мной или что ей нельзя безоговорочно доверять. Они только подумали, что, для ее же блага, ей надо быть от этого дела подальше. Тут я не мог с ними не согласиться, и, хотя этот разговор вчетвером о моей дочери за ее спиной был мне неприятен, они меня убедили. Я сказал, что придумаю что-нибудь. В конце концов, я пока еще хозяин в своем доме и волен поступать по своему усмотрению.
Комиссионер, в восторге от результата, – картины, правда, еще не были выставлены на продажу: он ждал благоприятного момента, – вновь оказал нам доверие. Макс сумел выбить у него аванс, который тут же поделил между нами, и мы предоставили ему, на сей раз через четыре месяца, внушительное полотно Анри де Гру[22]. Это была не живопись маслом, а пастель. Огромная пастель, 320 х 185 сантиметров. Де Гру – очень недооцененный художник, последователей и подражателей за ним не числится, так что атрибуция картины должна была пройти без сучка без задоринки. Комиссионер и на этот раз был в восторге.
Сюжет, кстати, запал мне в душу. Я сам выбирал из предложений Эмиля, который досконально изучил мир художника и его психологию. Я остановился на сражении троянцев и ахейцев за тело убитого Патрокла. Мне было нелегко отвлечься от образца, прочно сидевшего в памяти, – картины Вирца[23] на тот же сюжет, – но получилось вполне убедительно.
Комиссионер купил у Макса картину не торгуясь. И мы снова собрались “У Винсента”.
По следам этой пастели я сделал целый блокнот рисунков Леви-Дюрмера[24], отталкиваясь от существующих произведений и придумывая к ним наброски (например, очень удачно получились эскизы к портрету Роденбаха), а также создал ряд набросков, будто бы отбракованных художником в дальнейшем. Мы работали все быстрее.
6Мое тогдашнее состояние духа с трудом поддается описанию.
Я чудовищно много работал. И мне постоянно требовалась полная сосредоточенность. Любая помеха раздражала меня, а еще пуще раздражали замечания Макса и Эмиля. Одна Жанна воздерживалась от критики и, как правило, принимала мою сторону. Когда речь шла о копиях, я относился к таким вещам терпимее: ведь там был объективный критерий – максимально точное сходство с оригиналом. Но теперь решающую роль играла интуиция. Критические замечания – сугубо частные, надо признать, – Эмиля и Макса были основаны на том, что у каждого из них, естественно, имелась собственная концепция картины и впечатление, которое она должна произвести, и, если эта концепция в чем-то отличалась от моей, я полагал, что доверять следует самому компетентному человеку – художнику, сиречь мне. Комиссионер выражал восторги: чем не доказательство?
Доказательство еще более весомое убедило меня в моей правоте, когда мы узнали о продаже первого Эмиля Клауса. Его приобрел Национальный музей по цене, значительно превысившей и без того высокую оценку покупателей. Эксперты не высказали никаких сомнений, и музей воспользовался своим правом совершить преимущественную покупку.
Макс и Эмиль, однако, стояли на своем: успех успехом, а от ошибки никто не застрахован. Я спросил, уж не сомневаются ли они в моей гениальности? Или верят в меня только на словах? Мне послышалось, будто Макс хихикнул, и я взорвался бешеной, неукротимой яростью, бил кулаками по столу и стенам, как в тот день увольнения из школы, но все закончилось дружескими объятиями.
Что и говорить, я понимал: в нашем деле есть только один абсолютно незаменимый человек – я. Изыскания Макса, идеи Эмиля – для этого бы сгодился любой книгочей или “собрат по цеху”. А вот мое умение было куда большей редкостью. И в те времена, когда я делал легальные копии, у меня были лишь считаные единицы коллег и подлинных конкурентов. Один японец, два американских гиперреалиста, один португалец и еще пара-тройка, не больше. Теперь я тем более сознавал свое превосходство в нашей маленькой группе и порой, увы, проявлял черную неблагодарность к друзьям, без которых я никогда не стал бы тем, кем стал.
Меня поддерживала и Жанна, больше не скрывавшая своего восхищения. Она все чаще напрашивалась ко мне, целые дни проводила в мастерской, глядя, как я работаю. И я не возражал. Благодаря ей я экономил немало времени: она ходила покупать кисти и краски, какие я просил, стряпала, варила кофе, сортировала изрядное количество накопившихся у нас документов, книг, фотографий и набросков.
Мастерская уже становилась маловата для всего этого, и, когда я было решил задействовать и другие комнаты в доме, вновь зашла речь об Изабелле и соблюдении тайны нашего предприятия. Изабелла к тому времени начала давать частные уроки, и появление в доме посторонних – учеников, их родителей – стало дополнительным фактором риска. Я этих доводов не разделял и не собирался принимать каких-либо решений в угоду моим подельникам. Если я перееду, это будет только мой личный выбор.
Но все складывалось так, что именно моя личная ситуация требовала перемен. Изабелле исполнился двадцать один год, она заслуженно получила Первый приз в Консерватории, и теперь отец должен был помочь ей встать на ноги.
Я предложил снять ей квартиру. Она отказалась. Изабелла была слишком горда, чтобы жить на моем иждивении: за свое жилье она хотела платить сама. Беда в том, что несколько уроков не могли обеспечить ей самостоятельность. Профессия, о которой она мечтала, ради которой училась, была не из самых хлебных, особенно на первых порах. Она это знала и хотела сама отвечать за свой выбор. Думаю даже, что шаткое финансовое положение мешало ей влюбиться. Она, насколько я знаю, ни с кем не встречалась после Жан-Марка, видимо, именно потому, что боялась материальной зависимости. Я понимал ее амбиции, и она, хоть и была замкнута, порой даже робка, их от меня не скрывала: моя дочь хотела достичь больших высот, сделать карьеру солистки. Она без труда могла бы найти место преподавателя в музыкальной школе, но и слышать не желала о том, чтобы, как она сама жестко выразилась, “пасти детей”. А однажды даже дала мне понять, правда, очень осторожно, что не хочет, имея перед глазами мой пример, ради куска хлеба губить на корню свои шансы пробиться в музыкальный мир и сделать мечту явью, поэтому и речи быть не может о жалкой работе учителя. Для нее это был бы лицемерный отказ от своих чаяний. Скатывание вниз по наклонной плоскости.
Какой отец не обиделся бы, услышав такие слова из уст своего чада, ради которого он жил и всем пожертвовал? Но какой отец, достойный так называться, не переступил бы через личную обиду, оценив целеустремленность своего чада? Это была горькая пилюля. Я понял, что моя дочь в какой-то мере стыдится своего отца. Мне пришлось проглотить просившуюся на язык колкость, что-нибудь вроде: посмотрим, дочка, удастся ли тебе преуспеть больше. Но я совладал с собой, не только из любви к Изабелле, которая была выше всего этого (да позволь она себе куда большую неблагодарность, я простил бы ее в тот же миг), но и потому, что именно сейчас, когда она мне это сказала, я был в счастливой поре своей жизни, полагая, что на нынешней стезе и вправду стал единственным в своем роде и сумел раскрыть, развить истинную природу моих давних чаяний и моей судьбы художника. К чему величие, если оно не делает нас великодушными?
Итак, я восхищался твердым характером моей дочки, и мне хотелось ее поддержать. Она отказывается принять от меня плату за жилье? Что ж. Главное – не уязвить самолюбие, без которого артисту не состояться. Еще нужно предоставить ей, пусть и помимо ее воли, независимость и свободу, без которых артисту тоже не прожить. И наконец, необходимо удалить от нее постоянно пребывающего перед глазами отца, чей пример развивал в ней губительные для творчества комплексы.
Я поговорил об этом с Жанной у себя в мастерской, и она во всем со мной согласилась. Так родился мой план, который должен был удовлетворить всех.
Я солгал Изабелле, сказав ей, что Николь-де изъявила желание передать родительское наследство напрямую своей дочери и что, хотя мы не успели из-за ее преждевременной смерти при родах оформить необходимые бумаги у нотариуса, я, разумеется, исполню волю жены: я был лишь душеприказчиком Николь и все, чем она владела, принадлежит дочери. Таким образом, ей достался дом – я написал на него дарственную, – а также небольшой капитал, который я предложил переводить ей в форме помесячной ренты. Это денежное наследство было, разумеется, чистой фикцией, на самом деле я взялся выплачивать ей ежемесячно из собственного кармана сумму, которую мог себе позволить при моем нестабильном финансовом положении.
Изабелла приняла все это не моргнув глазом. Только напомнила, что ничего у меня не просила.
Затем я сказал, что решил переехать. По целому ряду причин. Во-первых, моя мастерская меня больше не устраивала, мне нужно было больше места и, главное, другой свет: этот чисто художественный довод должен был убедить ее верней всего остального. И потом, я чувствовал в этом личную, психологическую, скажем так, необходимость. Я нуждался в переменах, чтобы легче пережить неизбежные этапы жизни: и мои годы, и ее. Напоследок я заговорил о желании всецело посвятить себя живописи.
Все прошло без сучка без задоринки. Уж не знаю, что творилось в душе Изабеллы, но решение мое она одобрила. Только настаивала на том, что меня никто не гонит, что я волен всегда чувствовать себя у нее как дома и что это ничего не изменит в наших отношениях. Я пообещал – и принялся искать квартиру.
7Наверно, что-то подсознательно и неудержимо влекло меня к морю. Быть может, моя неумеренная любовь к Энсору[25].
Как бы то ни было, я нашел – вернее, нашла Жанна – большую мастерскую, которая могла служить одновременно и жильем, в Остенде, с видом на город спереди, а сзади, из мансарды, – на бескрайнюю серую гладь Северного моря. Этаж был последний. Одна стена была целиком застеклена вместе с частью крыши.
Изоляция – да и вообще комфорт – были весьма условны. Пол просто залит бетоном, на котором отпечатались следы, – вероятно, рабочих. В деревянной мансарде, куда вела лесенка, я поставил кровать. В углу мастерской оборудовал примитивную кухню; был и туалет, скрытый ненадежной перегородкой, а рядом с ним душ.
Первым элементом обстановки стала моя картина-талисман, тот самый Рик Ваутерс для бедных, портрет беременной Николь. Потом, за несколько поездок на Жанниной машине, мы привезли архивы, холсты и краски, мои юношеские картины – картин зрелой поры у меня практически не было, все они писались на продажу – и книги.
Мой переезд, естественно, порадовал всех. Макс одобрял мое благоразумное решение и говорил, что я вдобавок наконец-то получил достойное место для работы. Эмиль тоже был доволен, разве что не выражал этого столь явно, так как у него как раз случилась черная полоса в жизни. Он тогда продал свой магазин, вернее сказать, просто ликвидировал его, потому что так и не нашел покупателя. Когда у тебя нет ни жены, ни детей, ни творчества, трудно пережить тот факт, что никому не интересно дело всей твоей жизни. Он был в ту пору желчен и обидчив. И особенно раздражался, стоило Жанне открыть рот.
Жанна же, само собой, была в восторге, ведь это она нашла такое удачное предложение. Она любила море больше всего на свете и спрашивала меня, может ли рассчитывать время от времени на мою мастерскую как и на свое пристанище.
Мне пришлось тщательно спрятать все “улики”, когда я пригласил Изабеллу навестить меня в моем новом жилище. И, по понятным причинам, я не мог дать ей ключ и сказать, что она может быть здесь хозяйкой и чувствовать себя как дома.
Это было печально. Так или иначе, вечер все равно не удался. Нам почти нечего было друг другу сказать, и она уехала последним поездом. Я проводил ее на вокзал и махал с перрона, пока огни состава не скрылись в ночи.
Когда я возвращался в мастерскую по пустынным улицам городка, где еще мало что знал, странно невесомого на рубеже бесконечной малости страны и безбрежной величины моря, глубокая грусть и необоримая тоска, как и следовало ожидать, одолели меня. Я понял, что у меня есть только один выбор: лить слезы или действовать. Отступить, вернуться домой, бросить все и снова стать стареющим ребенком, пленником прошлого, – или идти вперед не оглядываясь, как в мои далекие двадцать, не быть ничем связанным и думать только о себе. Изабелла больше не нуждается в моей заботе – скорее наоборот. Ей нужен кто-то, кто подал бы ей пример жизни независимой и свободной, без трусливых уступок общественным условностям и моральным барьерам. Пора было и мне стать молодым – молодым, как она, и жить, рискуя.
8Я работал, как одержимый.
Жанна поселилась у меня, и я, хоть и жил монахом, благодаря ее вошедшему в обычай постоянному присутствию, равно как и новому остендскому свету, чувствовал, что вступил в новую полосу жизни, перешел в новое измерение, в котором был в каком-то смысле молод, несмотря на морщины и седые виски.
Жанна тоже как будто ожила. Она ходила купаться каждое утро, в любую погоду, одевалась и причесывалась теперь с легкой небрежностью, волосы перекрасила, и новый цвет ей очень шел. Она была из тех женщин, что в пятьдесят выглядят лучше, чем в двадцать пять.
Жанна привезла из Брюсселя свое пианино и играла на нем каждый день. Играла она хуже, чем Изабелла, но я привык и даже находил в ее игре что-то такое, чего не было у Изабеллы: возможно, это приходит только с годами. Любую пьесу или сонату она играла будто в последний раз, то была красота чрезмерно распустившегося цветка, который – знаешь точно – к утру завянет и осыплется.
Жанна изумительно готовила, отдавая предпочтение блюдам азиатской кухни, которые часто наполняли холодный свет мастерской теплом затейливых и аппетитных запахов.
Ко мне возвращалась былая физическая сила. Я плавал вместе с Жанной каждое утро в бодрящей морской воде, а днем, когда солнце нагревало стеклянную крышу мастерской, писал, раздевшись до пояса. Мне нежданно открылось, что живопись подобна борьбе, и в собственных картинах, которые вновь стал писать, я предпочитал теперь краски погуще и формат побольше; кистью я атаковал холст.
Грудь у меня была вечно забрызгана красками, и вечерами, у телевизора, видно, за неимением лучшего, Жанна забавлялась, соскребая их ногтем.
Вскоре я завел два разных мольберта: один для моих собственных картин, другой, где кисти и краски были подобраны тщательнее, тоньше, разнообразнее, – для моих фальшивок. Занимался я тем и другим параллельно.
Жанна сетовала, что я никогда не брал ее в натурщицы. А я и не писал людей. Только морские пейзажи и цветы. В связи с ее неудовлетворенностью и случилось одно событие.
Мы решили на сей раз подделать Альфреда Стевенса. Лучшим сюжетом для беспрепятственной атрибуции был, разумеется, портрет элегантной дамы в атласном платье рядом с букетом привядших цветов. Было задумано оставить картину незаконченной, чтобы публику не отпугивал тот факт, что она не упоминается в каталогах художника. Было также решено не подписывать ее, чтобы атрибуция авторства стала делом экспертов и результатом стилистического анализа.

