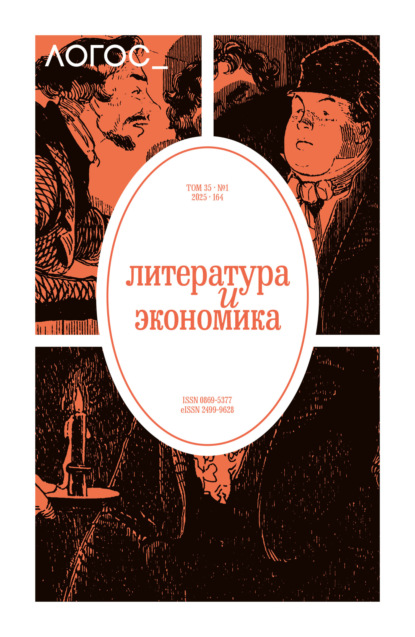
Полная версия:
Журнал «Логос» №1/2025
Беспрозванный В. Г., Пермяков Е. В. Из комментариев к первому тому «Мертвых душ» // Тартуские тетради. М.: ОГИ, 2005. С. 156–177.
Боровой С. Я. О реально-исторической основе сюжета «Мертвых душ» // Вопросы литературы. 1966. № 4. С. 251–252.
Гиляровский В. А. В Гоголевщине // Русская мысль. 1902. Кн. 1.
Гоголь Н. В. Мертвые души. Т. 1 // Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1. С. 5–232.
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: АН СССР, 1937–1952.
Гоголь Н. В. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Изд. 2-е. М.: Университетская типография, 1846.
Данилевский Г. П. Г. Ф. Квитка-Основьяненко (Г. Ф. Квитка). Материалы для истории украинской литературы. Статья первая // Отечественные записки. 1855. № 11. С. 41–44.
Дмитриева Е. Е. Второй том «Мертвых душ»: замыслы и домыслы. М.: НЛО, 2023.
Инграо Б. Экономика и литература // Versus. 2022. № 1. С. 6–42.
Киселюте И. Литература и экономика: еще один способ прочтения текста // Respectus Philologicus. 2015. Vol. 28. № 33. С. 31–40.
Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1985. Т. 1. С. 300–363.
Макеев М. С. Николай Некрасов: поэт и предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики). М.: Макс Пресс, 2009.
Манн Ю. В. В поисках живой души. «Мертвые души». Писатель – критика – читатель. 2-е изд., испр. и доп. М.: Книга, 1987.
Манн Ю. В. Творчество Гоголя: смысл и форма. СПб.: СПбГУ, 2007.
Набоков В. В. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М.: Независимая газета, 2001.
Портер Д. Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература). СПб.: Библиороссика / Academic Studies Press, 2021.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч., 1837–1937: В 16 т. М.; Л.: АН СССР, 1937–1959.
Пушкин и финансы / Сост. и науч. ред. А. А. Белых. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2022.
«Разговор с фининспектором о поэзии» Владимира Маяковского: Факсимильное издание. Исследование. Комментарий / Сост. и науч. ред. А. А. Россомахин. СПб.: ЕУСПб, 2022.
Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина, 1826–1837: В 3 т. / Сост. Г. И. Долдобанов, под науч. ред. А. А.Макарова. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001–2016.
Чиркова Е. В. От золотого тельца до «Золотого теленка». М.: АСТ, 2018.
Шевцова Н. В. Экономический дискурс в статьях о творчестве Н. В. Гоголя (по материалам современной отечественной периодики) // Знак. Проблемное поле медиаобразования. 2011. № 1 (7). С. 87–90.
Economics and Literature. A Comparative and Interdisciplinary Approach / C. Akdere, Ch. Baron (eds). L.: Routledge, 2017.
Stilman L. Gogol / G. Stilman (ed.). Tenafly, NJ: Hermitage, 1990.
The New Economic Criticism: Studies at the Interface of Literature and Economics / M. Woodmansee, M. Osteen (eds). N.Y.: Routledge, 1999.
Woodward J. B. Gogol’s Dead Souls. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.
THE ECONOMY OF DEAD SOULSAndrei Belykh. Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia, abelykh@inbox.ru.
Keywords: Nikolai Gogol; Dead Souls; Pavel Chichikov; choronotope; business plan.
This article investigates economic aspects of Nikolai Gogol’s Dead Souls based on the pragmatic triad consisting of such components as the author – the text – the reader. The reader, being an investigator, can perceive the text independently and analyze the actions of the characters as if they took place in real life. Pavel Chichikov’s project of purchasing dead souls is considered as a standard investment project which can be analyzed accordingly. Gogol was not planning to describe a certain town at a certain time. However, the text itself gives enough information to conclude that the novel is set in Pskov in the beginning of the 1830s and spans three weeks. Chichikov’s aim is to accumulate collateral sufficient to apply for a loan to the Treasury, so called Sokhrannaya Kazna. During intervals between population census dead peasants continued to be registered as alive, and for banks these were the documents that really mattered. Chichikov was planning to buy dead souls for a bargain price, to mortgage them in a bank and to receive a loan of 200 roubles for a soul.
Overall, Chichikov became the owner of nearly 400 souls (our estimation shows that in fact there were 395 souls). Manilov transferred him souls as a gift. Korobochka received from Chichikov 16 roubles, Sobakevich – 187 roubles and 50 kopeks (according to our calculation), Plushkin – 24 roubles and 96 kopeks. Total Chichikov’s purchase costs were about 228 roubles. A simple calculation shows that with 395 souls bought for 228 roubles an average price for one soul was 58 kopeks. Expenditures for registration were 412 roubles. Adding the bribe, he had to give to an official, that was 437 roubles, which exceeded the sum he spent for purchasing dead souls. If we consider that the Treasury’s commission amounted to 1.5 % of the loan, Chichikov could have received 77 815 roubles, which makes it a perfect bargain. However, Chichikov made serious mistakes. His marketing was too much aggressive – he should not have had dealings with Korobochka and Nozdrjov. Above all, he should not have stayed in the town after having registered his purchases. As a result, the truth was revealed due to the leak of information about the purchase of dead souls. Chichikov had to leave the town in great haste. Judging from the remaining chapters of the second volume of Dead Souls, the project of receiving a loan was not completed.
DOI: 10.17323/0869-5377-2025-1-1-27
ReferencesAnnenkov P. N. V. Gogol’ v Rime letom 1841 goda [N. V. Gogol in Rome in the Summer of 1841]. Literaturnye vospominaniia [Literary Memoirs], Moscow, Khudozhestvennaya Literatura, 1983, pp. 34–120.
Annensky I. Khudozhestvennyi idealizm Gogolia [Gogol’s Artistic Idealism]. Knigi otrazhenii [Books of Reflections], Moscow, Nauka, 1979, pp. 216–225.
Bartenev P. Biografiia A. S. Pushkina. Ch. V [Biography of A. S. Pushkin. Pt. V]. Russkaia starina [Russian Antiquity], 1880, no. 5, pp. 79–80.
Belykh A. Mog li Pushkin vernut’ dolgi? [Could Pushkin Repay His Debts?]. Ekonomicheskaya Politika, 2019, vol. 14, no. 3, pp. 176–191.
Belykh A. Uroki Gogolia – analiz biznes-plana Chichikova [Gogol’s Experience: Chichikov’s Business Plan]. Economic Policy, 2009, no. 2, pp. 148–149.
Besprozvannyi V., Permiakov E. Iz kommentariev k pervomu tomu “Mertvykh dush” [From the Comments on the First Volume of “Dead Souls”]. Tartuskie tetradi, Moscow, OGI, 2005, pp. 156–177.
Borovoi S. O real’no-istoricheskoi osnove siuzheta “Mertvykh dush” [On the Real-Historical Basis of the Plot of “Dead Souls”]. Voprosy literatury, 1966, no. 4, pp. 251–252.
Chirkova E. Ot zolotogo tel’tsa do “Zolotogo telenka” [From Golden Calf to“ The Golden Calf”], Moscow, AST, 2018.
Danilevskii G. G. F. Kvitka-Osnov’ianenko (G. F. Kvitka). Materialy dlia istorii ukrainskoi literatury. Stat’ia pervaia [G. F. Kvitka-Osnovianenko (G. F. Kvitka). Materials for the History of Ukrainian Literature. Article One]. Otechestvennye zapiski, 1855, no. 11, pp. 41–44.
Dmitrieva E. Vtoroi tom “Mertvykh dush”: zamysly i domysly [The Second Volume of the Dead Souls: Plans and Conjectures], Moscow, NLO, 2023.
Economics and Literature. A Comparative and Interdisciplinary Approach (eds С. Akdere, Ch. Baron), London, Routledge, 2017.
Giliarovskii V. V Gogolevshchine [In Gogol’s Land]. Russkaia mysl’ [Russian Mind], 1902, bk. 1.
Gogol N. Mertvye dushi. T. 1 [Dead souls. Vol. 1]. Polnoe sobranie sochinenii i pisem: V 23 tomakh [Full Collection of Works and Letters: In 23 Volumes], Moscow, Nauka, 2012, vol. 7, bk. 1, pp. 5–232.
Gogol N. Pokhozhdeniia Chichikova, ili Mertvye dushi. Izd. 2-e [The Adventures of Chichikov, or Dead Souls. 2nd Ed.], Moscow, Universitetskaia tipografiia, 1846.
Gogol N. Polnoe sobranie sochinenii: V 14 tomakh [Full Collection of Works: In 14 Volumes], Moscow, Leningrad, Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1937–1952.
Ingrao B. Ekonomika i literatura [Economics and Literature]. Versus, 2022, no. 1,pp. 6–42.
Khronika zhizni i tvorchestva A. S. Pushkina, 1826–1837: V 3 t. [Chronicle of the Life and Work of A. S. Pushkin, 1826–1837: In 3 Volumes], Moscow, IWL RAS Publishing, Nasledie, 2001–2016.
Kisieliūtė I. Literatura i ekonomika: eshche odin sposob prochteniia teksta [Literature and Economics: One More Way to Read the Text]. Respectus Philologicus, 2015, vol. 28, no. 33, pp. 31–40.
Liprandi I. Iz dnevnika i vospominanii [From the Diary and Memoirs]. A. S. Pushkin v vospominaniiakh sovremennikov: V 2 tomakh [A. S. Pushkin in the Memoirs of Contemporaries: In 2 Volumes], Moscow, Khudozhestvennaya Literatura, 1985, vol. 1, pp. 300–363.
Makeev M. Nikolai Nekrasov: poet i predprinimatel’ [Nikolay Nekrasov: Poet and Entrepreneur], Moscow, Maks Press, 2009.
Mann Iu. Tvorchestvo Gogolia: smysl i forma [Gogol’s Creativity. Meaning and Form], St. Petersburg, SPbU Publishing House, 2007.
Mann Iu. V poiskakh zhivoi dushi. “Mertvye dushi”. Pisatel’ – kritika – chitatel’. 2- e izd., ispr. i dop. [In Search of a Living Soul. Dead Souls. Writer – Criticism – Reader. 2nd Ed, Revised With Supplement], Moscow, Kniga, 1987.
Nabokov V. Lektsii po russkoi literature. Chekhov, Dostoevskii, Gogol’, Gor’kii, Tolstoi, Turgenev [Lectures on Russian Literature. Chekhov, Dostoevsky, Gogol, Gorky, Tolstoy, Turgenev], Moscow, Nezavisimaia gazeta, 2001.
Porter J. Ekonomika chuvstv. Russkaia literatura epokhi Nikolaia I (Politicheskaia ekonomiia i literatura) [Economies of Feeling: Russian Literature Under Nicholas I (Northwestern University Press Studies in Russian Literature and Theory)], St. Petersburg, BiblioRossica / Academic Studies Press, 2021.
Pushkin A. Polnoe sobranie sochinenii, 1837–1937: V 16 tomakh [Full Collection of Works, 1837–1937: In 16 Volumes], Moscow, Leningrad, Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1937–1959.
Pushkin i finansy [Pushkin and Finance] (ed. A. Belykh), Moscow, Delo Publishers of RANEPA, 2022.
Razgovor s fininspektorom o poezii Vladimira Maiakovskogo [A Conversation With the Finance Inspector About the Poetry of Vladimir Mayakovsky] (ed.A. Rossomakhin), St. Petersburg, EUSP Press, 2022.
Shevtsova N. Ekonomicheskii diskurs v stat’iakh o tvorchestve N. V. Gogolia (po materialam sovremennoi otechestvennoi periodiki) [Economic Discourse in Articles About the Work of N. V. Gogol (Based on the Materials of Modern Russian Periodicals)]. Znak: problemnoe pole mediaobrazovanija, 2011,no. 1 (7), pp. 87–90.
Stilman L. Gogol (ed. G. Stilman), Tenafly, NJ, Hermitage, 1990.
The New Economic Criticism: Studies at the Interface of Literature and Economics (eds M. Woodmansee, M. Osteen), New York, Routledge, 1999.
Woodward J. B. Gogol’s Dead Souls, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1978.
Экономика как интерфейс живого и мертвого: сержант Курилкин и капитан Копейкин
Александр Погребняк
Памяти Александра Исакова (1957–2024)
Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО); Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
Санкт-Петербург, Россия, aapogrebnyak@gmail.com.
Ключевые слова: экономика; стоимость; живое; мертвое; сержант Курилкин; капитан Копейкин.
В статье выдвигается гипотеза о наличии смысловой связи между «Гробовщиком» Александра Пушкина и «Мертвыми душами» Николая Гоголя. Темой обоих произведений выступает не столько вопрос о жизни и смерти человека, сколько то, каким образом этот вопрос соотносится с законами капиталистической экономики. Как известно, Карл Маркс будет определять капитал как мертвый труд, который, подобно вампиру, питается живым трудом. В этом смысле можно говорить об экономике как об интерфейсе между жизнью и смертью. Автор статьи показывает, что на дотеоретическом уровне подобное заключение еще до Маркса сделали Пушкин и Гоголь.
Гробовщик Адриан Прохоров и авантюрист Павел Чичиков (главные герои повести Пушкина и поэмы Гоголя) принадлежат к тому типу предпринимателей, чей бизнес базируется на вовлечении мертвецов в процесс товарно-денежного обращения. В рамках этого процесса как живые, так и мертвые представляют интерес лишь как источники стоимости, «спасение» которой и есть единственная цель капитала. В этом контексте становится ясна функция двух призрачных персонажей – сержанта Курилкина в «Гробовщике» и капитана Копейкина в «Мертвых душах»: оба они ставят вопрос о жизни по ту сторону стоимости.
В эссе, озаглавленном «Гея и Хтония» и опубликованном на сайте Quodlibet 28 декабря 2020 года, Джорджо Агамбен пишет об актуальности опыта этрусской культуры для настоящего момента и в целом для современности. Причина – в особом отношении этого народа к хтоническому измерению существования; в отличие от нашего, это отношение предполагает практику непрерывного обмена и что-то вроде интерфейса между биосферой и «танатосферой», то есть между поверхностью, где человек осваивает и присваивает среду обитания, и той глубиной, которой он сам принадлежит. Современность же открещивается от Хтонии и в то же время ее эксплуатирует, признавая лишь интересы Геи, с чьей позиции глубина – это всегда только недра с полезными ресурсами, а смерть – чисто негативное измерение жизни, которое должно быть вытеснено из мира живущих как источник страха и тревоги (при том что эти аффекты как раз и возникают как реакция на подобное непризнание возможности сообщества, со-бытия живых и мертвых). Что до этрусков, то, подчеркивает Агамбен, неверно считать, что они предпочитали мертвое живому – просто они не изолировали жизнь от ее связи с глубинным, хтоническим измерением:
По этой причине в гробницах, высеченных в скале, или в курганах нам не только приходится иметь дело с мертвыми, мы не только представляем тела, лежащие в пустых саркофагах, но мы вместе с тем ощущаем шаги, жесты и желания живых людей, которые их построили. Что жизнь тем милее, чем нежнее она хранит в себе память о Хтонии, что можно построить цивилизацию, никогда не исключая мир мертвых, что между настоящим и прошлым, между живыми и мертвыми существует интенсивное общение и непрерывная преемственность – таково наследие, которое этот народ передал человечеству[65].
На основе этого утверждения становится возможным более адекватное, признающее права Хтонии понимание некоторых сюжетов, связанных со своеобразной зачарованностью живых мертвыми, возникающей по той причине, что связь между ними не прерывается и не должна прерываться. Вот, например, в фильме «Туманные звезды Большой Медведицы» (1965) Лукино Висконти показывает драматические отношения брата и сестры, где инцестуозное влечение переплетается с верностью памяти их отца, погибшего (возможно, по доносу их нынешнего отчима) в Освенциме, и неслучайно местом действия избрана Вольтерра – древний город этрусков, в музеях которого хранится множество саркофагов (в одной сцене они используются в качестве фона) и которому, что еще более важно, самому грозит обрушение в Хтон вследствие эрозии почв, на которых этот город воздвигнут. Все действующие лица желают брату и сестре (в качестве их личного, а также, конечно, и общего блага) лишь одного – порвать ту нить, что связывает их жизнь с подземным, пещерным измерением, превращающим их в неких монстров, и освободиться для нормальных (на самом деле нормативных) отношений в настоящем и будущем, превратив прошлое в ценный ресурс «исторической памяти» (отец – выдающийся ученый, которому благодарные сограждане устанавливают памятник; отношения брата и сестры – сюжет для успешного «автофикшена» и т. п.); короче, необходимо примириться, предать забвению, совершить работу траура – с тем, чтобы позитивно использовать «энергию недр», блокируя ее негативные проявления (в чем сходятся позиции патриархального итальянца и либерально настроенного американца – отчима и мужа главной героини).
Человек современности, говорит Агамбен, решает, что то, что ему нужно от Хтонии, чтобы комфортно обустраивать свою жизнь на Гее, – это прежде всего нефть, то есть ископаемые останки миллионов существ, которые жили в прошлом; впрочем, итогом возрастающего потребления нефти становится растущее загрязнение и опустошение Геи. Однако не следует забывать, что экономика современного мира потребляет не только останки доисторических организмов, умерших как-никак естественной смертью; она, как показал еще в XIX столетии Карл Маркс, строится в первую очередь на потреблении человеческой рабочей силы, при том что потребление это осуществляется в форме непрерывного превращения живого труда в труд мертвый, овеществленный, когда процесс человеческой жизни подчиняется ритму и логике процесса «самовозрастания» стоимости, который столь же далек от подлинной жизни, как процесс превращения нефти в энергию. В месте соединения Геи и Хтонии – в месте того самого mundus, круглого отверстия, «которое, согласно легенде, было вырыто Ромулом во время основания Рима, служило для общения мира живых с хтоническим миром мертвых»[66], – произведено третье измерение, как если бы между миром живых и миром мертвых был еще мир мертвых живых, как эффект своеобразной проекции Геи на Хтонию: мир производства, примыкающий к миру обращения «снизу» как источник жизни, но не сама жизнь[67]. Маркс описывает это, используя вполне «геохтонические» образы:
Процесс потребления рабочей силы есть в то же время процесс производства товара и прибавочной стоимости. Потребление рабочей силы, как и всякого другого товара, совершается за пределами рынка, или сферы обращения. Оставим поэтому эту шумную сферу, где все происходит на поверхности и на глазах у всех людей, и вместе с владельцем денег и владельцем рабочей силы спустимся в сокровенные недра производства, у входа в которые написано: No admittance except on business [Посторонним вход воспрещен][68].
В своей критике политической экономии Маркс концептуализирует то, что уже давно носится в воздухе («Призрак бродит по Европе…») и что на дотеоретическом уровне осмысляется не в последнюю очередь писателями и поэтами – ведь, как скажет Морис Бланшо,
… в литературном произведении можно выразить мысли столь же трудные и столь же абстрактные по форме, как и в философском труде, но при условии, что они будут еще не продуманы[69].
Воспримем эти слова как методическое указание и попробуем разыскать «этрусский след» у Пушкина и Гоголя, которые оба уже думали о капитализме (пусть и не называя его так), хотя «еще не продумали» его основания в эксплицитной и систематической форме.
* * *Тот факт, что сюжет «Мертвых душ» был подсказан Гоголю Пушкиным, не может не провоцировать размышления о том, какие конкретно моменты и мотивы могли лечь в основу того смыслового поля, которое заставляет коммуницировать тексты обоих авторов, как если бы они явно или неявно, согласно или несогласно друг с другом разрабатывали некую общую проблематику[70]. Так, Юрий Лотман в одной из своих работ утверждает, что одним из таких конкретных мотивов мог бы быть тип джентльмена-разбойника, воплощенный Гоголем (в демонстративно измельченной, сниженной, антиромантической форме) в фигуре Павла Чичикова, который, в свою очередь, отражается, вопреки, казалось бы, полному с ним несходству, в образе капитана Копейкина. (Отметим сразу же, что зачарованность чиновников города NN рассказом о капитане Копейкине, до самого конца не сомневающихся, что речь в ней идет не о ком ином, как о Чичикове, придает всей сцене характер сновидения: именно во сне мы можем, вопреки очевидному несходству, верить, что речь идет тем не менее именно о том самом лице или предмете.) Дело, конечно же, в том, что за внешним несходством кроется сходство внутреннее, идейное; так, Лотман пишет, что связь Чичикова с разбойником глубока и органична, поскольку
… не случайно фамилия Копейкина невольно ассоциируется с основным лозунгом его жизни: «Копи копейку»[, ведь] …гимн копейке – единственное родовое наследство Чичикова[71].
Что же касается самого Копейкина, то его реальным прототипом Лотман считает Федора Орлова – историческое лицо, героя Отечественной войны 1812 года, потерявшего ногу в сражении под Бауценом, которого Пушкин собирался ввести в свой роман «Русский Пелам» в образе «хромоногого, на деревянной ноге, разбойника» (при этом, отмечает Лотман, «работа над „Русским Пеламом“ совпадала с временем наиболее интенсивного общения Пушкина и Гоголя»[72]). Однако Юрий Манн ставит под сомнение версию Лотмана, предлагая увидеть в «Повести о капитане Копейкине» сложное преломление и переплетение «…разнородных импульсов, исходивших от реальных и литературно-фольклорных истоков ее героя», обзор которых он приводит в своей статье «Капитан Копейкин и его предшественники»[73].
Но ведь разговор об общем для Гоголя и Пушкина смысловом поле вовсе не обязан сводиться к выяснению их фактического обмена позициями, идеями, импульсами и т. п.; рефлексия смысловых взаимосвязей может осуществляться без опоры на сведения о фактах, отсылающих к внетекстовой, исторической реальности. Например, почему ни Лотман, ни Манн, говоря о «пушкинском истоке» сюжета «Мертвых душ», не упоминают пушкинского «Гробовщика» и не считают нужным задаться вопросом о том, есть ли нечто общее между такими персонажами, как сержант Курилкин и капитан Копейкин? Конечно, может показаться, что здесь имеет место просто случайное созвучие двух имен – хотя даже в этом случае трудно представить себе, что в сознании Гоголя имя обиженного инвалида ни разу не срифмовалось с именем – также, кстати говоря, обманутого – ожившего скелета из пушкинской повести; но, возможно, есть основания полагать, что за этим поверхностным сходством обнаруживается глубинное сродство, позволяющее трактовать «Гробовщика» и «Мертвые души» (с акцентом на «Повести о капитане Копейкине») как связанные процессом разработки некой общей для двух авторов проблематики.
Темой, соединяющей оба произведения, служит не просто вопрос о соотношении мира живых и мира мертвых, но то, каким образом этот вопрос ставится в плане экономики – но уже не столько как экономии в сакральном, религиозном смысле этого слова, где под ней понимается душеспасительный промысел, в основе которого лежит историческое событие боговоплощения (oikonomia раннехристианских богословов), сколько как экономики в сугубо мирском, современном смысле слова – то есть экономики капиталистической. Конечно, как покажет Маркс, религиозное ядро экономики не пропадает, и задача критики состоит в том, чтобы обнаружить скрытого в ней «бога» – то есть занявший его место капитал, миссия которого состоит в «спасении» стоимости, этой «души» любого товара. Но разве не к товарной форме человеческих отношений – а, говоря точнее, к ее способности пересекать границу, отделяющую живых от мертвых, – всеми силами пытаются привлечь наше внимание Пушкин и Гоголь?
В случае Пушкина парадигматическим товаром оказывается гроб – к нему в полной мере могут быть применены знаменитые слова автора «Капитала» о том, что, как гроб (у Маркса – стол), он
… остается деревом – обыденной, чувственно воспринимаемой вещью[, но] …как только он делается товаром, он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь[, становясь] …перед лицом всех других товаров на голову, и эта его деревянная башка порождает причуды, в которых гораздо больше удивительного, чем если бы он пустился по собственному почину танцевать[74].
Разумеется, речь идет о «мистическом» характере любого товара, просто потому, что это товар; Маркс использует пример стола, чтобы показать, как в способе существования всякого товара обнаруживается нечто от столоверчения, – и точно так же, вслед за Пушкиным, мы можем видеть, что во всяком товаре есть нечто от гроба в том смысле, что последний является метонимией человеческого субъекта в его пограничном состоянии, пребывании в зоне между жизнью и смертью.
Способность гроба как товара (и товара как гроба) многократно и в обоих направлениях пересекать границу жизни и смерти подчеркивается в тексте «Гробовщика» замечательными остротами. Это, например, информация на вывеске над воротами жилища главного героя: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются напрокат и починяются старые»[75]; а также – знаменательные фразы, которыми обмениваются между собой гробовщик Адриан Прохоров, только что переехавший в новый дом, и сапожник Готлиб Шульц, зашедший познакомиться с новым соседом и по случаю пригласить его на свою серебряную свадьбу:



