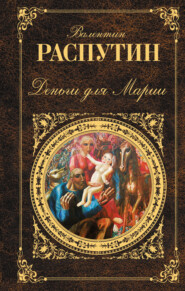
Полная версия:
Деньги для Марии: повести, рассказы
Иван Савельевич сделал полагавшуюся паузу. Светка, откинувшись на спинку дивана, смотрела на него во все глаза, голые ее пятки, высовывающиеся из босоножек и едва касающиеся пола, выплясывали нервную чечетку. Дуся, вытягивая шею и морща от напряжения нос, пыталась поймать себя в висящем над диваном зеркале. Анатолий спросил:
– Перевернулись?
– Шитик отбросило метра за три от нашего карбаза и перевернуло. Мотор оторвало, Ефроим вынырнул еще дальше. Я, как испуг отхлынул, соображаю: если Ефроима к себе в лодку из воды поднять, он, чего доброго, и меня, и парнишку поскидает в Ангару. Испуг отхлынул, злость прихлынула: ты хотел, чтобы я слабость свою перед тобой показал – на же: подгребаюсь к нему, сбрасываю конец, чтоб ухватился, и плавом, как бревно, тяну к берегу. Таким вот манером и доставил. В ангарской водичке он присмирел, едва на берег выполз. Хотел еще зуботычину дать, да ладно, думаю…
Анатолий подождал и опять подтолкнул Ивана Савельевича:
– Ну и какое у вас дальше соседство было?
– Друг на дружку не смотрели. Я Кольке наказал никому не сказывать об этом происшествии и сам помалкивал. Признаться, побаивался. От него всего можно было ожидать. Злого человека от зла отучить нельзя! – Дуся нетерпеливо подталкивала Ивана Савельевича плечиком, напоминая о своем голоде, и он поднялся, уже на ногах закончил: – А он недолго после того и оставался в нашей деревне. Началось затопление, вся Ангара на дыбы, он чем-то поруководил-поруководил, а когда началось переселение, снял свой дом и увез. Говорили, в город увез. Где он теперь, живой ли, не знаю.
– Учить таких надо, да, дедушка? – как поняла Дуся, так и спросила.
Иван Савельевич подумал.
– Учить надо, – осторожно ответил он. – Но сдается мне, что поодиночке не выучить. Всех вместе надо. А как – не знаю. Сейчас вот про Бога вспомнили… Так к Богу-то пошли несчастные люди, которые от злодея терпят. Злодей к Богу не торопится. А власть, она вишь, какая власть, она распояску злодею дала, с ним по совести не поговоришь. Как на фронте было, – обращаясь уже к одному Анатолию, добавил Иван Савельевич. – Кто кого: перекрестимся втихаря да с криком «За Родину, за Сталина!» – в атаку. Вот так-то бы и теперь всем оставшимся народом!
Уже в темноте уходил Анатолий. Все вышли за калитку, договаривая, задержались на выбитом ногами плешивом пятне перед воротами. Светка, оттиснув отца в сторонку, быстро, напрягшимся голосом, спросила:
– Папа, когда маму можно будет увидеть?
– Не знаю, – удивленный ее напористостью, ответил Анатолий. – Лицо Светки в зернистом свете электролампочки с дорожного столба было решительно, панцирной неподвижностью отблескивала на нем кожа. – Не знаю, – повторил он. – Может, на следующей неделе, а может, и нет.
* * *Прошло два дня – и вдруг Светка исчезла. Иван Савельевич с ночи встал по обыкновению рано: накрапывал из безнебья, из низкого серого сумрака, дождь тихой моросью, сильно и вязко пахло в ограде сиренью, а в огороде дикой коноплей. И, пока не разошелся дождь, прикатил Иван Савельевич на тачке три возка черной земли на огуречную гряду, чтобы заглубить уже поднявшиеся всходы. Под дождем оно хорошо, сразу же и породнит старую засыпку с новой; после этого обошел раза три огород, размечая в памяти, что надо будет сделать самому и на что направить девчонок. Дождь не расходился, и подставлять ему, слабо сеющемуся, голову и лицо было приятно – как помазание мягкой редкошерстной кисточкой происходит, и руки, творящие его, выбирают самые чувствительные места. Потом, как всегда долго, пил Иван Савельевич чай, шикая на куриц, вспрыгивающих на порожек летней кухни, и слабым поминаньем, не торопясь выстраивать их в черед, касался своих житейских туч, то отдергивая память, то снова заставая ее подле больного места.
И долго не шел в избу, чтобы не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся и, зевая, от позевоты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широко раскрытого рта, выговорила:
– А где-э Све-эта?
– Где ей быть? – посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельевич. – Возле тебя где-нибудь. Вы вместе почивали.
– Не-э-ту.
Иван Савельевич заглянул в избу, прошел в огород, уже в тревоге выскочил в улицу: нету. В том же порядке, с зачастившим сердцем, заставляя себя не торопиться, обошел с полным обыском все, где Светка могла находиться, – нигде ее не было. Сунул Дусе стакан горячего чая, все остальное сыщет сама, и бросился на автобусную остановку. А прибежав, понял, что бежал без головы: если бы Светка решилась уехать, за утро она бы уехала десять раз, а в небольшой очереди, сидящей возле магазина на крылечке и толкущейся рядом, ее быть не могло. Поспрашивал в магазинах, в том и другом, – не видели. Обратно домой; Дуся встревоженно и молча следила из летней кухни, как он мечется, и продолжала в испуге намазывать на хлеб варенье и слизывать его языком, выгнув над столом голову и глядя в раскрытую дверь.
Иван Савельевич присел рядом с нею. Украли Светку? Но как ее могли украсть – не из постели же вытащили?! Схватили, когда Светка вышла из избы? Но она бы закричала! По тихому утру он бы услышал ее откуда угодно. Сама, не сказавшись, сбежала? Но почему? Зачем по следу одной беды догонять другую?
Он решил: подождет час, а потом надо ехать в город. Час он дал себе на всякий случай: а ну как вздумалось Светке погулять по рощице, которая еще за двумя дворами переходила в лес. Через час надо бить тревогу. Но как ехать, бросив здесь Дусю? Куда ее? Тащить с собой? Пугать своим испугом? Да и что там, в городе, будет?
Он выждал час, прибавил еще полчаса и бросил-таки девчонку, решив, что по дороге на автобус забежит к Суслонихе и попросит ее приглядеть за Дусей. Но Суслонихи дома не оказалось; бухал матерой глоткой кобель, таская грохочущую цепь; от крыльца, со ступенек, уставил на Ивана Савельевича маленькие глазки поросенок, склонив короткую голову набок и шевеля прозрачно-розовыми ушами; с поката над сенцами уже струилась вода. Дождь томился, томился да расходился. И Иван Савельевич, перекрестив про себя Дусю, не стал возвращаться: будь что будет.
Он поехал уже в двенадцатом часу; из пористого замшелого неба сыпало вовсю. В городе по обочинам дороги налились лужи, люди под зонтиками, по-куриному вытягивая шаг, крались и подпрыгивали. Все было мокро, мрачно, все погрузилось в тяжелое ожидание. У Ивана Савельевича и внутри будто отсырело от разлившейся смертной тоски. Если он не застанет сейчас Анатолия дома, что ему делать? А если и застанет, вместе они, потелефонив туда-сюда, уложат на коленях руки в оцепенении: что дальше?
А вышло, что и Анатолия он не застал, дома был Иван, и осторожные их звонки Евстолии Борисовне и в прокуратуру ничего не дали. В прокуратуру они звонили не в ту, а Евстолия Борисовна первой спросила, когда приедет Светка. Иван, еще больше вытянувшийся в последний месяц, с длинными руками и огромными босыми ногами, задумчиво хлопал глазами и пытался вспомнить, что говорил ему перед уходом отец. Кажется, собирался пойти в какую-то мастерскую. Надо было искать Демина и уж тогда выходить на след Анатолия. С тем и снарядил Иван Савельевич внука, а сам, как побитая собачонка, не сослужившая самой простой службы, поплелся в обратную дорогу.
Да и не поплелся, а погреб. Дождь полоскал без устали, из трубного зева водостоков вода выфыркивала залпами, залитый асфальт пузырил, люди попрятались, машины медленно проплывали, отваливая на стороны волны. «А это к чему?» – огромным, ко всему приложимым и ничто по своей безответности не говорящим вопросом мучился Иван Савельевич, преодолевая потоки.
* * *Эти два дня после отъезда отца прожила Светка в непрерывном нетерпении, точно что-то нагорало в ней и нагорало, превращаясь в золу, но под золой не затухли и теперь принялись горячить угли. Она продолжала оставаться вялой и неразговорчивой, все так же смотрела перед собой пристально и невидяще, но и лицо ее от внутреннего напряжения морщилось, и плечи судорожно вздрагивали. Светка ждала отца, считая, что должно что-то обязательно произойти и он привезет новости. А что должно произойти и какими могут быть эти новости, она не представляла. Но если занывает так в непрекращающейся муке – значит, занывает неспроста. Однако отец, по обыкновению пропустив один день, на второй не приехал. И Светке стало совсем нестерпимо и за дедушкиным забором, и в своем нездоровом почужевшем тельце. Ей чудилось, что от нее и пахнет нехорошо – и чем дальше, тем больше. Прождав отца до вечера, утром она решила ехать. Ничто не могло остановить ее – ни переполох, который поднимется здесь и дома, ни опасность, от которой ее прятали, ни унижение, которого не миновать, едва лишь она начнет добиваться своего. Хоть что, хоть в тысячу раз больней, но только не так, как теперь, в дошедшем до края изнеможении.
А решившись, она и спала хорошо, и проснулась рано. Услышала, когда Иван Савельевич вышел, зная, что теперь до позднего утра в избу он не вернется, высмотрела в окно, что нашел он занятие в огороде, и выскользнула в калитку. В легкой беленькой курточке на плечах, в тонких летних джинсах с подвернутыми штанинами, в разношенных шлепанцах и с белой маленькой сумкой в руке, в которой ничего, кроме мелких рублей да носового платка, не было. Накрапывал дождь, гулко, будто соскользнувший и разметавшийся по земле гром, мычали коровы. Со стороны города, как к ночи, вставала темнота. На автобусной остановке Светка еще издали заметила Суслониху, низкую и громоздкую, как животное, мотающую маленькой головой, и отошла, а потом, когда автобус подкатил, бегом вбежала в последний момент в заднюю дверь и отвернулась, уставившись в стекло на убегающую дорогу. На автобусной станции в городе сидела в углу зала с опущенным лицом, прикрывшись ладонью, делая вид, что дремлет, изредка вскидывая из-под пальцев глаза на стенные часы со звучно прыгающей секундной стрелкой. Вскоре она и верно задремала, успокоившись, ощутив и в себе часовой механизм, отбивающий секунды и умеющий насторожить ее на время, когда нужно будет подниматься. Хлестала дверь, плавал от стены к стене гул голосов, слышались объявления – и все это превращалось в чеканный ход часов, стерегущий среди многолюдья ее жалкое укрытие. И так ей наконец было хорошо в эти полчаса, когда совершенно забылась она, столь сладкое она испытывала забвение, так укачало ее это спокойное людское волнение, что, придя затем в себя и оцепенев от возвращения, она еще долго набиралась решимости, чтобы подняться. Объявили посадку сразу в два больших автобуса, ползала зашевелилось, заторопилось к дверям, и только тогда общий порыв подхватил и ее. Она вышла, окунулась в настегивающий ливень и пешком побрела в сторону центра.
В небольшое, в три этажа, аккуратное белое здание, сохранившее свою белизну даже в ливень, мирным своим видом больше похожее на какое-нибудь скромное благотворительное общество, чем на областную прокуратуру, Светка прошла беспрепятственно. Охраны здесь не водилось, доверительным расположением небольшого уютного фойе она, казалось, и не была предусмотрена, а за столом дежурного слева от входа напротив мраморной лестницы никого не оказалось. Светка задержалась у дверей, давая стечь с себя воде и глядя под ноги, и почувствовала, что туда же, под ноги ей, на происходящий непорядок, смотрит кто-то еще… Он, этот человек, окликнул Светку с противоположной стороны фойе и спросил, к кому она пришла. Спросил вполне дружелюбно, но переживая, казалось, за коллегу, в кабинет которого может переместиться это истекающее водой существо. «К Николину», – слабым голосом ответила она; это было у нее первое слово за весь день. Человек подошел к столу дежурного, поднял трубку телефона и набрал номер. Только теперь, протерев глаза ладошкой, она рассмотрела его, и больше всего на его лице, белом, нисколько не загоревшем, поразили ее очень густые и очень лохматые брови, из-под которых с трудом выглядывали маленькие глаза. Николин в трубку удивился: «Разве я вызывал вас?» – «Мне надо», – сказала Светка и после продолжительной паузы, способной напугать, услышала: «Поднимайтесь и ждите, сейчас я занят».
Перед дверью Николина на втором этаже она прислонилась к стене и почувствовала себя почти так же хорошо, как на автостанции, когда она полностью забылась в себе, будто в уютном гнездышке. С волос продолжала стекать за шею вода и щекотливыми струйками сбегала по спинному желобку вниз, и куртка, и кофточка влипли в тело, оно зудилось, выгибалось и вздрагивало. И все равно было хорошо, всякое страдание в ней умолкло, поддалось смирению и терпению. Впервые, еще не различив, не назвав ее, Светка коснулась истины: ожидание события сильнее самого события.
Минут через двадцать Николин крикнул через дверь, чтобы она заходила.
Он был немолод, с седыми висками и подсушенным правильным лицом, с прямой высокой фигурой и твердым взглядом глубоко посаженных глаз. В деле Тамары Ивановны обвиняемая была видна ему как стеклышко самого простого изготовления, но он с жалостью и даже с некоторым раздражением смотрел на ее дочь, начало и причину всей этой истории. В отличие от матери крепкого орешка из дочери не вышло. Беда невелика, если бы по множеству самых неуловимых примет не распознавалась эта слабость в людях силой и грубостью. В благополучном обществе с действующими нравственными и юридическими законами эти противоположности сдвинуты, сильный становится терпимей, а слабый сильней, но как только люди выходят за установленные границы, неминуемо просыпаются самые грубые инстинкты и низменные страсти, и те законы, которые действовали в условиях «мирного» времени, становятся недостаточными не только по букве, но и по смыслу. Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои законы, неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней, ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью. Ее, эту грубую и жестокую силу, начинают бояться, даже прокурор в суде заикаясь произносит вялый приговор, который тут же отменяет общественная комиссия по помилованию. Правосудие не просто нарушается – его подвешивают за ноги вниз головой, и всякий, кому не лень, с восторгом и бешенством, мстя за самую возможность его существования в мире, плюет ему в лицо.
В такой обстановке, считал Николин, любая слабость, происходит она от государства или человека, провоцирует на новое преступление, и всякий слабый человек притягивает к себе преступника как магнит.
Кто виноват: у хозяина содержалась во дворе кормилица, волк забрался и, недолго думая, зарезал ее, а хозяин, державший для защиты берданку, пальнул в волка, когда он терзал свою жертву, и не промахнулся. Волк не может быть никем иным, кроме волка, стало быть, и спрашивать с него, коли он существует в природе, нечего. Корова или овца в стайке тоже не могут быть никем иным, кроме коровы или овцы, они защититься от волка не в состоянии. Хозяин с ружьем не способен возносить молитвы за волка, чтобы он переменился и побратался с овцой. Так кто же виноват? Если бы не было в этом дворе овцы, волк побежал бы дальше, пока не отыскал овцу в другом дворе; если бы не было волка – тем более обошлось бы тихо-мирно, а если бы не было хозяина с ружьем – не было бы и выстрела, и отсутствие слопанной бесхозной овцы никто бы не заметил. Выходит, виноват хозяин, он своим грубым поступком принудил закон вмешаться и готовить последнее слово. Конечно, в деле Тамары Ивановны расположение фигур несколько иное, но схема та же самая. Не из дремучего леса явился хищник, а из общества, объявленного цивилизованным; не овца, бессловесная тварь, стала жертвой его, а родная дочь хозяина или хозяйки; хозяйка решилась наводить свой суровый приговор не тогда, когда хищник крался к жертве, хотя намерения его и тогда были ясны, но не было еще состава преступления, а лишь после того как преступление свершилось, и даже после того как стреноженного хозяйкой и переданного в руки правосудия преступника вознамерились отпустить на все четыре стороны, чтобы следующей же ночью он набросился на новую жертву. Однако убийство случилось, волка в маске человека не стало, и этот конечный и исключительный факт затмил собою предыдущие события. Да, затмил, но ведь не отменил, не вошел в противоречие с ними и явился ничем иным, как их неоспоримым следствием.
Об этой истории много говорили, в том числе и у них в прокуратуре. Душою жалели Тамару Ивановну, служебным положением осуждали за превышение… за превышение чего? – материнских и человеческих чувств, за превышение чувства справедливости? Но как еще можно противостоять бешеному разгулу насилия и жестокости, если государство своих обязанностей не исполняет, а правосудие принимается торговать законами, как редькой с огорода? Как? Тамару Ивановну жалели и втайне ее оправдывали; о дочери же ее, как только заходил о ней разговор, неопределенно вздыхали, не желая договаривать: слишком большую приходится платить за ее честь цену – будто эту цену запрашивает она сама или будто слабость виновата в том, что она слабость.
С тем же чувством жалости и невольной брезгливости смотрел теперь и Николин на сидевшую перед ним Светку. Вид у нее после дождя был как у ощипанной курицы: и волосы влипли в голову, и одежонка в тело. Слабые грудки ужались так, что не топорщили кофточку, серое лицо вздергивалось, когда она простуженно швыркала носом и испуганно уставляла на следователя глаза; сидела она с плотно сжатыми коленками, придерживая их руками. Несчастная, на что-то решившаяся, чем-то подстегивающая себя девчонка, больше ничего в ней не было.
– Что еще случилось? – спросил он, показывая, что после случившегося все, что могло случиться вдогонку, большого значения не имеет.
– Мне надо повидать маму! – с отчаянной решимостью выпалила она.
– Надо повидать маму?
Кивнула всем дернувшимся телом.
– А ты представляешь, сколько мне всего надо, когда тебе надо, а мне не положено? Ты, голубушка, этого не представляешь, иначе ты бы не пришла сюда с таким заявлением.
– Я не могу больше.
Конечно, в это можно было поверить. Есть предел человеческой выносливости. Ей выносливость потребовалась дважды, раз за разом без передышки, и второй удар был не легче первого… Если представить человеческую выносливость в виде витой, как веревка, жилы, протянутой между двумя какими-то креплениями, то она у этой девчонки должна превратиться в лохмотья, держащиеся на волосинках, и эти волосинки, ободранные и нагие, выглядывали из всего жалкого облика девчонки, даже стали ее обликом и молили о помощи. Николин, представив, что такое теперь сидит перед ним, подумал: «Я смотрю на нее как на помеху, срывающую мои сегодняшние планы, а ведь она вышла, чтобы сказать «мне надо», из таких зарослей, из такого отчаяния, что и представить нельзя. Бывают положения, когда человек чувствует себя ровно так, как говорят его слова. «Мне надо» – и больше ничего в ней теперь нет».
Николин со свистом выдул из себя набранный воздух, еще раз удивился этой невесть откуда взявшейся в нем манере подавать сигнал о принятом решении и сказал:
– Иди побудь еще в коридоре, я позову.
И он подвинул к себе телефон. Уговаривал, настаивал, взывал к человеческим чувствам, грозил карой небесной, обещал, на кого-то ссылался, кому-то напоминал, что тот его должник. Дважды выходил за какими-то бумажками, с заходившими к нему расправлялся быстро и решительно. Светка, сцепив замком на груди руки и затаившись, влипла опять в стену. Она слышала голос Николина из кабинета, могла бы слышать и разговоры, потому что говорил он громко, но ничто не подсказало ей, что можно вслушиваться в слова и составлять из них смысл, и она оставалась безучастной, выполняя лишь то, что было ей сказано. Проходя мимо, Николин возбужденно бросал: «жди!» – и она сжималась еще больше, веря, что оттого, как она будет ждать, зависит, чему быть. Так продолжалось около часа; наконец Николин вышел с зонтиком в руках и закрыл дверь на ключ. «Поехали!» – сказал, торопливым шагом направляясь к лестнице.
Ехали на старенькой «Ниве» Николина минут двадцать и все вброд, вброд, и представлялось порою, что вплавь. Дождь то примолкал, то припускал вдруг с такой яростью, что под сплошным его боем становилось совсем темно и глухо. Ехали молча, Николин только покряхтывал от досады, еще не окончательно смирившись с тем, что день у него пошел наперекосяк, а Светка и соображала плохо, где она и что с нею происходит, не помня, что происходит на этот раз по ее воле. Подъехали к трехэтажному зданию, окованному с обеих сторон тяжелой бетонной стеной с колючей проволокой; сбоку, отдельно от общего входа, отыскалась невзрачная дверка, облегчившая проникновение внутрь, по узкому коридору попали в проходную комнату, где вдоль стен сидело несколько человек, тоже пришедших с улицы. Николин оставил здесь Светку и скрылся в другой, противоположной двери. Вокруг Светки сидели в молчании и терпении, каких там, за стенами, не бывает, – совсем никуда не торопясь и ни о чем не спрашивая. Когда в очередной раз принимался нахлестывать дождь за окнами, еще теснее сжимались, еще больше опускались на дно своих тяжких дум или уж окончательного бездумья пожилые женщины, каждая в обнимку со своим горем-злосчастьем. И Светка среди них, равных ей по закаменевшей боли, опять отдалась удобному и глухому оцепенению: так хорошо ей было в беспамятстве и безволии, почти и на грани бездыханности.
Но вернулся Николин и повел ее за собой – опять по коридору, опять через двери и двери. Завел в кабинет: обшарпанный стол перед единственным окном, два старых стула с решетчатыми спинками подле стола, два у стены. И больше ничего; стены голые, окно затянуто дремучей вековой пылью. Какой-то маленький человек при их появлении поднялся из-за стола, что-то негромко сказал Николину и вышел. Николин сел на его место, поднял трубку черного допотопного телефона с пронзительным, как у сирены, гудком, что-то невнятное буркнул, дождался ответа, выждал еще отведенное время и, подмигнув Светке, тоже вышел.
В ту же минуту вводят мать. Человек, сопровождавший ее, от двери сурово оглядывает Светку и исчезает. Не помня себя, не способная соединить во внятную последовательность все происходившее с утра, Светка не узнает и мать, смотрит на нее с ужасом, потом со сдавленным и пронзительным вскриком бросается к матери и оседает у нее на груди.
Тотчас приоткрывается дверь, и вставленное в ее проем лицо чеканно командует:
– Ти-ха! Раз-веду!
Тамара Ивановна осторожно отстраняет вцепившуюся в нее Светку и вдавливает в свои глаза слезы. Светка пытается успокоиться, но едва лишь мать берет ее руку в свою, чтобы усадить на стул возле стены, плечики ее опять принимаются подпрыгивать от сдерживаемых, клохчущих рыданий. Она умоляюще оглядывается на дверь, показывая, что сейчас этот приступ пройдет, сейчас, сейчас… как только она справится с собой. Тамара Ивановна рядом на стуле гнет голову к стене, ища опоры и твердости, и бормочет:
– Ниче, ниче… Это что же? Это ты откуда взялась?
Она в темной застиранной рубахе с накладными карманами и в темной же юбке в крупную коричневую клетку, на ногах старые кроссовки с короткой шнуровкой, те самые, в каких она ушла из дома. Волосы забраны сзади под резинку. Лицо почерневшее и почужевшее, глаза смотрят с силой. Жадно и пугливо всматривающаяся в нее Светка замечает в углах ее губ вскипевшую смолку.
– Ничего, – повторяет Тамара Ивановна уже спокойней и отирает пальцами губы. – Надо же – пробилась! – опять удивляется она. – Отец знает, что ты здесь?
– Нет.
– А мне тебя и надо было повидать. Ты как почуяла, что тебя-то мне и надо.
– Здесь страшно, мама?
– Да почему же страшно? Не страшней, чем там, у вас. Те же самые люди.
Светка тычется головой в материнские колени; Тамара Ивановна выдвигает свой стул поперед, удобнее устраивает на коленях лицом к себе Светкину головенку и, наглаживая, прижимает ее к животу. Светка всхлипывает совсем по-детски, но слова, которыми давится она, выговариваются со дна беспросветного отчаяния.
– Мама, как же мне теперь жить-то? – спрашивает Светка. – Как? Я сама себя ненавижу. Я с собой не знаю, что сделала бы…
Тамаре Ивановне хочется, в свою очередь, спросить: «А мне как жить? Мне-то как жить, дочь ты моя родная?» Но не спрашивает. Разве можно сыскать такие слова, которые бы их утешили, дочь и мать, сброшенных куда-то, где нет ничего, кроме пытки… Самые справедливые, самые надежные слова, способные дать утешение, не утешив, спекутся в том же пекле, в каком горят они. Больно, больнее боли больно. Все нутро выгорает. Тамара Ивановна нянькает на коленях дочь, затверженно повторяя: «Ниче, ниче», наглаживает ее волосы, вытирает пальцами с глаз ее и свои слезы. Надо бы говорить какие-то напутствия, распоряжения, надо бы… много чего надо бы, коли подвернулся такой счастливый случай, но Тамара Ивановна боится вспугнуть Светкину доверчивость, нежность ее и беззащитность… нет, не надо ничего говорить… так больно и так хорошо! И когда слышит Тамара Ивановна едва различимые Светкины слова: «Мама, ты меня не презираешь? Скажи, мама, скажи!» – она и на них не отзывается, а только еще крепче прижимает к себе Светку и раз за разом нагибает голову, чтобы поцеловать ее в мокрые глаза.



