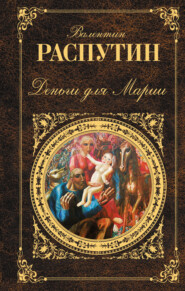
Полная версия:
Деньги для Марии: повести, рассказы
– Кино снимают, – вставил свою догадку Анатолий.
– Кино, да не то, шоу, да нехорошоу. – Демин покосился на Егорьевну, она, делая вид, что рассказ ей совсем не интересен, закатив глаза и нажевывая конфеты, уморительно вытянув губы, за которыми, слизывая налипшую конфетную кашицу, метался язык, откинулась на спинку стула. Невозможно было удержаться – и Демин машинально тоже повозил языком и только уж после этого направил его по назначению, чтобы продолжить рассказ. – Догадаться-то я догадался, что это не кино, а спросить… молчу. Слышу, две старушки рядом шепчутся по-нашему: с ума, мол, сошли… Так что оказалось! – Демин мрачно взглянул на Егорьевну, продолжающую самозабвенно крутить во рту языком. – Вечером по телевизору передают: какая-то фокусница, самая большая у них там задира против русских… стихи сочиняет… специально разошлась с мужем, чтобы в патриотических целях выйти замуж за Штефана. Вот как бы, например, – жестом приглашения наклоняясь к Егорьевне и протягивая ладонь, сказал Демин, – вот как бы ты захотела замуж за Петра Первого. Она за своего Штефана Великого, а ты бы, чтобы утереть всем им нос, за нашего Петра Великого. С ними только так и надо. А?
– Придется подумать, – ласково отозвалась Егорьевна.
– Карусель ты моя ненаглядная! – постарался он сказать с грустью. – На все-то ты согласная… жила бы страна родная! Нет, что это все-таки делается – ты можешь ответить? Что надо бабам? Живых мужиков уж совсем ни во что не ставят, каменные, с трехэтажный дом, фигуры им подавай! Что вы в них находите?
Напросился Демин на ответ и незамедлительно его получил:
– Что надо, то и находим.
Самое время было подниматься, и Анатолий стал прощаться. Демин вышел из-за стола и, вытянув голову, поворачивая ее то в сторону Анатолия, то в сторону Егорьевны, топтался, не зная, куда двинуться.
– Посуду мыть, Демушка, посуду! – распорядилась хозяйка, приходя опять в деловое настроение.
* * *Иван Савельевич жил в большом и бойком пригородном поселке, через который проходили две дороги на Байкал: одна из Иркутска делала дугу и возвращалась на накатанный Байкальский тракт, а вторая тянулась больше ста километров на западный берег. Дугу эту дачники любили: тут хороший хозяйственный магазин, тут выпекался вкусный хлеб и тут же самосевом пророс небольшой базарчик на площади, откуда южная и западная байкальские дороги расходились в разные стороны. Все, что требовалось для ремонта и огорода, для стола и развлечения, тут и добиралось без толкотни в десять-пятнадцать минут, после чего, сбежав от городской тесноты и светофоров, можно было катить спокойно дальше.
Изба Ивана Савельевича стояла в сторонке, по дороге в пионерский лагерь, давно заброшенный и разграбленный, в редколесной сосновой рощице. Вразброс в ней стояло еще несколько изб с огородами; рощица, потеснившись для них, их же потом и защитила: поселковым сходом решено было для дальнейшего заселения ее закрыть.
Три прямоствольных сосны с высоко задранными ветками гнулись-шумели под ветром и во дворе Ивана Савельевича. А двор всегда был забросан ноздреватыми шишками, которые шли потом в дело для топки самовара. Скотину Иван Савельевич, оставшись в бобылях, давно уже не держал, но по весне привозил с птицефабрики молодок, летом у него были яйца, а по осени мясо. Жил он с Николаем, младшим сыном, а в это лето у них гостила дочь Николая десятилетняя Дуся, девочка, как говорил Иван Савельевич, «на два лица»: то квелая, постоянно зевающая, глядящая вокруг себя пустыми глазами, а то, как по погоде, кудахтистая, что-то наговаривающая и напевающая, играющая роль хозяюшки. Дусю, как и младшего братца ее, мать после развода с Николаем увезла в Ангарск – и вдруг отправила ее к отцу и деду, к их несказанной радости, даже не предупредив. А теперь вот и Светка с ними, которую от беды подальше спрятали, считалось, за высоким забором. Забор из потемневших плах был, но так себе, и кобель сигал через него почем зря, едва перебрав лапы.
И, как давно уже не было, стало уютно Ивану Савельевичу в доме – эх, если бы еще отгородиться совсем от мира и унять израненное сердце. И Николай, поднимая руку на себя, стрелял в него, и Тамара Ивановна, наводя свою справедливость, тоже часть картечи выпустила в отца. Но вот собрались здесь возле него эти две несчастные девчонки, тоже подбитые выстрелами, и поверилось осторожно, что, быть может, самое страшное позади и должно же из горя горького выпечься утешение. Ему уже было за семьдесят, два года доходило сверх того, лицо, исхлестанное уличными ветрами и нутряными пытками, словно бы окорилось с выщербами, грудь опала, руки и при хороших глазах, а у него все еще были хорошие глаза, часто тыкались слепо, мимо цели. Но, проведя полжизни в лесу, запас сил он в себе еще ощущал, и земля под ним еще не шаталась. Если бы не горячило постоянно и не взбрыкивало испуганно сердце, примериваясь, как ему придется выпрягаться… Если бы не стискивало временами голову так, будто в нее вкручивают металлический обод…
Он поднимался после ночи рано и, глянув через щель в заборке на спящих в соседней комнате девчонок, шел во двор искать работу. Невелико хозяйство, но она находилась всегда – накачать воды в бочки для огородного полива, прибрать одно, другое, пятое, десятое, накормить молодок, которые вот-вот начнут нестись, поговорить с ними, а потом поговорить и с кобелем, еще не омужичившимся, игривым, ревновавшим Ивана Савельевича к молодкам и гонявшим их так, что они разлетались от него, как перья. А потом в летней кухне вскипятить чай и, отдыхиваясь облегченными, снизывающимися с какого-то мотка вздохами, долго пить его на крылечке с растворенной за спиной дверью и ощущать, как втягивает туда, внутрь, уличный воздух.
Девчонки поднимались поздно. Ни та, ни другая на улицу за ворота не рвались. Дуся привезла с собой огромную, как Библия, «Энциклопедию женщины» и утыкалась в нее, забравшись с ногами на продавленный диван в прихожей и часто и гулко перелистывая тяжелые страницы. Ивана Савельевича все подмывало взглянуть в эту «библию», чтобы разобраться, полезна ли она для подростка, но рука не поднималась: не его это дело. Ну и высмотрит, ну и что – запретит? Да нет, только отодвинет от себя девчонку. С ними теперь надо как-то по-другому, чем «можно» или «нельзя». Вон морковка нынче выскочила чуть не на две недели раньше обычного срока – и разберись: или семена такие, или общая атмосфера потянула. Ох, эта общая атмосфера!., чтоб ей было пусто.
Не понуждал Иван Савельевич девчонок и к огороду, но к вечеру, когда ослабевало солнце, они раскачивались сами; младшая, Дуся, при этом делала заявление: «Дедушка, мы идем полоть! Дедушка, ты слышишь?» Ей требовалась похвала еще до начала работы.
– Ну и ступайте, – отзывался он. – Дело хорошее. Не перестарайтесь только. Вы хоть морковку от морковника сумеете отличить?
– Они в малом возрасте не отличаются, – к его удовольствию толково отвечала Дуся. – Пускай подрастут вместе, потом разберемся.
Светка на тонкой шее тянула голову и вслушивалась, она все еще не пришла в себя и смотрела вокруг с пристальностью глухонемой.
О, Господи, спаси и помилуй неразумная чада Твоя! Так их много, вся земля устелена ими от одичавших злаков! Для чего, Господи, предназначаешь Ты столь щедрый урожай? Для кучного выправления или для единовременного выкоса, чтоб пресечь недостойное?!
Николай летом дома бывал мало. Он подсаживался на лесовоз, отворачивающий с дальней байкальской дороги на лесосеку, и на старых вырубках, которые тянулись на многие десятки километров, сходил. И во всякую пору что-нибудь да подбирал: черемшу, травы и корни, ягоды, кедровую шишку. Где-то там были у него схроны от непогоды, свои, скрытые от чужих глаз, деляны, свои тропы. Людей он чурался, пряча в тайге искривленное, поведенное на левую сторону, обезображенное выстрелом лицо. За черемшой, за ягодами заходила во двор к Ивану Савельевичу бабка Суслониха, прозванная так за ровно стекающее с маленькой головки широкое становище, установленное на короткие и крепкие ноги; она ехала с таежным урожаем на городской рынок и продавала. И они, Николай с Иваном Савельевичем, полгода этим жили, и она, продавалка. Николай ходил без ружья, хватит – настрелялся, и пропадал иной раз по неделе, а осенью и больше. Но и дома отмалчивался, отвыкая от слов; когда узнал о случившемся с сестрой, заплакал, из вытекшего левого глаза побежала струйка желтой слезы. «Она бы лучше мне сказала», – выговорил с трудом и тут же испугался своих слов, замотал головой. Светку, когда привезли ее, погладил рукой по плечу и тут же спрятался.
Анатолий приезжал через день, новости не могли быть утешительными: Тамару Ивановну судить не торопятся, от адвоката она отказывается, говорит, что защищать ее не нужно, никому она не верит. Областной следователь топчется на месте, ждет окончательных результатов судебно-психологической экспертизы. И все-таки есть одно, непроверенное… но как знать!.. В Москве застрелили депутата Думы от Иркутской области, чеченца, и в Иркутске спустя несколько дней стреляли в его брата, тоже какого-то главаря. И вполне может быть, что кавказцам, которые преследовали Анатолия, теперь не до него, в последнее время охоту за ним они, похоже, сняли. Иван Савельевич предостерег:
– Но ты Светку все-таки не торопись забирать.
– Нет-нет, пускай здесь побудет. Как она – оживает?
– А не знаю, Толя. Не пойму. Рана там глубокая, заживы долго может не быть. Иной раз глядишь: то ли от боли морщится, то ли силится улыбаться. Это хорошо, что они тут с Дусей вместе.
Сидели в избе, в прихожей, где прохладнее, Иван Савельевич за столом на скамейке у окна, опершись локтем о подоконник и сцепив на животе руки, Анатолий напротив, задрав высоко колени и утопив зад, гнулся на продавленном диване. Только что отчаевничали, посуда была еще не убрана, и над нею кружила пчела. Дверь в сенцы была отворена, и в прихожей гулял ветерок, пузырем втягивая в комнату девчонок сквозящие от стирки ситцевые занавески. В избе было прибрано и все-таки сиротливо без хозяйки, сам жилой дух казался горчащим. Тамара Ивановна, наезжая, и скребла тут, и мыла, навешивала на окна свежие занавески, вытирала в межоконье рамки с фотографиями под стеклом, смахивала тенетистые узоры с потолочных углов, вытряхивала домотканые, еще с Ангары привезенные, половики и коврики, но проходило несколько дней, и вновь проступала серая, золистая испоть, и опять все покрывалось сиротством. А без Тамары Ивановны что станется, и говорить нечего.
Солнце сдвинулось и перестало бить в окно, возле которого сидел Иван Савельевич, нагретый воздух перед глазами Анатолия в четко очерченном квадрате окна курился, дрожал. И в этом струении марева казалось, что свисающий с ближней сосны шест, которым поднимали на высоту скворечник да так и оставили там, легонько качается стоймя, чтобы, раскачавшись, спрыгнуть. Самого скворечника не видно, но Анатолий знал, что он пустовал. Его из году в год зорили вороны. Прежде их отпугивали ружьем и навсегда разогнали малых пташек, а большие, вороны и дятлы, до сих пор били клювами в пустующий домик и пытались столкнуть его вниз. Пойми эту жизнь… ничего-то нигде, оказывается, понять нельзя.
Уже неделю как жара не донимала сильно, дни стелились солнечные и яркие, но не гнетущие. За другим окном, на восток, цвела в палисаднике сирень, рас клонив по сторонам тяжелые ветви в убранстве горящих фиолетовым огнем свечей. Обломанная сирень в банках с водой красовалась везде – и в спальне у девчонок, и в летней кухне, и в сенцах, и рядом с собачьей будкой на двуногой, с отростом, березовой чурке.
– Даже в самовар, вертихвостки, натолкали, – рассказывал Иван Савельевич. – И снует эта, меньшая-то, и снует: – «Деда, когда самовар кипятить будем?» – «Да кипятите, – говорю, – когда вам охота: не маленькие». А чего не маленькие – маленькие! Им охота, чтоб я ткнулся, увидал да ахнул погромче: «Эк она где, холера, проросла!» Мы ведь как разговариваем, Толя… Спросишь ласково – не знают, как отвечать. А разворчишься – это им то самое, глядишь, и по душе отзовутся.
Хлопнула с маху калитка во дворе – Иван Савельевич, вздрогнув, обернулся – никого, должно быть, выскочила Дуся. И спросил:
– Свидание-то не дают?
– Нет пока.
– А Ванюшка-то что ж не приедет сюда?
– Я пока его дома держу. За книжками сидит.
– Я уж перестал понимать, Толя, хорошо ли это – книги? Говорят: плохому не научат… смотрю я: запутать могут, хорошее с плохим воедино смешать. – Иван Савельевич опять оглянулся во двор: кто там мог проскочить в калитку? – и продолжал: – Николай у нас книжки читал… я радовался, пускай умнеет парень. А он вишь до чего поумнел! Шире головы. Он еще там, дома, – домом Иван Савельевич до сих пор называл деревню на Ангаре, – блажить стал. Задумываться начал. Наманят, наманят книги, насулят с три короба, а жизнь, она другая. И вот я думаю: человек от рождения, от родителей направлен по одной дорожке, по родословной сказать, а книжки его выгибают на другую. Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушел, так он Ломоносов был, кругом его по ученой-то части редколесье было. Он почему еще не сбился с пути… он в котомку себе родной холмогорской землицы набрал и все законы из нее вывел. А наши что? Они прямо в чащобу устремляются таких же, как они, без царя в голове, они все голодные до незнаемой жизни… И вот он, Коля наш… Впопыхах женился, какую-то чудь в ней увидел, а она, чудь-то эта смазливая, зубастая оказалась, клыкастая, на нем же ездила и его же ни в грош не ставила.
Иван Савельевич вздохнул тяжело, с мыком, помолчал, облизывая сухие губы, и спросил у Анатолия:
– Ты не закурил?
– Нет.
– А я покуриваю. Думал, что до смерти освободился, а не смог. Да-а, – с горечью протянул он, возвращаясь к прежнему разговору, – начудили. Я ему, Николаю, еще в те поры, как разглядел хорошенько его чудь, разъяснял… Говорю: вот поставь ты передо мной двадцать девок, двадцать невест, и я тебе без всякого испытания скажу, какую выбрать. На самую добрую покажу. Выбирать надо добрых, а не показных.
Анатолий представил себе этот осмотр, Ивана Савельевича, прохаживающегося перед строем выставочных невест, и засмеялся:
– А почему надо двадцать, а не десять?
– Десяти может не хватить. Лучше двадцать. Доброта у девки на лице написана, ей и мазаться не надо, чтоб себя красивой сделать. Природу не спрячешь, она себя обязательно покажет.
Иван Савельевич тяжело вылез из-за стола, потоптался на месте, наставляя затекшие ноги, и пошел посмотреть, где девчонки. Светка в летней кухне играла с котенком и раззадорила его до того, что он напрыгивал на нее, взобравшуюся с ногами на голый деревянный топчан, она вскрикивала, перебирая ногами; котенок, пушистый комок из желтого и белого, отскакивал, не разворачиваясь, шлепался на спину, взвивался вверх, чтобы приземлиться на лапы, делал стремительный разбег и снова кидался на Светку. Иван Савельевич от порожка полюбовался и, когда Светка, ухватив котенка за шкирку, выставила его за дверь, за спину Ивана Савельевича, спросил:
– А Дуся где?
Девчонок так часто приходилось спрашивать, где одна и где другая, что и они тоже научились не выпускать друг друга из виду.
– Где-то за воротами, – задышливо, пятясь от котенка, приседавшего для прыжка через порог, отвечала Светка и ждала, когда Иван Савельевич отойдет.
– Шла бы, посидела с нами, пока отец не уехал.
– Ну, потом, – отговорилась она и, оставшись в кухне, прикрыла дверь. Пойми от кого – от котенка или от деда.
Воротившись, Иван Савельевич, посмеиваясь, рассказал о Светкином занятии, порылся на полочке возле двери, отыскал жестяную банку с табаком, пахнувшим ядреным едким духом, и принялся сворачивать самокрутку. Сигареты он не признавал, а папирос не стало. Закурив, сделав несколько жадных затяжек, отдышался и опять приободрился.
– Ничего, Толя, как-нибудь. Не может быть, чтобы свернули нас в бараний рог. Я вот тебе расскажу…
И рассказал Иван Савельевич историю, которая вспомнилась ему, надо думать, раньше и вспоминалась не однажды в эти дни, а теперь запросилась наружу.
– Это сколько же годков минуло? – спросил сам себя и прикинул: – Да уж не меньше тридцати. Томка тогда с Дусю была, может, немножко постарше. У нас в деревне вскорости после смерти Сталина угнездилась одна семья. Сам он, хозяин-то, был в наших краях на высылке, а как дали ему вольную, ворочаться не стал, откуда вышел, а выписал себе жену с погодками-ребятенками… мальчишка и девчонка были… и осел как вольнопоселенец. Кряжеватый такой мужик, рожа хмурая, все попервости в зеленых галифе ходил, в отместку, поди, тем, кто его в лагере караулил. Звали Ефроим. Заняли они избенку в три окна на верхнем краю деревни, последний парнишка уж у нас народился. Заняли избенку-горемыку, а потом и давай строиться, и давай. И это по тем временам, когда мужика гнули в бараний рог: на заем последнюю копейку отдай, молоко от коровы на молоканку отнеси, яйцо от курицы в сельпо сдай, огородные сотки еще и до Хрущева обрезали. А он в рост и в рост. В колхоз не пошел, устроился сначала бакенщиком, а опосле, как Ангару запруживать вознамерились, по зоне затопления каким-то чинодралом заделался. Но это уж потом. А до того при самой нашей глухой бедности… она его не касается, наша бедность… На задах избенки поставил времянку, да крепкую, не хуже этой избенки, а избенку смахнул и давай на том месте подымать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что и взялось. Баба некорыстенькая, росточку небольшого, а тоже пятижильная, так и снует, так и снует. Дом поставили под шифер, у нас этого еще и в заведении не было, у нас контора была под тесом… Обнес свое поместье глухим забором, в улицу – высокие теремчатые ворота под навесом. Только ахай! У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл «Урал» с коляской, у первого нарезная винтовка. Боролись, боролись с кулачеством, а он посередь голытьбы возрос как чирей на ровном месте.
Иван Савельевич говорил неторопливо, с улыбчатой усмешкой, подкивывая себе и морща и без того морщинистое лицо. И последние слова подвел, прямо как к воротам, к вопросу.
– А с чего возрос-то? – спросил Анатолий, слушавший невнимательно, с усилием, как и все теперь делавший с усилием, перемогавший какую-то налипшую изнутри, как грязь, тяжесть. – С приисков, что ли, явился?
Иван Савельевич с готовностью подхватил:
– С приисков, говоришь? Ну да, с приисков. С тех, где под конвоем водят. Сам он не признался бы, но слух такой стоял: когда мы Украину от немца отбивали, он в лесах против нас партизанил.
– Ну, за это так скоро не выпустили бы…
– А там тоже после Сталина порядка не было. Одних за колоски в землю вбивали, других из-под самой страшной статьи втихомолку выводили. Умел он, значит, и там себя поставить. Такие нигде не растеряются, повсюду найдут кума и брата.
– Но откуда же у него взялись деньги? Не в огороде же он их нашел?
– А вот этого никто не знал, – быстро и уверенно отвечал Иван Савельевич, ответ у него был готов. – Слухи разные ходили, да из слухов, сам знаешь, дело не сошьешь. А я так думаю: это ему баба с родины доставила. Он оттого, думаю, и не захотел на родину ворочаться, что не мог там ими распорядиться, они у него запашок имели. Он для того и изъял оттуда семью, что хотел следы замести. На войне в тех местах чего только не бывало.
– А потом он, значит, с тобой воевал?
– А его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его, а поманит, покажет бутылку – идут беспрекословно. А опосле еще больше не любят. Но он во внимание не брал, любят его, не любят. И сам никого не любил, жил в бирюках без нужды в людях. На подмогу, я говорю, зазывал, а так, чтобы по душам поговорить с человеком, этого в нем не водилось. Мы для него были люди десятого сорта.
Вошла Светка, юркнула за занавеску в свою комнатку, а потом встала в дверях, придавив одну полу занавески спиной, а другую жгутом держала в руке.
– Послушай, послушай, Света, – сказал ей подбадривающе Иван Савельевич, – какую мы оказию с твоей мамой прошли. Она тогда еще на подросте была, босыми ногами пыль на дороге взбивала… Ты дверку в кухню прикрыла?
– Прикрыла.
– А то кобель бы не полез. Он у нас из варнаков.
Иван Савельевич продолжал рассказ, а Анатолий посматривал на Светку, не слушавшую, уставившуюся в окно, за которым, кланяясь, тяжело раскачивались яркие гроздья сирени. Оттуда же заглядывало и солнце, и Светкино лицо в обрамлении золотисто-смиренного закатного потока выпечатывалось особенно четко. Не было на Светке ее лица, слезло оно – так же, как слезает, меняя черты, кожа в тяжелой болезни. Все в этом новом лице обострилось и распалось: глаза, глядевшие тускло, сами по себе, ставший совсем маленьким и некрасивым нос, сам по себе, и крепко сомкнутые, вдавленные одна в другую губы, тоже сами по себе. Все на месте, и все сдвинуто, не соединено: во всем видна стылость донельзя измученного человека. «Чем бы развлечь здесь дочь, что бы придумать? – стал размышлять Анатолий. – Может, телевизор сюда привезти? Евстолия Борисовна свой, конечно, не отдаст, он для нее весь свет в окошке. Но теперь у многих по два, по три телевизора; если поспрашивать – найдется, поди… Сидели бы девчонки, смотрели…» И услышал голос Тамары Ивановны: «И что бы они смотрели? Не насмотрелись еще, что ли, не отравились до конца жизни? Не надо, Анатолий, не смей!»
Иван Савельевич говорил:
– Парнишка этого Ефроима, Гошка, все на мотоцикле гонял. И все нашу Тамару пугал. Разгонится и прямо на нее. Она отскочит… Пока мотоцикл разворачивается, то убежит, то на забор запрыгнет. Ухватил я его как-то на ходу за воротник, поставил на ноги. «Ты, парень, что делаешь? Ты же ее изувечишь!» Зубы оскалил и на меня, как звереныш: «гы-ы»! Не подействовало. Снова руль на девчонку. И опять, и опять. Кончилось тем, что наскочил и ободрал ей ногу чуть не до кости. В район, в больницу я ее возил. Зашили, замотали – месяц на ногу не приступала. Пошел к Ефроиму: так и так, уйми своего парня. Он на меня в точь так же зубы: «Гы-ы, у них это, можа, любовь». И меня же высрамил, что у меня девчонка по улице шляется.
Стукнула калитка; Иван Савельевич, прерываясь, крикнул в окно:
– Мы все здесь.
Вбежала Дуся, раскрасневшаяся, с короткой мальчишеской стрижкой, в короткой майке, по моде не закрывавшей пупа, и в шортах, получившихся из обрезанных, одна штанина короче другой, джинсов. Глаза ее блеснули удивлением от неподвижно расположившихся фигур, и она заявила:
– Хочу поесть.
– Ты только не расхоти, – сказал Иван Савельевич. – Погоди чуток, мы вот скоро закончим, я расскажу, чем дело кончилось, и мы твоему хотению дадим свое имение.
– Как это?
– А что имеем, то дадим. А чего нет, того и не будет. Сядь, прижми свою вертушку. – Небольно-то и вертлявой была Дуся, и сказал Иван Савельевич… для всех ребятишек заготовленными словами сказал. – Сядь и слушай. Сейчас и про папу твоего будет.
– А что про него будет?
– Не забегай вперед, слушай. Садись вот рядышком со мной.
Произошло общее перемещение. Иван Савельевич подвинулся на скамье, и Дуся сбоку водрузилась на нее с коленками; Анатолий подъелозился к диванному валику, облокотился на него, приняв удобное полулежачее положение, а возле другого валика устроилась Светка.
– И пошла у нас самая настоящая вражда, – вернулся к рассказу Иван Савельевич и с укоризной почесал седую клочковатую голову. – До последнего случая я вроде сильно и не вражевал на него, думал: дурость и дурость, должна же она затихнуть, эта дурость, ведь рядом живем. Ан нет, Толя, тут не простая обнаружилась дурость. Он, этот Ефроим, он что… он подсмотрел нашу слабость. Не он один подсмотрел… если на теперешнее время оглянуться – много кто подсмотрел. Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, этого и у нас самих в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же: сердце зажму и отойду. Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу. Я к той поре уж в лесничество перешел. И знал, что зверя он берет в пору и не в пору, охранного закона ему не писано. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой, послали протокол куда следует. Отвертелся и на меня же прокурором смотрит. Идешь с поклажей на Ангару, чтоб на тот берег переплавиться… у нас там уж большое хозяйство расчалось… идешь, он на берегу, на каменишнике, с веслом в руке, волком смотрит.
– Ты когда, – спрашивает, – утопнешь?
Вот до чего у нас дошло! Он Ангару за свою собственность стал считать. Я креплюсь, а вовнутри-то кулак хороший отрастает. Ответишь ему только: не дождешься, мол, утопленником меня зреть, а в самом закипит: чем бы тебя, вражину, погладить?
– А когда папа будет? – поторопила Дуся.
– Вот сейчас и будет. Потерпи. Сейчас мы с твоим папой сядем в лодку и поплывем. Плавали мы туда-сюда часто, хозяйство там, дом здесь. У нас в лесничестве были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. И мотор «Вихрь» дали, этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет скрозь любую непогоду. И вот так же мы с папой твоим, а ему в ту пору годков десять исполнилось, так же с левого берега на правый рулим. А уж сумерки, вода в Ангаре темная, и низовка тянет. Но сумерки пока светлые, в них видать даже дальше, чем на солнце, и волна еще не разошлась. Идем поперек реки, Коля в носу, спиной к ходу, я в корме за мотором. Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходко бежит, носом по волне настукивает. Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и легкая. Сближаемся, я гляжу по ходу шитика, что я успеваю проскочить. Но Ефроим поддал газу и прет прямо на нас. На таран идет. Он-то, конечно, рассчитывал, что я струхаю и отверну. «Ах ты, гад! – думаю. – И тут захотел меня в грязь носом». Кричу Кольке: «Падай!» и руками машу, чтоб падал в лодку. И только-только успел нос развернуть под шитик…



