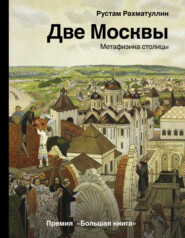
Полная версия:
Две Москвы: Метафизика столицы
Киеву дано быть Иерусалимом, но не Римом. Это святой, но слабый город. Его святость убывает без защиты.
Петербургу дано быть Римом, но не Иерусалимом. Его сила убывала без святости. Впрочем, его святость нарастает.
Лишь Москве дано быть Римом и Иерусалимом одновременно. Как некогда Константинополю. И потому Москва есть Новый Константинополь, Новый Иерусалим и Третий Рим.
Белый кречет, или Сказание о новом начале Москвы
Успенский собор и церковь Трифона в Напрудном
Безмерна славна и хвальна кречатья добыча.
Книга глаголемая Урядник сокольничья путиПИСЬМО АРИСТОТЕЛЯ
Знамения – Zirfalco bianco – «Орнистотель»
НАПРУДНОЕ
Всадник на белом коне с белым кречетом на рукавице – Князь Патрикеев – Церковь Трифона в Напрудном
ИВАН ВЕЛИКИЙ
Иван и София – Возможное путешествие
СОЛОМОН И КИТОВРАС
Апокриф – Мудрость и Премудрость – Две природы Китовраса
НА НОВОМ КРУГЕ
Упущение – Обновление брака – В закладе

Успенский собор. Цветная фотография конца XIX – начала XX века
Часть I
Письмо Аристотеля
Знамения
Вот и над нами, шестой век спустя, стояла хвостатая комета. А в исходе 1471 года, после Рождества, явились две сразу. Луч первой «аки хвост великия птицы распростреся», у второй же был «тонок, а не добре долог». Где одна заходила, всходила вторая.
Что было думать Ивану Великому? Как понимать о своем государстве?
Под этими звездами послано было за Софьей Палеолог, передавшей из Рима согласие выйти за государя Москвы.
Под этими звездами, только растаяло, начали строить и новый Успенский собор. Старый, времен Калиты и митрополита Петра, не сразу снесли, но сперва заключили в больший периметр новых фундаментов. Снести собор было нельзя без дозволяющих знамений, коль скоро Петр митрополит, его могила есть краеугольный камень города. Успенский же собор над этим камнем – самим Петром обетованное условие величия Москвы. Но и не обновить собор было нельзя: обетованное Петром величие сбывалось на глазах, а старый малый храм стоял подпертый древом. Купец Тарокан, кто был такой, а выстроил себе в Кремле кирпичные палаты раньше государя. (Впрочем, таракан, по Далю, первый жилец, новосел, к прибыли.)
Иван должен был вспомнить все знамения, все обстоятельства той несчастливой, черновой попытки нового собора.
И как после сноса начального храма каменотесы – по-летописному, «камнесечцы» – роняли обтески на раку святого Петра, пока не воздвигли над ней, в ограде уже поднимавшихся стен, деревянную церковь на время.
И как в ноябре он, Иван, обвенчался во временной церкви с приехавшей Софьей.
И как на следующий год преставился митрополит Филипп, другой инициатор совершавшегося храмоздательства, ин был положен в возрастающей ограде стен собора. Так ископал себе могилу, положил себя в фундамент старого собора святитель Петр при Калите.
События спирально восходили на древний круг, пожалуй, обещая правоту происходящего.
И вдруг на третье лето, в мае, как-то за полночь, собор, возведенный «до замкнутия сводов», едва разошлись камнесечцы, упал на себя.
Когда улеглось, Иван опять послал в Италию. Теперь за мастером. По совету великой княгини, по ее итальянским путям.
Zirfalco bianco
В трудах Комиссии изучения старой Москвы за 1914 год опубликовано письмо Аристотеля Фиораванти герцогу Сфорца в Милан, там и хранящееся. Вот первые и заключительные строки, в переводе публикатора, графа Хрептовича-Бутенева.

Автограф письма Аристотеля Фиораванти герцогу Сфорца. Государственный архив Милана
«Светлейшему Князю и превосходительному Господину моему, которому, где бы я ни был, желаю служить всячески. Находясь снова в великом Государстве, в городе славнейшем, богатейшем и торговом (в Москве. – Авт.), я выехал на 1500 миль далее, до города, именуемого Ксалауоко (по мнению Хрептовича, это Соловки. – Авт.) в расстоянии 5000 миль от Италии, с единой целью достать кречетов (в тексте именно кречет, zirfalco – вид falcone, сокола. – Авт.). Но в этой стране путь верхом на лошади весьма медлителен, и я прибыл туда слишком поздно и не мог уже достать белых кречетов, как того желал, но через несколько времени они у меня будут, белые, как горностаи, сильные и смелые. Покамест через подателя этого письма, моего сына, посылаю тебе, светлейший князь, двух добрых кречетов, из которых один еще молод и оба хорошей породы, а через немного линяний они станут белыми. <…> Я всегда бодр и готов исполнить дело, достойное твоей славы, почтительнейше себя ей поручая. Дано в Москве 22 февраля 1476. Твой слуга и раб Аристотель, архитектор из Болоньи, подписался.»
А мы, московиты, считали, что отпускали болонца не дальше Владимира, осматривать тамошний храм; мы думали, все его мысли о храме. Теперь выходит, что Иван Великий отпустил каменных дел мастера за ловчей птицей. Не просто мастера: единственного посвященного строителя в своем распоряжении. Едва приваженного из другой страны, чтобы поднять или начать сначала упавший главный храм столицы. Отпустил верхом и словно бы без спутников. От главной стройки государства, после первого ее сезона, если верить дате под письмом. Или даже посреди сезона, если верить другому месту текста: «В средине лета в продолжение двух с половиной месяцев солнце вовсе не заходит, и когда оно в полночь на самой низкой точке, то оно так же высоко, как у нас в 23 часа». Аристотель достиг заполярных широт.
Если кречет следовал Милану за присылку мастера, зачем сам мастер добывает эту свою цену? В Москве существовала профессия помытчиков – ловцов ловчей птицы.
Далее, трудно представить, что шестидесятилетний Аристотель вооружен силками, ожидая за кустом.
Далее, посол Толбузин отпросил Аристотеля не у Милана, у Венеции.
Наконец, обманывал или обманывался Аристотель, говоря, что выбеленный линькой «добрый» кречет делается белым? Белый кречет не подвид, поскольку может родиться от иного; но именно родиться.
Белые птицы и звери считались царями своих родов. Белых кречетов звали иначе красными, и ясно, что не за цвет. На поиски белого кречета уходят годы и подковы. Словом, «благороднейший в семействе благородных соколов», белый кречет, аристотелев zirfalco bianco, символически один.
Так что присылка двух Милану – профаническое удвоение.
«Орнистотель»
Письмо в Милан – готовая программа фрески или картины, на которой Аристотель изображался бы верхом. На чудном бестиарном фоне: «Если твоей светлости угодно иметь великолепных соболей, горностаев и медведей, живых или убитых, могу тебе их достать сколько ни пожелаешь, так как здесь родятся и медведи и зайцы белые, как горностаи. Когда я отправляюсь охотиться на таких зверей, между ними есть такие, которые от страха бегут к океану и прячутся под водою на 15–20 дней, живя там подобно рыбам…»




Московская монета с именем «Ornistotil» – аверс, реверс и прориси
Но в центре фрески, на аристотелевой рукавице, два невидной масти кречета не помещаются физически, ни эстетически, ни символически. Недаром введена фигура сына (впрочем, действительно существовавшего – Андреа). Контур всадника двоится, чтобы удержать двоякий контур птицы. Бесцветной птицы, так что кони блекнут. И только где-нибудь вверху, на сходе новой, ренессансной перспективы, ярко дан, поскольку именован в тексте, белый кречет.
Есть итальянская монета тех же лет: всадник бросает на ветер цветы. Этот ребус разгадан давно и легко: цветы на ветер – fiori al venti. Или, возможно, fiori avanti – …вперед. Фиораванти был, помимо прочего, денежный мастер, едва не фальшивомонетчик: уехав в Москву, он ушел от суда. На обороте монеты-ребуса читаем: «Aristotil».
На московской монете, где всадником сам государь, а в руках его меч, оборот запечатан автографом мастера денежных дел: «Ornistotel». Сомнения в авторстве Фиораванти – от странности этого «n». Но ornis по-гречески птица, откуда и орнитология. Снова игра со словами, но и свидетельство странной серьезности поисков зодчего в области незаходящего солнца.
Часть II
Напрудное
Всадник на белом коне с белым кречетом на рукавице
Четверть века спустя (если возможно датировать событие предания), в долгое княжение того же государя, сокольник по имени Трифон упустил на охоте любимого государева сокола. Именно кречета, согласно чутким изложениям предания. Именно белого, согласно самым чутким. Поехал искать, во избежание казни. Не найдя, уснул среди леса – Сокольников или Лосиного Острова. И увидел своего ангела, мученика Трифона, на белом коне, с белым кречетом на руке. Ангел открыл, где отыскать потерю. На месте находки сокольник построил обетную церковь из камня во имя заступника.
И сам, собирая на храм, являлся на белом коне, с белым кречетом на рукавице, как в «Князе Серебряном» у Алексея Толстого, где птице даже присвоено имя: Адраган.
Это предание доныне памятно в Москве. Предание не просто книжное, но освященное, включенное в акафист мученику Трифону, в число его чудес.
Князь Патрикеев
В акафисте храмостроитель Трифон не назван сокольником, но царским боярином. Принято видеть в нем князя Ивана Юрьевича Патрикеева. (Фамилия звучит простонародно; между тем, Патрикий есть патриций, знатный, благородный. Гедиминовичи Патрикеевы, родоначальники князей Голицыных, Куракиных, Хованских и Щенятевых, – это сама аристократия.)
Двоюродный брат Ивана III, сын его тетки (есть версия другого счета колен), Патрикеев виден одесную государя в его делах. Однажды приютил его в своем дворе после кремлевского пожара. Бывал наместником столицы. А в опале, принужденный к монашескому постригу, князь Иван Юрьевич взял имя Трифон.
Это случилось в 1499 году, когда Иван Великий, почти шестидесятилетний, выбирал наследника престола. Выбирал между внуком Димитрием, оставшимся от старшего, но умершего сына, – и младшим сыном Василием. Шла династическая распря, усугублявшаяся тем, что сыновья были от разных жен: покойный старший – от Марьи Борисовны, рожденной княжны Тверской, младший – от Софьи Палеолог. За каждым кандидатом стояли партии географические, и решение немедля откликалось за границей: по матери Димитрий приходился внуком Стефану Великому молдавскому. Василий был императорской крови.
Сначала, в 1498 году, Иван венчал великим княжением «при себе и после себя» внука, причем впервые на Руси по греческому, царскому обряду. На следующий год властитель передал часть прав от внука к сыну. На этой перемене и преткнулся Патрикеев, по мнению Карамзина, стоявший за Димитрия и против Софьи.
Как легендарному сокольнику, великий князь оставил брату жизнь.
Церковь Трифона в Напрудном
Событие предания о кречете молва легко переносила в царствование Ивана Грозного. Поскольку Трифоном, без отчества, могли бы звать простого человека; аристократическая должность «сокольничий», распорядитель государевой охоты, учреждена при Грозном.
Церковь Святого Трифона в Напрудном, на современной Трифоновской улице, смотрит на оба времени, но традиционно датируется временем Ивана III. Чаще 1492 годом, от сотворения же мира 7000-м. Реже – 1500 годом. Первая дата знаменита ожиданием конца времен и неожиданным началом Нового времени для Запада, которому вместо скончания света открылся колумбов Новый Свет. В Москве под этим годом тоже состоялась подлинная перемена времени и света: Новый год стал отмечаться вместо марта в сентябре. (И отмечается доселе Церковью, спасенный в круге ее календаря от следующей, петровской перемены.) В храме Святого Трифона сакраментальный год указан надписью на камне, вправленном снаружи в стену (возле южного портала) и относящемся к чьему-то погребению.

Церковь Трифона Мученика в Напрудном. Чертеж фасада
Если же связывать постройку церкви с опалой Патрикеева, то датировка 1500 годом метафизически точнее.
Другое дело, что Напрудное, известное со времени Ивана Калиты, было селом великокняжеским, и мы не знаем документов, жалующих или продающих его кому-либо. Но есть правда культуры, часто не равная правде истории. В Напрудном культуре для чего-то нужно замещать Ивана III князем Иваном Патрикеевым. Двоить их контур, как и в случае Фиораванти, отца и сына.

Мученик Трифон. Фреска XVI века из церкви Трифона в Напрудном. ГТГ
Мученик Трифон патронирует русскую охоту. Местность царской охоты: Лосиный Остров, Сокольники, Измайлово – словом, бассейн верхней Яузы, или северо-восточный клин Московского уезда, нынешней Москвы, – эта местность имеет Напрудное своим передним, обращенным к городу углом. У церкви Трифона нет главного фасада, однако надстоящая над юго-западным углом плоская звонница создает главный ракурс. Этой гранью храм обращен к Москве, являя острие лесного клина, то, на котором (по версии Толстого, на одиноком дереве) и ждал погоню отлетевший белый кречет.
Апсиду церкви украшала наружная фреска, снятая в музей: мученик Трифон на белом коне с белым кречетом на отведенной руке. Это один из русских изводов иконографии святого Трифона, изображаемого также в рост или в полроста, но непременно с птицей на руке. (Балканская традиция видит его с виноградным серпом.)
В княжения отца и деда Ивана III «русский Трифон», или, во всяком случае, конный сокольник, в котором можно видеть и самого государя, изображался на деньгах, предвосхищая появление на них копейщика, разящего змею. Ушедший с денег, сокольник появился на княжеских печатях Патрикеевых. Так что монашеское имя князя Ивана Юрьевича не случайно.
В Напрудном делается видно, что конная фигура Аристотеля сличима с конной фигурой Трифона. Оба ищут кречета, именно белого, прежде чем строят по храму. Прежде – если не чтобы построить. Кречет великого, главного храма ищется в дальнем краю за тайгой, кречет малого – в ближнем лесу, и тоже в северо-восточном. А ведь символически белый кречет один.
Путь от Успенского собора к Трифоновской церкви лежит от молодости к старости Ивана III. По ветхому летосчислению, путь из столетия в столетие и даже из тысячелетия в тысячелетие, сквозь горловину 7000 года, отложенного светопреставления.
Есть интуиция, что малый государев храм во имя мученика Трифона, храм с фрескою-гербом, стоит вровень на неких весах, по длине рычага, с великим кремлевским собором.
Вот еще несколько причин чувствовать так. В Кремле Фиораванти вывел стены в камне, а своды, как тогда писали, в плитах. И так же выведена церковь Трифона. Плита – это уже не плинфа византийская, а близкий к современному кирпич. Собор Успения и церковь Трифона (конечно, не она одна) венчают начатую Долгоруким эпоху белокаменного зодчества и полуоткрывают эпоху кирпича. Еще до путешествия на север Аристотель разведал под Москвой годную глину и поставил кирпичный завод. Притом кремлевский храм, по слову летописца, был «виден отступя как един камень». Так же можно сказать о церкви Трифона. В ней, наконец, подозревают вторичное использование белого камня, будто бы взятого с разборки первого или с руин второго Успенского собора. Это приходская легенда, рожденная сегодня. Наконец, собор и церковь Трифона построены Иваном III, настоящим владетелем Напрудного.
И главным, как необходимо убедиться, героем этой таинственной истории.
Часть III
Иван Великий
Иван и София
Девять лет между Шелонью и Угрой, семидесятые годы, были утробными летами собиравшегося государства. Так чувствовали летописцы. Так же чувствовал в своей «Истории Москвы» Забелин. Он и они, рисуя те годы, наплетают события комом походов, пожаров, знамений, храмоздательств и взятий под руку Ивана земли и земли.
По Забелину, прежний собор, «доведенный уже до замкнутия сводов», разрушился, «предзнаменуя, что так с неумелым, старым строительным художеством разрушится и старозаветный вечевой порядок Русской жизни, именно в Новгороде, как сильнейшем представителе и охранителе этого порядка».
Мы скажем другое: собор-черновик, сокрушившийся «трусом» – землетрясением, не устоял на границе времен, еще обратимых, и на меже, на разломе земель, еще не собравшихся в целое. В единую платформу, над которой только и возможно «замкнутие сводов».
Забелин близок к этой мысли. «Итак, – пишет он, и позитивная наука достигает с этими его словами метафизической высоты, – постройка московского большого собора совершалась в одно время и шаг за шагом в ряд с постройкою Московского великодержавного государства.» Забелин попадает в этот шаг: «…В 1475 году, когда началась уже новая, аристотелевская постройка собора, вел<икий> князь снова двинулся в Новгород со многими людьми, но пошел туда миром пировать…»
Историк думает, не проговаривая, что поход на Новгород с любовью был условием успешного строительства Успенского собора. И значит, тектонической причиной провала первой стройки была война, первый поход, Шелонь.

Иван III. Гравюра начала XVI века
То есть после провала Иван Великий совершил не только и не столько административный, дипломатический или военный труд, сколько духовный. Труд любви. Встречный духовный труд предприняли и новгородцы. Они перенесли престольный праздник своей Софии на Успение, престольный праздник московского собора. С тех пор Софийскую Новгородскую икону празднуют в день Успения. Смысл этого установления ясен из знаменитого «где София, там и Новгород». Гений Ивана III понял и поднял кафедральный собор Москвы как новую Софию, и новгородцы согласились с этим. Ангел Софии и новгородские святые недаром писаны снаружи на стенах Успенского собора.
События двигались сразу в физическом и символическом планах, и участникам было об этом известно.
У древних новгородских писателей «войти в великую Премудрость Божию» значило войти в Софийский собор.
Подобно значению входа в собор, двоится значение брака Ивана и Софьи. «Палеолог» значит древнее, ветхое, ветхозаветное слово (наблюдение Владимира Микушевича). Иван брачуется с Премудростью.
И одновременно овладевает городом Святой Софии. Взятие города средневековая традиция всегда отождествляла с браком. И лучше, чтобы по любви. Поэтому Иван насилию над Новгородом предпочел сватовство, жениховство. И Новгород ответил на любовь, отвергнув домогательства Литвы. Новгород сделал выбор между католическим и православным государями. Так Софья еще в Риме отказала другому латинянину, тоже герою этого рассказа, герцогу Миланскому. Въехавшая в Русь под Псковом, Софья следовала к суженому через Новгород.
Все города Святой Софии – Новгород, Полоцк, Киев, Херсонес – суть предварения Константинополя, или, что то же самое, его проекции на нулевом меридиане греко-варяжского пути. Взяв Корсунь, князь Владимир взял и веру, и жену, и византийскую традицию. Корсунью Ивана III стал Новгород. После захвата Киева Литвой, особенно же после разделения пятивековой русской митрополии на Киевскую и Московскую, именно Новгород стал означать Москве наследство Киева, былой Руси, Владимира Святого. Наследство, называвшееся в Новгороде корсунским.
Вступая в брак с наследницей Палеологов, Иван вступал в права имперского наследства, перешедшего в Москву, как перешла София новгородская.
Словом, Иван Великий строил собор как страну, страну как семью и семью как собор. Входил в Премудрость. Новый Соломон, он понимал, что возводит Святая Святых – во испытание правды и обетованности Царства. Тем нагляднее прежняя безблагодатность его храмоздательства.
Какая же понадобилась сила, чтоб не отчаяться после обвала и строить сначала.
Возможное путешествие
С приездом Аристотеля заминка в деле видимо продолжилась, исполнившись невидимого деланья. Болонец принял несомненное участие в таинственных исканиях Ивана. Экспедиция Фиораванти может считаться новгородской, как и государев «любовный» поход, настолько, насколько Новгород владел Заполярьем. Ловчую птицу Москва добывала по соглашению с ним.

Строительство Успенского собора. Миниатюра Лицевого летописного свода. В центре, предположительно, Аристотель Фиораванти
Граф Хрептович, комментируя письмо Аристотеля, реконструировал путешествие зодчего «правдоподобно за отсутствием достоверного»:
«…Великий князь указывает на более ему известный Успенский собор во Владимире, но, вероятно, Иоанн III знает понаслышке и о новгородских храмах и велит Аристотелю осмотреть все лучшее и годное… Предположим, что это было во второй половине апреля <…> Посетив и срисовав владимирские и суздальские храмы <…>, Аристотель <…> спускается к Белому морю, имея теперь в виду добычу белых кречетов для миланского герцога <…> Видит в июне полночное солнце на указанной им высоте. Затем с добытыми серыми кречетами пускается в обратный путь <…>, попадает в Старую Ладогу… а оттуда в Великий Новгород <…> Обогащенный сведениями и рисунками, возвращается он в Москву, быть может в конце сентября, и подробно докладывает великому князю, особенно, вероятно, восхваляя Св<ятую> Софию, имя которой кстати носит великая княгиня <…> Иоанн III готовит тогда свой «мирный» приезд в Новгород и, наслышавшись о Св<ятой> Софии, берет, как мы полагаем, Аристотеля с собой в Новгород, это было 22 октября 1475 года <…> В Новгороде Аристотель еще подробнее изучает и срисовывает храмы, смотрит их вместе с Иоанном III и вместе с государем 8-го февраля возвращается в Москву. Письмо и кречеты 22-го февраля отвозятся в Милан сыном Аристотеля <…> А 12-го мая 1476 года происходит закладка ныне существующего, третьего Успенского собора, в котором нельзя не видеть влияния изученной Аристотелем новгородской Св<ятой> Софии».
Как цепь ученых допущений, история Хрептовича предельно уязвима. Но удивительно точна как сумма интуиций метафизических. В Новгороде Иван Великий стяжал великие дары любви и мудрости, даже Премудрости, софийности. Тем часом первый зодчий государя вез из Заполярья некий знак – белого кречета.
В третьем новгородском походе Ивана, зимой на 1478 год, Аристотель достоверно был рядом с великим князем. Как инженер, наводил мост через Волхов. Именно тогда Иван привел Новгород «во всю свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве». И вновь, пишет Забелин, «со стороны Новгорода событие совершилось мирным порядком – войны не было». Со стороны Москвы войска пришли, но не вступили в дело. Их вел, помимо прочих воевод, князь Иван Юрьевич Патрикеев. В лето после похода Фиораванти вывел Успенский собор под кресты. Делать кровлю государь оставил новгородским мастерам. На следующий год расписанный собор был освящен, а вскоре новый русский мир стоял на Угре.
Часть IV
Соломон и Китоврас
Апокриф
Новгородцы сами искали что-то на краю своих владений. То рай земной, то Лукоморье, царство Китовраса – кентавра, царившего в народном бестиарии Северо-Запада и Северо-Востока, Поморья.
Апокрифы, «кощуны» о Китоврасе начинаются там, где оставляет место тайне Писание, стих о Святая Святых Соломона:
«Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; но ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его» (3 Цар. 6:7).
Смысл этого запрета разъясняется словами, сказанными Богом Моисею на Синае: «Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных. Ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их» (Исх. 20: 25).
Просвещенный государь XV века, у которого упал соборный храм, остановил бы взгляд на этих фрагментах Писания. Упавший храм был именно обтесан, «камнесечцы» – нарочитое словцо в хрониках обрушения.
Но что же делать, если не тесать? Или тесать, но не железом? Чем? Писание молчит – апокриф начинается.



