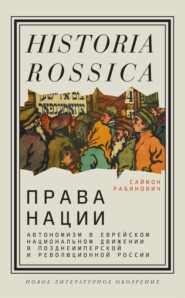
Полная версия:
Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России
«Надо отказаться, – писал Зильберфарб, – от наивного взгляда, будто стоит только продекларировать равенство перед законом всех граждан, независимо от их национального происхождения, чтобы национальные интересы, растворившись в классовой борьбе, перестали играть существенную роль в государственной жизни…» Пока господствующая нация не заинтересована в том, чтобы не на словах, а на деле разрушить «иерархию наций и сузить „площадь национальных трений“», все разговоры о благополучии, которое наступит, как только все народы будут признаны равными, остаются «благопожеланиями»192. В своих публикациях группа обосновывала необходимость децентрализации государства и критиковала просвещенческие установки, согласно которым в современном государстве не может быть двойной лояльности. Скептическое отношение к конституционализму сближало «возрожденцев» с революционером Ароном Либерманом (1845–1880), который десятилетиями ранее доказывал, что конституционное правление не изменит участь угнетаемых, и прежде всего евреев. Поскольку равноправие само по себе обездоленным ничего не даст, начинать надо с радикального экономического переустройства.
Примечательно, что теоретики, входившие в «Возрождение», отказывались считать национализм всего лишь «временным средством» и не принимали тезис социалистов о том, что национальная борьба должна вести к космополитизму, знаменующему начало эпохи, когда национальные интересы исчезнут с лица земли. «Нет, мы так не думаем, – писали они. – Мы утверждаем, что в этом пункте обрывается путь законной аналогии между классовой и национальной борьбой»193. По их мнению, национальная борьба в настоящее время сопутствует классовой борьбе, но и в будущем, когда все народы, наделенные равной автономией и правами, смогут мирно сосуществовать друг с другом, национальные различия все равно сохранятся. Заслуга «Возрождения» состояла прежде всего в том, что эта группа, основываясь на идеях Житловского и Дубнова, последовательно разрабатывала социалистическую концепцию еврейского автономизма. Не менее важно и то, что их теории имели под собой прочную юридическую основу. Это позволяло им убедительно оспаривать расхожее интеллигентское мнение, будто конституционное правление и всеобщее гражданское равенство, пусть даже на федеральной основе, по умолчанию обеспечат равные национальные права евреев. Многие интеллектуальные последователи Дубнова и Житловского, начинавшие как социалистические сионисты, а затем развивавшие свои идеи в составе «Возрождения», впоследствии станут ведущими российскими теоретиками еврейского автономизма.
В 1906 году на основе группы создается Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП). Как и «Возрождение», СЕРП была идейно близка к эсерам и занимала максималистскую позицию в вопросе о национальной автономии194. Согласно программе новой партии, которую возглавили Исроэл Ефройкин (1884–1954), Нохем Штиф, Зелик Калманович (все трое потом присоединятся к Фолкспартей), а также Мойше Зильберфарб, Авром Розин и Марк Ратнер, во главе еврейской национальной автономии должен стоять сейм, уполномоченный законно представлять евреев и облагать их налогами. Поэтому члены партии получили название сеймистов195. В 1906 году в Европу после поездки с лекциями по США возвращается Житловский. Он поселяется во Львове (Лемберге) и активно участвует в становлении молодой партии.
Бунд трактовал преимущества социально-политической еврейской автономии совершенно иначе. Тем не менее при переходе от ортодоксального марксизма, для которого идиш был не более чем средством распространения марксистских идей и агитации среди еврейских рабочих, к положению партии, отстаивающей культуру на идише, Бунд также постепенно усваивает автономистские идеи196. В 1897 году, в самом начале своего существования, бундовцы утверждали, что еврейский национализм может навредить делу классовой борьбы и пробудить в еврейском пролетариате нездоровые шовинистические чувства. По словам Цви Гительмана, цель Бунда, как ее понимали первые руководители партии, состояла в том, чтобы «воспитать в высшей степени сознательных социалистических рабочих, глубоко и прочно ассимилированных в русской культуре и способных идти в центры скопления российского пролетариата, чтобы проповедовать ему доктрину социализма»197. Однако близкое знакомство с рабочим классом быстро избавило еврейских революционеров от ассимиляционистских иллюзий и убедило их, что единственный способ повести за собой еврейских рабочих – создать революционное движение, «укорененное в их среде»198.
Вопреки первоначальным декларациям интернационализма и к разочарованию некоторых представителей российской социал-демократии, Бунд довольно скоро провозгласил себя еврейской партией и на своем IV съезде, состоявшемся 24–28 мая 1901 года, заявил, что в России различные нации «должны образовать федерацию… с полной национальной автономией для каждой из них независимо от территории, какую она занимает… Понятие нации должно быть применимо и к еврейскому народу»199. Эта перемена отчасти была вызвана массовым притоком в партию неассимилированных рабочих; со временем именно они, а не обрусевшая интеллигенция, составят в Бунде большинство. Для Бунда стал значим федерализм. Если Российская империя призвана стать «федерацией наций», значит, евреев тоже следует признать нацией, которой полагается автономия, независимо от того, где они проживают. Принятие подобных идей, несомненно, свидетельствовало о растущем влиянии некоторых мыслителей, и прежде всего Джона Миля, который, живя в Швейцарии, в 1906 году стал главным редактором бундовского издания «Дер идишер арбетер» («Еврейский рабочий», идиш). Именно он познакомил читателей с идеями Каутского200 – в частности, использовал его рассуждения о внетерриториальной автономии как способе разрешить национальный вопрос, чтобы отразить нападки на Бунд со стороны Польской социалистической партии201. Если на состоявшемся в 1899 году третьем съезде Бунд отклонил идею Миля о еврейских национальных правах, то два года спустя, как видно из приведенного выше утверждения, в Бунде уже были готовы видеть в евреях отдельную нацию202. Однако резолюция съезда, прошедшего в 1901 году, еще не свидетельствовала о переходе Бунда на отчетливо националистические позиции; скорее, это было требование равноправия с другими народами. Почти все возникающие в это время социалистические организации носят национальный характер. Бунд тоже утверждал, что евреи – это полноценная нация и было бы несправедливо лишать их прав, которые социалисты требуют для других национальных меньшинств.
Таким образом, в начале XX века формируются две концепции социалистического автономизма. Бунд включает в свою программу требование признать право евреев на собственный язык и школы, но при этом не признает ни еврейский национализм, ни необходимость социально-политической автономии. Конфликт между национализмом Миля и Житловского, с одной стороны, и более традиционным социалистическим космополитизмом, с другой, нагляднее всего отражен в нейтралистской теории Владимира Медема. В работе «Социал-демократия и национальный вопрос», опубликованной в 1904 году, Медем доказывает, что в противостоянии между сторонниками ассимиляции и национализма еврейскому рабочему движению необходимо сохранять нейтралитет, поскольку обе «воюющие стороны» в конечном счете служат интересам буржуазии. Рабочим не следует поддерживать национализм, но и бороться с ним тоже не стоит; скорее, они должны противостоять национальному бесправию неустанными попытками добиться от государства права на национальные школы203.
«Возрождение», в отличие от Бунда, стоит на сугубо автономистских позициях и полностью принимает соответствующую социально-политическую модель. Однако нужно помнить, что эта группа первоначально представляла собой, по сути, небольшую группу интеллигентов, которая лишь со временем трансформировалась в партию, тогда как Бунд в то время, о котором идет речь, насчитывал десятки тысяч членов. Это отчасти объясняет, почему автономистское крыло еврейского социалистического движения было немногочисленным и выглядело гораздо более слабым, чем бундовское, которое, постепенно признавая ценность еврейского национального самосознания, тем не менее сводило борьбу за автономизм к защите прав на язык и национальные школы.
ФЕДЕРАЛИЗМ И ПРАВА НАЦИЙ
Как и другие национальные меньшинства Российской империи, евреи внимательно наблюдали за попытками их многонационального западного соседа, Австро-Венгрии, справиться с тлеющими межэтническими конфликтами, и предложение австрийских социал-демократов установить национально-культурную автономию на основе языковых общностей нашло немало сторонников среди еврейских социалистов в России. Вместе с тем дискуссии в среде австрийских социалистов показывали, что предоставление национальных прав меньшинствам, будь то в России или в Австро-Венгрии, еще не гарантирует полноправия евреям. Можно сказать, что многим российским еврейским социалистам Австрия показала скорее отрицательный пример, свидетельствовавший о «ловушках» конституционализма и одновременно подтвердивший тезис о том, что только революционное социалистическое государство способно в полной мере обеспечить национальные права. Так, например, члены группы «Возрождение» утверждали, что в Австро-Венгрии господствующие нации используют конституционализм, чтобы оттеснить «подчиненные национальности к низшим ступеням общественной лестницы», и таким образом вынуждают прибегать к «парламентской обструкции» или «переносить борьбу из представительских учреждений на улицы»204. По их убеждению, Россия обречена повторить австрийский опыт изматывающего национального противостояния, но в российской революционной ситуации эта борьба будет более жестокой. Они рассуждали так: повсеместно, где живут евреи, их национальная буржуазия будет держать двойную оборону: против буржуазии недавно получивших политические права соседей – будь то поляки, украинцы или литовцы – и против буржуазии прежде господствовавшей нации. В этой борьбе жертвой экономического соперничества и политического противостояния неизбежно окажется пролетариат. Единственный выход сторонникам автономизма виделся в установлении «ясных и точных правовых норм», определяющих «юридическое положение национальной коллективности» и закрепляющих правомочное существование «национальных институций» как посредников между государством и отдельными личностями205. По сути, полагали они, полная свобода наций может быть достигнута только тогда, когда будут созданы национальные представительства. Однако для того, чтобы национальные организации обладали достаточным авторитетом внутри своей общности и могли выражать ее коллективную волю вовне, их должно санкционировать государство.
Как и австрийские социал-демократы, «возрожденцы» считали государственное признание «наций как юридических лиц» единственным способом гарантировать права всем народам206. Возможно, основание для такой уверенности давала австрийская конституция, одна из статей которой гласила: «Все народности государства равноправны, и каждая из них пользуется ненарушимым правом на сохранение и развитие своей культуры и языка»207. Однако по-прежнему оставался вопрос, можно ли на уровне законодательства считать нацией евреев; и в ответе на него австрийские социал-демократы (как еврейского, так и нееврейского происхождения) радикально расходились с еврейским политическим движением. Так, в том самом 1906 году, когда была основана Социалистическая еврейская рабочая партия, Авром Розин издал брошюру с резкой критикой ассимиляционистских идей Каутского и его крайне ущербного, по мнению Розина, анализа еврейской проблематики208. Так или иначе, несомненно, что «возрожденцы», а впоследствии – СЕРП, пристально следили за полемикой в кругах австрийских социал-демократов, пытаясь понять, что из предложенного ими приемлемо для России209. Некоторые автономисты охотно восприняли свежие идеи австрийских социал-демократов, в частности их тезис о возможности внетерриториальной автономии, и даже нежелание австрийских борцов за права народов распространить этот принцип на евреев их не смущало. Другим сторонникам автономии оказалось ближе требование национальных прав, сформулированное социалистами. В 1907 году, тогда же, когда Дубнов опубликовал свои «Письма», вышло первое издание работы Отто Бауэра «Национальный вопрос и социал-демократия». Два года спустя стараниями еврейских автономистов эта книга пришла в Россию: в 1909 году СЕРП опубликовала ее по-русски с пространным 54-страничным предисловием Хаима Житловского210. Эту вступительную статью можно смело назвать одним из самых ярких его размышлений об автономизме. В ней Житловский рассматривает взаимоотношения между классовой и национальной борьбой, анализирует исторические основания и предпосылки украинской и белорусской автономии в Российской империи (в унисон с рассуждениями Бауэра об австрийских делах) и жестко критикует Бунд, а также другие группы еврейских социалистов за их, как ему кажется, сумбурные представления о еврейских национальных правах. Для него не столь важно, что Бауэр пишет о евреях, сколько сама возможность публично заявить, что становление еврейского национального самосознания – это непрерывный процесс и сейчас он достиг той точки, когда социалистические идеи, воспринятые евреями, позволяют им, наравне и совместно с другими народами, отстаивать свое национально-культурное равноправие: «Независимо от [национальных требований]… малорусской группы теоретиков подняли свой голос представители другого угнетенного народа – еврейского»211.
По мнению многих исследователей, как дубновская, так и социалистические теории еврейской внетерриториальной автономии выросли из политических дискуссий австрийских социал-демократов212. Справедливости ради следует уточнить, что австрийским влиянием столь же единодушно объясняется не только происхождение автономистской теории Дубнова, но и возникновение идей его главного оппонента из среды социалистов – Житловского213. Однако даже Бунд, находившийся под прямым влиянием идей Каутского и этим заслуживший репутацию интеллектуального наследника австрийских социал-демократов, практически не затронули идеи их поздних теоретиков, в частности Реннера и Бауэра214. Дубнов не раз утверждал, что продумывал свои идеи независимо от австрийских социал-демократов и тех еврейских интеллигентов, которые принесли их идеи в Россию215. Так, например, в примечании к переизданным в 1907 году «Письмам о старом и новом еврействе» он уточняет, что, читая первую часть работы Реннера «Der Kampf der österrreichischen Nationen um den Stadt» («Борьба австрийских наций за государство»), вышедшей в 1902 году, был приятно удивлен, обнаружив сходство между своими рассуждениями о евреях и размышлениями Реннера об австрийских национальных меньшинствах. По словам Дубнова, «Государство и нацию» он прочитал после того, как закончил собственный труд216. Столь же необоснованным представляется тезис о заимствованиях Дубнова у Отто Бауэра: главная работа Бауэра вышла только в 1907 году, когда основные идеи Дубнова уже были широко известны из его «Писем», распространявшихся в первой и дополненной редакциях. Однако и те читатели Дубнова, кто считает, как он сам того хотел, его мысль полностью оригинальной, и те, кто приписывает его идеи австрийским влияниям, на наш взгляд, в равной мере далеки от истины. Со взглядами австрийских социал-демократов Дубнов, вероятнее всего, мог познакомиться если не через работы Реннера и Бауэра, то по статьям Адлера, Каутского или по материалам, публиковавшимся во влиятельном социалистическом журнале «Die Neue Zeit» («Новое время»), который издавал Каутский с 1890 по 1917 год. Этот журнал был популярен в среде русских марксистов, и не только в ней217.
Поскольку Реннер и Бауэр были теоретиками права, не исключено, что на Дубнова в 1906 году, когда он пересматривал свою теорию, могли повлиять их правоведческие рассуждения об автономизме. Однако национализм для него всегда обладал ценностью сам по себе, и это радикально отличало Дубнова от австрийских социал-демократических мыслителей. Если же говорить о влияниях, которые испытал Дубнов, их, скорее, надо искать в либерально-националистических теориях. Достаточно познакомиться с работами Джона Стюарта Милля, к которому Дубнов относился с огромным почтением, – и становится понятнее, где кроются истоки дубновских представлений о внетерриториальном автономизме. В отличие от социалистов, определявших нацию исключительно по языку, Милль выделял несколько составляющих: кроме языка это религия, общественное устройство, территория, но важнее всего – общность исторического опыта. Кроме того, он доказывал, что каждой нации свойственно естественное «стремление жить под началом общего для всех правительства, состоящего исключительно из соплеменников»218. Это рассуждение, появляющееся у Милля в контексте полемики с колониализмом, было вполне применимо к ситуации национальных меньшинств в Российской империи. Обобщенно говоря, он отстаивал ценность национальных государств, а там, где они невозможны, предлагал федеративное устройство. Идея внетерриториальных автономий не встречается у Милля нигде, но вместе с тем он считал, что в справедливо и разумно устроенной федерации все граждане должны обладать правом «двойной лояльности» с четким определением границ и полномочий каждой из властей; очевидно, что представления Дубнова о будущем российского еврейства гораздо ближе к этой идее, чем к теории внетерриториальной языковой и культурной автономии, которую выдвигали австрийские социал-демократы219.
Хотя Дубнов, Житловский и Бунд решительно отрицали австрийское влияние, именно труды Реннера косвенно объясняют, как разные теоретики примерно в одно и то же время пришли к схожим выводам. В последнее время, пишет Реннер, все чаще говорят о признании коллективных прав, начиная с торгового права и заканчивая правами рабочих. «Так неужели, – продолжает он, – важнейшие для нашей государственности группы – национальности – все еще должны в правовой жизни пребывать в трансцендентальном состоянии, не поддаваясь облечению в гражданские формы государственно-правового бытия»220. В имперской России, в отличие от Австро-Венгрии, подданные имели меньше личных прав. Вместе с тем существовавшая в России сословная система с ее законодательно закрепленными привилегиями и ограничениями воспитывала и укрепляла уверенность в групповых правах. Утверждение Реннера, что концептуально «нация – это не территориальная единица», было близко к позиции Дубнова, однако они исходили из разных посылок и задач. Реннер полагал, что принятие внетерриториального принципа позволит разрешить национальные споры в полиэтнической Австрии (и заодно избежать подавления одних наций другими), тогда как Дубнов, в целом признавая значимость территории, все же считал опыт еврейской диаспоры исключительно ценным и даже, говоря в терминах эволюционной теории, более прогрессивным. Его «Этика национализма» появилась в 1899 году, когда он опасался, что прямая и несомненная связь между французским национализмом и антисемитизмом, отчетливо проявившаяся в деле Дрейфуса, отвратит евреев от национальных идей как таковых. Иначе говоря, «ударивший» по евреям крайний национализм другого народа побудил Дубнова выработать, по его словам, критерий, «позволяющий различать, что в национализме есть добро, а что есть зло, и тем самым отделять еврейский национализм от антисемитского»221.
Реннер разрешал сугубо юридическую дилемму: как представителям того или иного народа обеспечить и сохранить свои права независимо от того, где они живут. Перед Дубновым стояла дилемма философская: ему предстояло понять, возможно ли сохранить национальное самосознание, не имея своей территории, а в будущем, возможно, утратив «веру отцов»222.
ИДЕИ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКИХ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ДИСКУССИЯХ
Дубнов был убежден, что еврейское автономистское движение в России способно достичь своих целей посредством культурной и общинной деятельности. Благодаря культуре, полагал он, самоотождествление по религиозному признаку постепенно сменится секулярной национальной идентичностью, а общинный активизм позволит очертить сферы национальной автономии в настоящем и расширить их в будущем223. Дубнов начинал как теоретик еврейского национализма и национального развития, однако можно проследить, как со временем в его работах все отчетливее оформляется более частная концепция еврейской автономии. В 1897 году в статье «Теория еврейского национализма» он показывает, как исторически, благодаря воспитанию национального самосознания и сохранению уникальной диаспорной культуры, создавались основы для национального чувства224. В работе 1898 года он анализирует исторические основы становления еврейской жизни в Западной Европе, в 1899 году обосновывает этическую систему, на которой могли бы строиться отношения между нациями, а два года спустя, в статье «Автономизм как основа национальной программы», снова обращается к еврейской истории, чтобы показать, какой ценой евреям в течение веков удавалось сохранять автономию в диаспоре и как, опираясь на их опыт, можно сменить дряхлеющее религиозное национальное самосознание жизнеспособным секулярным. Изложенные в этих работах представления о еврействе как о «духовной» или «культурно-исторической» нации, равно как его идеи восстановления еврейского общинного самоуправления, были на рубеже XIX–XX веков очень популярны, и повсеместно считалось, что именно Дубнов заложил теоретические основы еврейского автономизма225.
Основываясь на собственной трактовке еврейской истории, Дубнов утверждал, что еврейская автономия всегда держалась на трех столпах: общине, языке и образовании. Образование представлялось ему «несущей опорой», поскольку именно оно могло бы позволить евреям преодолеть разрыв между этнической и культурной идентичностями226. Идеи автономизма разрабатывали многие мыслители, однако все они воспринимали дубновские «три столпа» как основополагающие элементы еврейской автономии. Не менее важно, что выделенные Дубновым три элемента автономизма превосходно вписывались в более общую картину правовых и политических перемен в Восточной Европе. Независимо от авторской интенции дубновская теория была созвучна идеям других федералистов. Она коренилась в требовании признать евреев нацией и, несомненно, отражала рост социальной и политической активности интеллигенции, создававшей новые структуры общинной жизни.
Автономистское стремление «обособить» внутри российского общества пространство еврейской общинной жизни во многом совпадало с усилиями русских либералов и автономистов создать независимое от государства пространство общественной жизни. Подобно тому как слово «интеллигенция» в России второй половины XIX века относилось к людям, вовлеченным в распространение идей и культуры, словом «общественность» в тот же период начинают называться граждане, пытающиеся общественно активными действиями улучшить положение дел в стране227. До 1860 года «обществом» именовала себя европеизированная просвещенная аристократия в противоположность «простому народу»228. Со временем это понятие демократизировалось: в «общество» вошли разночинцы, и новое понятие «общественность» теперь описывало просвещенную и социально активную часть русского социума. Перемены, происходившие в Российской империи второй половины XIX века (достаточно упомянуть Великие реформы, урбанизацию и экономические преобразования), привели к появлению на социальной арене людей, обладавших профессиональными знаниями, но не вписывавшихся ни в одно из законодательно закрепленных сословий229. Этот «третий элемент», определяемый скорее апофатически («не дворянство и не крестьянство»), стал движущей силой многих социальных перемен в России конца XIX – начала XX века, и слово «общественность» приобрело новый смысл: оно стало собирательным именованием выступающей за реформы и труд ради общего блага социальной группы, в которой демократически мыслящая разночинная интеллигенция играла ведущую роль230. Иначе говоря, в российском политическом контексте рубежа XIX–XX веков значение этого слова расширяется: оно относится к просвещенной и политически сознательной части социума, заботящейся об общественной пользе и отличающейся гражданской ответственностью231. Хотя в английском языке эквивалента для этого понятия нет, в недавних англоязычных исследованиях им описывалась группа, «идентичность которой определяется глубокой убежденностью в том, что российская нация не тождественна российскому государству, а будущее России зависит от того, удастся ли достичь подлинного равновесия между самостоятельными общественными инициативами и государственной властью»232.
Теории «общественности» выросли из споров 1860–1890-х годов о самостоятельности земств, которые были учреждены в 1864 году как местные бессословные органы самоуправления в двух третях губерний европейской части России (на Польшу «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» не распространялось). Во второй половине XIX века многие российские либеральные философы, в том числе Владимир Соловьев, писали о необходимости создавать «общественные организации», призванные трудиться ради общего блага. Примерно тогда же Борис Чичерин доказывал, что государство и общество – полностью автономные «сферы». Чичерин пришел к конституционализму только в 1900 году, однако его теория гражданского общества, согласно которой граждане призваны создавать самостоятельную общественную жизнь, была сформулирована гораздо раньше233. Благодаря этим и многим другим мыслителям, идеи самоуправления, способного преобразовать Россию и взять на себя многие государственные функции, постепенно завладевали умами не только либералов, но и консерваторов.



