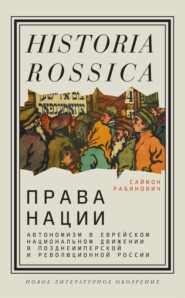
Полная версия:
Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России
В итоге автономизм предлагал евреям разрешение проблем национального развития. На закате империи либералы, радикалы и многие другие ожидали преобразований – эволюционных или революционных. В таком контексте национальные меньшинства, особенно западных губерний, где проживала основная часть евреев, все настойчивее предъявляли свои требования, в том числе добиваясь ослабления центральной власти в пользу большей автономии. Некоторые интеллигенты осознавали (зачастую со страхом), что от евреев ожидают либо полного растворения в национальных движениях других меньшинств – польского, украинского, литовского, – либо полного слияния с культурой имперской России. В Царстве Польском евреи столкнулись с подобным выбором уже в начале XIX века155. Автономизм позволял применить к евреям национальные требования других меньшинств, но не увязывал эти требования с наличием собственной территории. Отчасти он тем и был привлекателен, что предлагал выход из дилеммы, не разрешимой другими способами.
Глава 2
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ ПРАВОВОМ ЛАНДШАФТЕ ЕВРОПЫ
Возникновение идеи еврейской автономии частично связано с ростом секулярного национального самосознания той части российского еврейства, которая отошла от традиционного образа жизни и религиозных практик. В то же время автономизм был движением, отстаивавшим право евреев на собственное, четко определенное общественное пространство, и в этом движении отразились перемены в социальной жизни поздней Российской империи: урбанизация, усиливающийся разрыв между религиозной и частной жизнью, возросшая свобода формирования групп и сообществ. Ранее подобные процессы уже оказали влияние на еврейские общины других европейских стран. В XVIII–XIX веках представители еврейской интеллектуальной элиты Центральной и Западной Европы также создали еврейское публичное пространство и пытались перекроить еврейское общество под свои идеалы156. Однако их цели значительно отличались от тех, которые ставили перед собой в начале XX века российские сторонники еврейской автономии. Возникающее в это время в России еврейское общественное движение, несомненно, коренится в более ранних государственных реформах и социальных преобразованиях. Маскилим, пытавшиеся в XIX веке с переменным успехом отстоять свое право выступать от имени всего российского еврейства, были движимы сознанием своей ответственности, убеждены, что традиционное общинное руководство несостоятельно и только они способны достойно заменить его157. До того момента, когда в борьбу за лидерство в еврейской общине, помимо сторонников Гаскалы и традиционалистов, вступили националисты и социалисты, политическая дискуссия сосредотачивалась главным образом вокруг вопроса о том, какая форма общины наилучшим образом обеспечит благополучие народа.
Дубнов играл ключевую роль в распространении идей автономизма в еврейской среде, но саму идею он заимствовал у русских либералов и польских националистов: и те и другие выступали за децентрализацию Российской империи. Русские либералы понимали автономизм как передачу власти от правительства земствам, польские националисты – как суверенитет, максимально близкий к независимости. Для еврейских же националистов в автономизме объединились обе идеи: местное самоуправление и национальная автономия посредством создания новых общественных институтов. Главным фактором развития еврейской национальной политики стала необходимость приспосабливаться к меняющемуся политическому ландшафту – к ситуации, когда другие религиозные и национальные группы все настойчивее требовали признания своих коллективных прав. Таким образом, становление еврейского национализма происходило теми же путями, какими, в соответствии с изменениями в законодательстве и собственными коллективными ожиданиями, развивались другие общности Европы. Евреям – участникам сложного и противоречивого общеевропейского процесса национального самоопределения – предстояло осознать, кто они, и сформулировать, каких коллективных прав они для себя ищут.
В этой главе речь пойдет об интеллектуальной «закваске», на которой взошли идеи автономизма, воспринятые еврейскими либералами и социалистами. Еврейские социалисты в России обратились к способам, предложенным австрийскими марксистскими теоретиками права для разрешения тлеющих конфликтов между населяющими Австро-Венгерскую империю народами. В то же время еврейские либералы и зарождающаяся еврейская интеллигенция в целом внимательно наблюдали за широкомасштабным экспериментом по созданию земского самоуправления в России и разделяли стремление российских общественных деятелей к децентрализации Российской империи во имя ее обновления и возрождения. Социалистические и либеральные концепции еврейской автономии отчасти схожи, однако ключевые цели в них определялись по-разному. Социалисты полагали, что добиться революционного освобождения еврейских рабочих можно, если евреи на равных с другими народами и совместно с ними будут бороться за социализм и новое, справедливое общество. С точки зрения всех остальных автономистов, российским евреям для достижения подлинного гражданского равенства необходимо было получить национальные права, обеспечивающие самосохранение общины. Итак, социалисты, либералы, националисты – словом, все сторонники еврейской автономии – приспосабливали господствовавшие в ту пору интеллектуальные течения к своей национальной ситуации, доказывая, что евреи должны добиваться политического равноправия в Российской империи не только как отдельные личности, но и как единая группа.
ХАИМ ЖИТЛОВСКИЙ, АВСТРИЙСКИЕ МАРКСИСТЫ И ЕВРЕЙСКИЙ АВТОНОМИЗМ
Дубнов черпал свою автономистскую идеологию из многих источников, но язык, аргументация и структура его программы свидетельствуют об идеализации самоуправления на местном уровне и о стремлении к федерализму на уровне государственном. Разумеется, споры о национальной идее для российского еврейства происходили не только вокруг текстов Дубнова, однако в этих спорах неизбежно затрагивались его ключевые тезисы, в том числе возрождение кегилы как формы еврейского самоуправления. По сути своей философия Дубнова была либеральной, хотя и оказала влияние на социалистическую концепцию еврейского автономизма. Так, в экономике он выступал последовательным противником любой реорганизации российского общества, которая лишала еврейство возможности зарабатывать на жизнь ремеслом и торговлей. В окружающей Дубнова среде социалистическая трактовка еврейского автономизма, в которой автономия рассматривалась как один из путей к победе пролетариата, все теснее сплеталась с либеральными идеями. Так формировались политические идеи о будущем российского еврейства. В 1897 году группа социалистов еврейского происхождения создала Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, Польше и России, который впоследствии стал известен как Бунд (Союз, идиш). Это была наиболее влиятельная еврейская социалистическая партия, хотя ее представления об автономии ограничивались исключительно правами на собственный язык и школы. Правда, некоторые социалисты постепенно стали признавать ценность автономизма, а другие позднее присоединились к либеральному автономистскому крылу.
Параллельно с развитием дубновской концепции автономизма российские еврейские социалисты, прежде всего эмигранты, вырабатывали идеологию, в которой социалистические идеи соединялись с национальными требованиями. Значительное влияние на обе группы оказали работы Хаима Житловского (1861–1943)158. Друг и земляк известного писателя и эсеровского деятеля С. Ан-ского (Шлоймо Занвл Раппопорт, 1863–1920), Житловский примкнул к народовольцам. Бывшие ученики хедера предпочли традиционному иудаизму российский радикализм159. Житловский был сыном преуспевающего торговца лесом, и отцовское состояние позволило ему не только перебраться в 1886 году в Петербург, но и годом позже издать первую книгу «Мысли об исторических судьбах еврейства»160. Как и Дубнов, он с возмущением относился к тем радикально настроенным соплеменникам, кто не умел ценить свое прошлое: Житловский полагал, что иудейская религиозная традиция исторически была залогом национальной идентичности. Вместе с тем, в отличие от Дубнова, Житловский считал, что культурной, национальной и языковой автономии даже без самоуправления будет достаточно, чтобы сохранить национальную самобытность.
Роль Хаима Житловского исключительно важна: он одним из первых, в 1880-х годах, когда еврейские социалисты противились любым формам национализма, заговорил о необходимости объединить социалистическую и национальную идеи. С конца 1880-х годов он жил политэмигрантом в Швейцарии, где сблизился с группой еврейских социалистов, разделявших некоторые националистические идеи и пытавшихся противостоять ассимиляционистским настроениям в среде своих единомышленников и еврейской интеллигенции в целом161. В 1892 году Житловский опубликовал под псевдонимом E. Хасин статью «Еврей к евреям», в которой призывал еврейских революционеров вернуться к своему народу162. Он начинает с того, что опровергает распространенное среди еврейских социалистов убеждение, будто большинство их соплеменников – «паразиты»; напротив, утверждает Житловский, значительная часть российского еврейства уже давно превратилась в дешевую рабочую силу. Как и Дубнов, Житловский полагал, что правовая эмансипация евреев на Западе не способствовала сохранению еврейской национальной жизни и непригодна для восточноевропейского еврейства. По его мнению, предоставление гражданского равноправия евреям обернулось «фатальными ошибками», которые сделали положение евреев в Европе – разумеется, не правовое, а национальное, экономическое и духовное – «далеко не таким блестящим, как мы привыкли думать»163. В 1903 году вместе с Ан-ским, Виктором Черновым и четырьмя другими единомышленниками Житловский основал в Берне Союз русских социалистов-революционеров164. Он без устали защищал идиш, последовательно отстаивал еврейские национальные права, но вместе с тем трактовал их достаточно узко – главным образом как право на собственный язык.
Дубнов не отмечает вклад Житловского в концепцию национализма диаспоры, поскольку до 1905 года работы и политическая деятельность последнего были известны главным образом за пределами России165. Возможность пропагандировать свои идеи на идише у Житловского впервые появляется в 1904 году, а в особенности – после переезда в США в 1910 году166. Однако несомненная заслуга Житловского заключалась в том, что ему удалось заинтересовать еврейских социалистов национальной идеей или по крайней мере убедить их, что социализм и национальное самосознание не противоречат друг другу. В 1890-х годах его аудитория была очень малочисленной, но когда впоследствии о еврейской культурной автономии заговорили бундовцы, их концепция оказалась близка к положениям, в свое время высказанным Житловским. Наконец, стоит упомянуть, что он в немалой мере способствовал началу разговора об автономии в среде еврейских социал-демократов167.
Житловский, равно как и другие бежавшие в Швейцарию из Российской империи еврейские социалисты, в том числе Иосиф (Джон) Миль (1870–1952), несомненно, находился под влиянием федералистских идей, которые разрабатывали австрийские марксисты. Как и Россия, многонациональная имперская Австро-Венгрия была расколота постоянными конфликтами между населявшими ее народами. Со временем в австро-венгерских дискуссиях о том, как преодолеть межнациональные противоречия, сложилась концепция внетерриториальной автономии, и эта идея, несомненно, проникла на восток. Австрия не была либеральной демократией, но в ней, в отличие от России, существовал парламент и происходила сравнительно свободная политическая жизнь. Многие австрийские социал-демократы полагали, что действующая в стране конституционная система не обеспечивает равные права всех народов, что неизбежно оборачивается «междоусобными войнами» и мешает объединить пролетариат. Постоянные конфликты между этническими группами, населявшими империю, и главным образом национальное противостояние в Чехии побудили Карла Каутского в 1897 году сформулировать позицию социалистов по проблеме многонациональных государств. Он, в частности, утверждал, что в Австро-Венгрии и подобных ей странах предоставление национальным меньшинствам территориальной независимости неизбежно приведет к угнетению меньшинств в новосозданных государствах, и предлагал отделить самоопределение от территории и предоставить каждой – определяемой по языку – этнической группе автономию в национальных делах с помощью внетерриториальных национальных организаций168.
Из теории Каутского выросла построенная по федеративному принципу Социал-демократическая партия Австрии; впоследствии его учение легло в основу Брюннской программы, принятой в 1899 году на проходившем в Брюнне (Брно) первом съезде реорганизованной Социал-демократической партии Австрии169. Менее чем за два года, от преобразования партии в 1897 году (по сути, она превратилась в федерацию, объединяющую шесть национальных партий) до съезда в Брно, австрийским социалистам удалось в дискуссии о стратегии и организации выработать собственную теорию национальной автономии170. Они понимали, что атмосфера противостояния между народами мешает классовой борьбе, поэтому главная задача съезда состояла в том, чтобы примирить различные национальные группы. В этот период в международной социалистической повестке национальная проблематика практически отсутствовала, и внимание австрийской социал-демократии к национальной политике следует рассматривать, как пишет Артур Коган, «на общем фоне бессильного парламента, едва прикрытого чиновничьего произвола и разгулявшегося национализма»171. Принятая в Брно программа включала разнообразные требования, в частности преобразование Австрии в «союзное государство наций», создание и самоуправляющихся регионов, и национальных союзов, которые совместно занимались бы делами каждой нации, а также принятие особого парламентского закона, гарантирующего права национальных меньшинств172.
Эта программа, фактически замыкавшая национальную автономию в территориальных границах, устраивала далеко не всех участников съезда; многие из них выступали против попыток «привязать» национальные автономии к определенным землям. Так, например, южнославянская организация требовала отделить понятие нации от территории, поскольку многие народы (в том числе южные славяне) разбросаны по всей Австро-Венгерской империи. «Надо прямо сказать, – утверждал в своем выступлении делегат из Триеста, – что равноправие возможно, только если нация понимается не как население, живущее в границах определенной территории, но как совокупность личностей, заявляющих о своей принадлежности к определенной национальности»173. Для южных славян это было особенно важно: они представляли собой полиэтническую и поликонфессиональную группу, в которую входили, в частности, католики-хорваты и православные сербы, поэтому югославское крыло социал-демократической партии, понимая, что территориальная автономия в их случае невозможна, отстаивало тезис о национально-культурной, или персональной, автономии. В итоговом компромиссном документе речь все же шла о «национально ограниченных» самоуправляемых областях. Брюннская программа предполагала, что национальная автономия должна основываться прежде всего на территориальном принципе. Иначе говоря, только этнические группы, получившие автономию в границах определенной территории, могут требовать автономии для своих соплеменников, живущих в других землях. Этот пункт политической программы австрийской социал-демократической партии впредь оставался неизменным174.
Работа Житловского «Социализм и национальный вопрос», написанная в преддверии первого съезда австрийских социал-демократов, не была посвящена еврейской проблематике, но предполагалось, что основные идеи этого сочинения применимы и к ней. Социалисты, утверждал Житловский, слишком часто использовали космополитические и антинационалистические аргументы, чтобы оправдать тезис о вхождении «малых» национальных групп в польское, российское или германское социал-демократическое движение. Он жестко критиковал отношение польских и австро-венгерских социалистов к национальной проблематике: «Ясно, что поверхностный антинационализм, который долгое время отождествлялся с международным принципом, на практике здесь выродился в неприкрытый шовинизм, в явное национальное угнетение»175.
Хотя программа австрийских социал-демократов имела хождение в достаточно узких кругах, она подтолкнула правоведов Карла Реннера и Отто Бауэра к размышлениям о внетерриториальной национальной автономии.
В работе «Государство и нация» Бауэр доказывал, что в многонациональной Австрии личность должна быть наделена четко определенными правами, и отстаивал понятие «личная автономия»176. Конфессии, писал он, имеют собственные административные структуры, которые сосуществуют друг с другом на всех бюрократических и территориальных уровнях. Люди, рожденные в той или иной вере, во взрослом состоянии вправе сменить исповедание. Так и нации, по мнению Бауэра, могут административно и территориально сосуществовать, пока у людей остается право выбирать свою национальную принадлежность. Он был убежден, что государство обязано признать национальные общности, чтобы, с одной стороны, защитить индивидуальные права от посягательств на них со стороны других национальностей и самого государства, а с другой – обеспечить всем необходимые национальные права, например право на образование177.
Реннер утверждал: «Если согласно закону органического развития из целого организма выделяются отдельные органы для выполнения отдельных функций, так и народ как целое в государственно-правовом смысле, как совокупность материальных и социальных интересов и нации как культурные и духовные единицы тоже должны иметь специальные органы для специальных функций»178. Эти «специальные органы», принадлежащие каждой национальной группе, защищают права ее членов, обеспечивают доступ к культуре и способствуют «здоровью» государства как такового. Примечательно, что Реннер допускал различие между юридическими правами, обусловленными принадлежностью к территориальной единице, и юридическими правами, относящимися к национальной принадлежности.
Одна из особенностей австрийской социал-демократической концепции внетерриториальной автономии состояла в том, что евреи в нее не вписывались: их считали особой группой, не заслуживающей автономии. Отчасти это можно объяснить еврейским происхождением некоторых авторов влиятельных политических концепций. И нееврей Карл Каутский, и выросший в еврейской семье, но вскоре после женитьбы перешедший в протестантизм Виктор Адлер с равным пылом отстаивали необходимость еврейской ассимиляции. Жесткая критика, с которой Адлер обрушивался на все формы еврейского национализма и сепаратизма, во многом объяснялась как личными столкновениями с антисемитами, так и опасениями, что социал-демократов могут заклеймить «еврейской партией» или «защитниками евреев». Автор наиболее последовательной социал-демократической концепции национальной автономии, Отто Бауэр, громогласно утверждал, что евреям никакой автономии, даже в области образования, давать нельзя, а, напротив, необходимо всячески способствовать их ассимиляции в те этнические группы, среди которых они живут179. Иначе говоря, он считал евреев исключением из своей теории о правах проживающих в Австрии национальных меньшинств и был убежден, что даже существование отдельных еврейских школ может навредить отношениям евреев с их соседями180. Показательно, что, отстаивая необходимость ассимиляции, Бауэр (в отличие от Адлера) тем не менее оставался членом еврейской религиозной общины (Israelitische Kultusgemeinde).
У Каутского вера в необходимость ассимиляции парадоксальным образом сочеталась – и этим он отличался от своих еврейских товарищей по социал-демократической партии – с симпатиями к Бунду и еврейским социалистическим движениям; он считал их «временно необходимыми явлениями»181. В целом его позицию по национальному вопросу точнее всего описывает популярное среди еврейских социалистов изречение: «Когда евреев перестанут изгонять и преследовать, они сами собой перестанут существовать»182. Своей главной задачей австрийские социал-демократы считали установление пролетарской демократии и в разрешении раздиравших страну межэтнических конфликтов видели не более чем средство для достижения более высоких целей классовой борьбы. Национальные интересы как таковые не представляли для них ценности, и это объясняет, почему ведущие австрийские теоретики социал-демократического движения считали ассимиляцию неизбежным благом.
ЕВРЕЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ
К 1904 году Хаим Житловский порывает с Бундом и постепенно склоняется к тем или иным формам социалистического сионизма или территориализма. Примерно в то же время еврейские социалисты создают в Киеве группу «Возрождение», во многом предвосхитившую движение левых сионистов к национализму диаспоры. Распространение идей «рабочего сионизма», происходившее в России между 1902 и 1904 годами, побудило многих сторонников еврейского национализма искать более близкое и доступное разрешение национального вопроса, чем создание социалистического еврейского государства, и они в конце концов примкнули к дубновцам183. Социал-демократы из «Поалей Цион» («Рабочие Сиона») были озабочены главным образом применением марксистских идей к сионизму в Палестине, однако другие группы, выросшие из «рабочего сионизма», в той или иной мере отделяли социалистический сионистский принцип от «палестинской идеи». Так, например, Сионистская социалистическая рабочая партия сблизилась с территориалистами и, подобно им, отстаивала проекты еврейских сельскохозяйственных поселений, но не обязательно в Палестине. Группа «Возрождение» мыслила во многом похоже: ее члены признавали, что в будущем еврейский национальный вопрос полностью разрешится созданием национального государства, а пока первейшая задача состоит в том, чтобы защитить еврейские национальные интересы в диаспоре.
Начало группе «Возрождение» было положено осенью 1903 года на конференции социалистов-сионистов, организованной в Киеве еврейскими студентами, в том числе Мойше Зильберфарбом (1876–1934), Авромом Розиным (Бен-Адир, 1878–1942) и Нохемом Штифом (Бал Димьен, 1879–1933)184. Итоги конференции показали, что у Житловского, считавшего Бунд и «рабочий сионизм» не единственными возможными в России формами еврейского социализма, есть единомышленники. Хотя собравшиеся так и не договорились о целях социалистического сионизма, им удалось создать периодическое издание, которое они назвали «Возрождение»185. С Житловским их сближали взгляды на социализм и национализм, хотя территориалистские идеи он к тому времени еще не разделял. Группа собрала вокруг себя тех, кто разочаровался в «рабочем сионизме», в частности молодых последователей первого идеолога социалистического сионизма Нахмана Сыркина (1868–1924) – в том числе Мойше Зильберфарба и Зелика Калмановича (1881–1944). Таким образом, в России возникло уникальное еврейское движение, которое было одновременно революционным, социалистическим и национальным. Однако сами «возрожденцы», как явствует из их публикаций, своей главной задачей считали революционную борьбу за создание социалистического государства, которое будет признавать национальные различия, а не утверждение еврейских прав при конституциональных преобразованиях в Российской империи.
Участники группы были убеждены, что для построения социализма и подлинного освобождения народа евреи должны заниматься и национальным возрождением, и классовой борьбой, но вовсе не обязательно в палестинофильском контексте, как требовали того социалисты из «Поалей Цион»186. «Возрожденцев», как и многие другие еврейские партии, «разбудил» кишиневский погром 1903 года, и они во всеуслышание заявили, что отныне ни «официальный», ни «низовой» сионизм не вправе игнорировать потребности еврейских масс в черте оседлости187. Следовательно, рассуждали они, в настоящее время нет ничего важнее, чем борьба за национальные права российского еврейства как первый этап продолжительной революционной борьбы; вместе с тем классовой и национальной борьбе в России должно сопутствовать развитие и распространение идей территориальной автономии188.
Значительная часть первого номера «Возрождения» была посвящена размышлениям о значимости национальной идеи для социал-демократической мысли, обоснованию целесообразности национальной автономии социалистического образца, а также полемике с Бундом. «Возрожденцы» не только критиковали попытки Бунда свести многоуровневую еврейскую автономию к национально-культурной, но и пылко оспаривали бундовский тезис о том, что национальная борьба должна быть подчинена классовой и превращена в средство победы пролетариата189. Во втором номере (он вышел в Париже) Розин прослеживал интеллектуальную эволюцию группы от социализма к социалистическому сионизму, а от него – к той форме социализма и национализма, которая предполагает защиту национальных прав в диаспоре и – со временем, в будущем – создание «еврейской свободной территории»190. Как видно из их критики бундовских идей, требование еврейской автономии в России, по мнению «возрожденцев», никоим образом не должно было ограничиваться национально-культурными рамками. Вслед за эсерами они доказывали, что каждый народ империи сможет обрести подлинную автономию, только если ему будет предоставлена возможность создать свое национальное собрание (сейм), наделенное правом налогообложения и ответственное за национальные дела. Пока у евреев, равно как и у других народов, не появятся свои сеймы, утверждали «возрожденцы», даже реформированная Россия будет ничем не лучше Австро-Венгрии, где по-прежнему сохраняется главенство немецкой и венгерской культур и не обеспечены права национальных меньшинств191. Находя немало сходства между двумя империями, группа «Возрождение» считала наиболее подходящим для России пример австрийского пролетариата и призывала следовать ему в теории и на практике.



