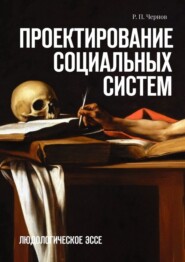
Полная версия:
Проектирование социальных систем. Людологическое эссе
Но на этом свойстве Христианства надо остановиться подробнее. Христианство в своей сути дает спасение в форме надежды и гарантии для того, кто верит, что он спасется. Именно этот тезис подвел церковь в новое время, когда жизнь телесная «здесь и сейчас» была признана самодостаточной. Ранее бытие человека было столь болезненно и столь беззащитно, что проще было создать догму о том, что жизнь «здесь и сейчас» – лишь испытание и переход в мир иной, который, как раз и является формой подлинной жизни. Даже фараоны начинали свое правление с подготовки перехода в этот мир- строительства пирамиды. Христианство давало надежду, позволяя преодолеть старый мир, при этом преодоление этого старого мира сводилось по сути к преодолению старой ритуальности и мифологии, к практике стабилизации хаоса социального бытия в возможности. Неслучайно ад у Данте – это место без надежды («оставь надежду всяк, сюда входящий»). Конструкция подобного рода представляет собой яркий пример правильной организации социальной системы, так как является абсолютным противовесом любому сомнению, в том числе и экзистенциальному (если я еще жив, значит, для чего-то нужен Богу, мое предназначение не исполнено до конца). Действительно, при наличии когнитивного сомнения перед личностью предстает мир, ограниченный представлениями о рождении (факт, эмпирически не установленный и не проверенный на собственном опыте субъектом рассуждения) и смерти (факт, который проверить не удастся – пока есть человек, нет смерти, когда приходит смерть – нет человека). Таким образом, знание о начале и конце жизни не относится к проверяемым эмпирически явлениям. И начало жизни, и конец являются парадигмами бытия, в которых превалирует целевая причина, то есть бытие в возможности. Данное бытие в возможности может быть по содержанию наполнено чем угодно, но по своей конструкции останется неизменным. Противоречие между идеальным и реальным в данных парадигмах не выражено паритетно, и не является антагонизмом по типу «реализуется – не реализуется». Желает или не желает субъект познания, но соотношение идеального и реального в данных парадигмах неизменно. В индивидуальном плане для познающего – это собственные воспоминания о прошлом, рассказы родителей, но никогда личная уверенность (в праве даже есть такой институт – тайна усыновления), в волевом моменте влияния индивидуума, разницы между смертью и рождением действительно нет (и там, и там без волевого участия). Познание смерти, опять же, происходит путем относительного проецирования смерти других. Но человеку свойственно предполагать в своих действиях бессмертие, именно поэтому любое теоретизирование на любую философскую тему начинается с осознания конечности своего существования. Логика постепенно трансформируется в логику абсурда и личности буквально не на что опереться при любом пролонгировании проникновения в парадигму бытия смерти. В некотором роде человеку здесь по – прежнему (помимо веры в Бога) остается только некоторая ритуальность бытия, продолжать которую можно до бесконечности. Христианство первым заметило, что рождение и смерть – это прежде всего бытие идеи, парадигмы этих явлений состоят в большей части из бытия в возможности. Следствием этого стала активная работа по наполнению данных парадигм конкретным содержанием для тех, кто ближе всех находится в коммуникации с ними (приговоренные к смертной казни преступники, умирающие по естественным причинам, тяжело больные, и прочее). При этом, в отличие от предшественников, Иешуа не выдвигал никаких материальных предпосылок к тому, что субъект мог присоединиться к сформированному им бытию в возможности после смерти. Единственным условием была вера в Бога, сопутствующие этому покаяние и обращение в веру. Таким образом, с точки зрения конкуренции культов Христианство так же выигрывало, давая взамен только одно – форму, которую наполняла надежда самого верующего. Надежда уходит последней, христианство – тот механизм опознавания реальности, при котором, чтобы ни случалось, надежда не уходит никогда, превращаясь в элемент движущей причины парадигмы бытия верующего. Подъем эмоциональности субъекта обеспечивается за счет природы бытия в возможности, ибо надежда, как таковая, есть ничто иное, как противоречие по бытию в возможности к тому бытию в возможности, которое является результатом познания бытия в действительности, которое субъектом не приемлемо, является противоречием к нему, как материальному субстрату, объекту материального мира. При этом сама действительность, чем сильнее она давит на такого субъекта, тем сильнее бытие в возможности, составляющее его противоречие (представления христианства). При том, как зарождалось христианство -смерть, как личный пример и как действительно путь к лучшему, к свободе – воскресение, – то смерть является избавлением и освобождением, но только для тех, кто уверовал и приобщился к Христу, прочим же (и опять специальный запрет на самоубийство) – нет надежды на спасение и на избавление, а только адские муки вечные. Надежда, как естественное противоречие бытия в действительности, продуцируемое бытием в возможности, подтверждается многократно самой организацией христианства, а в дальнейшем и церковью как организацией, во многом превосходившей государство. Таким образом, Бог христиан является продуктом естества человека, формой, которая развивает и усиливает природные, исходно заданные свойственности человеческого вида: мысль, как форму бытия, надежду, как личное противоречие бытия в возможности, любовь, как базисную положительную эмоцию. Структурирование надежды в субъективном плане тесно связано и с областью зазора бытия в возможности и с областью любви – и там, и там это бытие в возможности (надежда) является сопутствующим фактором. В системе религий того времени, требовавших подчинения правилам и устоям, которые во многом уже были устаревшими или не применимыми к области действительного (не снимали социальные противоречия) христианство, регулировавшее исключительно область бытия в возможности, абсолютно не требовательное к культу (вино – кровь, хлеб – плоть в католицизме, например) было однозначно жизнеспособнее, так как не ставило себе, помимо всего прочего, политические цели. Христианство преследовало только одну цель – дать счастье и успокоение обычному, точнее, любому человеку. Все отвергнутые, проклятые, забытые, решительно все могли приобрести внутреннее спокойствие, получить то, что не дает ни одна власть, никакие деньги. При этом не забудем и о том, что основанием этого было управление бытием в возможности приобщающейся к религии личности.
В остальном христианство развивалось как обычный культ и обычная организация. Структура церкви отвечает большинству социальных институтов, обладающих высокой степенью эффективности (алеантности реализации бытия в возможности в действительность).
11
Сформировав и реализовав своей смертью такую мощную парадигму бытия как Христианство, Иешуа не предвидел и не мог предвидеть рост организации до сверхмасштабов. Никто так не дискредитировал Христианство как Церковь, неважно, какая – Римская Католическая, Православная, Грегорианская. И дело здесь даже не в том, что были допущены множественные фальсификации Священного Писания, преднамеренные исключения (как, например, Евангелие от Иуды- забвение гностицизма), осуществлены Крестовые Походы, Священная Инквизиция и так далее, и тому подобное. Дело в том, что самого Иешуа, который пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы избавить человека от божков, архаичного тотемного символизма, превратили в Бога. Христианство никогда не конкурировало с действующими культами, оно создавало собственный мир, который жил и умирал вместе с последователями Учения Христа. Канонизация Учения и признание его государственной религией при Константине перевело христианство в разряд инструментов политического управления, превратив лучшие его стороны в абсурд, а само Учение в идеализм, недостижимый при жизни. Из практики управления собой, а значит миром (мыслю- следовательно существую), из универсального инструмента преобразования мира, государство сделало орудие подавления, организованного насилия, основание для оправдания своих действий, идеальное прикрытие любой своей деятельности, «санкционированной» Господом. Этот факт очень важен и подлежит изучению, с целью избежать повтора подобных ошибок, предупредить о них. Но Шпенглер был абсолютно прав – третья стадия развития Христианства есть стадия его полного преобразования.
Прежде всего, когда Христианство стало государственной религией, оно потеряло универсальность встречности и подобия. Учение Христа было всегда добровольным. Обращение в Христианство было подобно сегодняшнему добровольному помещению в психиатрический стационар (по собственности желания отчаявшегося духом). Христос собирал уставших, отчаявшихся, всех тех, кто осознавал абсурдность, никчемность, неправильность своего круга бытия против мироустройства в целом до него и после него. Христианству нельзя обучить, к нему можно только прийти и успокоиться в нем, перестав бояться всех и вся. Христос, образ жизни Христа есть путь к Богу, но этот Путь надо пройти, при том, что время, потраченное на дорогу к Богу, никогда не будет потерянным. Везде, где есть государство в отношении элементов, составляющих его сущность, отсутствует принцип добровольности, что понижает алеантность любого процесса, так как делает некоторые вещи естественными, не первичными для восприятия, автоматически реализовываемыми в отношении такого метода насилия как убеждение. Что касается принуждения, то, как правило, в отношении граждан своей страны, подданных, государство добивается внутреннего перелома личности, осознания им своей виновности, как основания для применения в отношении него насилия (преступное поведение). Став государственной религией, став формой оправдания государственной власти, Христианство стало включенной опцией для подданных государства. С малого возраста граждан государства приучали к Христу. Именно этот период Христианства породил класс индивидуумов, которые подверглись острой критике Ф. Ницше. Калечные, безвольные овцы, послушные всему и вся, все принимающие без любого ропота, понимающие лишь свою обязанность служить и подчиняться. Государство сделало из удивительного Учения Христа догму повиновения, без инициативности. Не случайным было понимание Христа как Бога. Эта провокация преследовала исключительно управленческую цель отвлечения познающего от сущности Бога как постоянно заданной неизвестности мерзости определенности жизни мирской. Любой рассудок, обращающийся от Христианства теперь в сторону Бога, встречался с неизвестностью познания, с ситуацией, устрашающей своим хаосом. Это то, с чем боролся Иисус. По иронии судьбы, оставаясь наедине с Богом, вне формы познания Бога, человек погибает, так как в момент фиксирует свои представления, руководствуясь ими в дальнейшем как собственно – достигнутой истиной. Становясь таким образом «прислушивающимся параноиком», субъект вступает в коммуницирование с Богом, исходя из тех представлений и сформированных им ожиданий, которые были им зафиксированы. Но, в подавляющем большинстве случаев, эти представления купированы повседневной деятельностью, не имеют достаточной глубины и универсальности, а потому подводят личность в области планирования, самоидентификации, управления жизненными процессами. Это отворачивает от Бога, это убивает таких людей. Иешуа же потратил более 20 лет только для активного познания Бога, это были именно годы наполненные познанием, кто среди нас, «философов на час», способен на такое? 8 усталости познания сущности Бога
Но те, кто организовывал Церковь, заботились только об одном – об усилении государственной власти. Если и можно было побороть Христианство, то это было достигнуто – государство завладело душами людей, вернув себе авторитет, божественную сущность. Богу для общения не нужны посредники, человеку для общения с Богом нужен только Путь, метод познания, ибо жизнь человека слишком коротка для лабиринтов истины. С появлением государственной церкви путь к Богу был заменен ритуальностью религии, Бог государством, а Иисус стал рекламным агентом – вербовщиком, самоотверженно положившим жизнь ради овец, пастырями которых явились священники.
В каждой социальной системе необходимо понимать, какие ее элементы являются сущностными, какие ее элементы гарантируют ее последовательное бытие как задуманной системы.
Первым шагом к гибели христианства стал текст. Сам Иисус неоднократно предупреждал против , подчеркивая, что святость и Бог не зависят от книги и от слова написанного. Вместе с тем, сама по себе запись понятого и сказанного не могла существенно повредить Учению, но вот титульность только определенного изложения, предпочтение одного источника другому – это вещь, совершенно не соотносимая с системой познания, основным составляющим которой является приобщенный человек. При этом Христом неоднократно декларировалось, что нет перед Богом ни старших, ни младших, все равны и во грехе, и в благочестии. Сам по себе текст в доступе возможности прочтения обладает собственной властью, является формой познания, которая по своему содержанию совершенно неадекватна авторскому пониманию вопроса. Но канонизированный текст, причем канонизированный по субъективной допустимости – наказание Божие. Заставить же жить каждого по букве «слова Божьего», – это уже чисто государственный подход. Поэтому не будем обманываться – изучая церковь, мы будем говорить не о христианстве, ибо само Христианство в том виде, как оно существовало после смерти Христа и до его огосударствления было вполне самостоятельной когнитивной социальной системой, прекрасно справлявшейся с поставленной задачей – обеспечивать бытие Бога в жизни человека. книжников
В то же время Христианская Государственная Церковь – прекрасный пример того, каким образом необходимо организовывать социум. Функция любой религии – в установлении форм познания Бога, приобщении верующих к организации через ритуальность, управлении материальными активами, если таковые имеются, выработка системы «истина – ложь». Приобретя наследие многобожия, Христианская церковь тем самым извратила понимание дома Бога. Для христианина Бог живет внутри него самого. Языческие храмы, построенные по всей территории Римской империи, были всего лишь игровым атрибутом, они выражали прежде всего победу над неуверенностью самого верующего в том, что его боги существуют. Игра структурирует социальную материю (бытие в возможности) в форму (бытие в действительность) всегда с необратимостью при соблюдении игровых законов и традиций. Храм как сооружение – это место игры, это часть игры, часть веры в то, что определенная последовательность действий приведет к определенному результату уже в процессе самих действий (сравните с культурой амфитеатра). Это часть мифологической культуры, которая совершенно оправданна в мифологически публичном типе мышления. Главное, что в момент принесения жертвы, в момент нахождения в храме, – все участники равны, и все растворяются в культе, приобщаясь к пределу возможностей соответствующего божества. Если это Марс (Арес), то, принося ему жертву, воин устранял свои сомнения, так как понимал, что лучше, чем Марс никто не справится с поставленной задачей победы, и, если он заручился его поддержкой, значит, может идти без страха до конца. Конец для воина – это либо победа, либо смерть. Выходя из храма, воин уже был не ничтожеством перед божеством, но его представителем, носителем его воли. Достигалось это простыми игровыми действиями жрецов – гаданиями, жертвоприношениями, ритуалами и прочее. Их успешное проведение снимало неуверенность и сомнение в области мышления (бытия в возможности) воина. Фактически, функция религии здесь сводилась к очищению целевой причины парадигмы бытия, нацеливанию на победу, устранению всего лишнего. В области социальной деятельности – это исключительно важно. Так, качество реализации напрямую зависит от субъекта реализации (кадры, как известно, решают все). Отношения с божественным таким образом в мифологическую эпоху носят исключительно деловой характер. Храм – место оказания особой услуги. Именно с этим боролся Иисус Христос, – с функциональностью религии как общественной формы деятельности. В данной системе человек лишен возможности повлиять на божество; божественность, соответственно, влияет на человека ограничено; при полном влиянии человек становится ограниченным. Материальные ценности как предметная сторона энтелехии в вопросе общения с Богом, в любви, – всегда помеха на пути полного развития и функционирования бытия в возможности в предельности его функции реализации.
Но церковь пожадничала и приняла в подарок храмовое хозяйство. Теперь наши храмы – это тоже место оказания определенных услуг, во многом психотерапевтических. Зигмунд Фрейд и тот добился лучших результатов, о чем нередко хвастался.
Христианство изначально никогда не делало упор на культ, на поведенческую составляющую, оно не требовало ритуальности, но церковь ввела ритуальность, как в отношении собственных служащих, так и в отношении паствы. При этом данная ритуальность не снимала социальной напряженности и возникающих противоречий путем их дискредитации, а только на основе насилия, военных операций. Жертвенность, как форма отрешения от материального в церкви, превратилась в налогообложение. Отстраненность от светской власти превратилось в санкционирование верховного правителя, оправдание действий по террору в отношении населения. К ХIХ веку религия стала опиумом для народа, с той лишь разницей, что опиум все-таки вызывает привыкание, а церковь того времени – только отторжение.
Подумать только, образцом для подражания стал священник, тот самый священник, кастрированную фигуру которого Иешуа такими усилиями изъял из отношений Бога и человека.
О Боге в церкви вспоминают исключительно как о форме контроля и наказания, никакими усилиями не предполагается познание Бога. Любое исследование вопроса сущности Бога лично самим верующим, в том числе и толкование Священного Писания, признается еретичным и не приветствуется. При этом церковь изобрела новую форму общения с людьми, стремящимися к Богу, – отлучение от церкви, анафема. Это явный прогресс по сравнению с изгнанием из полиса, к примеру, в Древней Греции. Так же, вполне по-государственному, выглядит толкование Священного Писания, с возможностью расширения, или сужения перечня грехов, за которые следует наказание. Следует четко понимать, что современная всесильность политической власти над своим населением – прямое наследие Христианской Церкви, долго и упорно издевавшейся над человеком. Подумать только, сделать из человека при жизни гонимое животное, внушив ему невозможность очищения вне рамок культа, при этом выторговывать у него материальные ценности в пользу успокоения, на которое он имеет право по рождению.
Пороки человека – стена, через которую надо перелезть, чтобы увидеть путь к Богу, но в исполнении доктрины церкви – это камера пожизненного заключения, выйти из которой можно не самому, а исключительно через искупление, наступление которого констатирует все тот же служитель культа, твой тюремщик и судья в одном лице.
Но как же стало возможным такое извращение? Как можно было так извратить самое прекрасное Учение?
Здесь мы подходим к самой сути людологического анализа. Забегая вперед, заметим, что именно следование познанию в людологической традиции и позволяет избежать подобных метаморфоз, сохранив жизнь десяткам миллионов безвинно убиенных и растерзанных теми, кто действительно добросовестно заблуждался. Не забудем, Бог – прежде всего шутник и игрок, не потому ли он так часто спорит с Дьяволом?
Естественная эволюция той или иной парадигмы бытия социальной системы обусловлена самой структурой парадигмы бытия. Учитывая тот факт, что парадигма социального бытия попадает в круг восприятия 3-х лиц (не участников самой парадигмы), возникает неизбежная разница восприятия. Разница качества восприятия лица, участвующего в реализации бытия в возможности парадигмы, и лица, пускай даже включенного в формальную причину бытия, весьма ощутима в таких сферах, как например, уголовный закон (соучастник и свидетель – водораздел по умыслу), бизнес (долевое участие и наемный менеджмент). Даже в парадигмах, представляющих самореализованное бытие в возможности (например, книга, текст закона и прочие тексты – основная характеристика здесь – равновесие идеального и реального), разница между объемом бытия в возможности автора текста и лица, воспринимающего самореализованную парадигму (читателя, например), весьма существенна. В юридической литературе, например, существует специальное название – аутентичное толкование, то есть по авторскому источнику того или иного законодательного текста. Юриспруденция вообще, как искусственная наука, вынуждена многое обнаруживать в области познания, для того, чтобы окончательно себя не дискредитировать.
Такой процесс естественен. Бытие в возможности, будучи бытием хаоса противоречий упорядочивается определенным образом, благодаря форме организации в действительности. Представим себе простую ситуацию с «Камешками судьбы». Есть 7 участников, один из которых должен умереть, каждому выпадает возможность взять камешек судьбы, шесть белых камней, один черный. Итак, до жребия в отношении материальной причины парадигмы (убийство одного из 7 человек) есть минимум 14 противоречий, каждое из которых является истинным (каждый субъект имеет два варианта, всего семь субъектов). До реализации жребия понять невозможно, какое из противоречий является истинным. Неизвестно, кто в условиях, исключающих визуальный контроль, вытянет черный камень. И вот здесь тонкий момент энтелехии, показывающий, как от формальной стороны зависит содержание бытия в возможности. Если все будут тянуть по очереди и сразу же показывать, какой камень они вытянули, белый или черный, то содержание бытия в возможности общей парадигмы будет неизменно убывать, с каждым вновь выбывшим число внешних противоречий (общее число 14) будет сокращаться на 2. В то время как число внутренних противоречий увеличится сначала на 1 (предположение – «до меня не дойдет очередь»), потом в геометрической прогрессии (суждения о том, что это не справедливо, что все предрешено, что мне-то точно не повезет и так далее). Если же все сначала вытянут камни, не глядя на них, а потом предъявят содержимое своих ладоней добровольно, то изначальная картинка останется неизменной. Противоречия будут сняты исходя из позиции 14 к 1. Вторая форма жеребьевки помимо всего прочего позволяет добиться участия всех игроков в процессе энтелехии до самого конца, увеличивая напряженность с каждым этапом. При этом каждая последующая ступень отрицает предыдущую, делая процесс реализации необратимым. Отказ от игры одного из субъектов, не предъявившего, какой камень он вытянул, означает девальвацию результатов предыдущих игроков, успешно прошедших испытание, поэтому не допускается участниками. Степень игровых действий непосредственно определяет чистоту реализации бытия в возможности в действительность. 9
Обратный закон – изменение игровых действий (формы) необходимо влияет на чистоту (в том числе объем) реализуемого бытия в возможности. Для сохранения формы реализации необходимо прибегать к хранению знания последовательности того, как необходимо действовать. Любое хранение предполагает риски доступности к знанию третьих лиц. Изначально секретность государственного управления была связана не с терроризмом, а с тем, что лица, не понимающие, какое именно бытие в возможности реализуется (например, в обрядах жрецов), просто девальвируют саму процедуру энтелехии, не добившись никаких результатов, кроме отрицания. Таинство действия участника – один из признаков движущей причины парадигмы бытия, свидетельствующих о самостоятельной воле субъектов реализации.
Любая социальная система сталкивается с тем, что с течением времени появляются субъекты, предлагающие тем или иным образом модернизировать формальную сторону, формальную причину в целях улучшения качества получаемого результата (материальная причина). При этом, если для создателя целевая причина до ее реализации в парадигме составляла исключительно бытие в возможности и было неизвестно, реализуется оно в действительность или нет, то для стороннего наблюдателя, который уже застиг процесс цикличности парадигмы бытия, целевая причина трансформируется лишь в «то, ради чего», в лучшем случае, зачетный критерий цели, а вся парадигма бытия в любой стадии осуществления бытия в возможности в действительность представляется как определенная технология (результат разных уровней алеантности). Редким исключением являлось христианство, так как к Богу нельзя относиться вторичным образом, как к технологии. В основу веры положены обостренные до предела чувственные и вербальные основания, но церкви, как мы уже отмечали, удалось и это преодолеть. Проектировщику социальной системы необходимо заранее предусмотреть, каким образом будет сформирована элементная допустимость по всем 4-м причинам бытия. Система должна быть сформирована таким образом, чтобы в каждом элементе парадигмы любого уровня было возможно с достаточной степенью однозначности идентифицировать возможность кооптирования того или иного элемента в систему. В противном случае получается, что элементы, которые были в системе изначально, просто вытесняются и устраняются, при этом, с точки зрения принадлежности самой системы (например, ее названия) для лиц, не связанных с ней, но осведомленных о ней, изменений не происходит.



