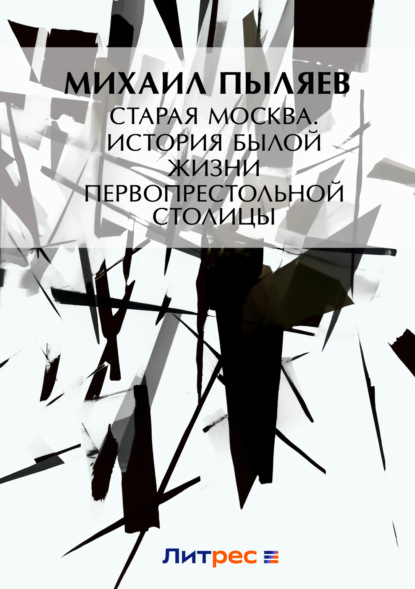 Полная версия
Полная версияСтарая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы
Допожарная Москва на улицах поражала роскошью и картинностью женских уборов и нарядов; на шеях и на груди и платьях знатных барынь укладывались целые капиталы. Особенно такими богатыми уборами щеголяли купчихи – у них на голове наместо шляпок возвышались кики, разукрашенные золотом, жемчугом и драгоценными камнями, из-под кики, ниже ушей, спадали жемчужные шнуры; задняя часть кики делалась из соболиного или бобрового меха. На окраине всей кики шла жемчужная бахрома, называемая поднизью; у небогатых женщин были на головах просто кокошники, обложенные бусами. Жемчуг в старину употреблялся при нарядном платье во всех сословиях. Без жемчужного ожерелья, которое называли «перло», считали за стыд показаться в собрание. Дамы высшего общества появлялись на улицах в платьях-фуро – этот фасон платьев долго держался в моде, но только с небольшими переменами, иногда обшивали его блондами, накладками из флера или дымкой, бахромой золотой или серебряной, смотря по тому, какая лучше подходила к материи. Лиф у старинных фуро был очень длинный и весь в китовых усах, рукава были до локтя и обшиты блондами, перед распашной; чтоб платье казалось пышнее, надевали фижмы из китовых усов и стеганые юбки.
В конце царствования Екатерины II вошли в большую моду платья «молдаваны»; затем при Павле, стали носить «сюртучки», лиф у сюртучка был не очень длинный, рукава в обтяжку и длиною до самой кисти; если сюртук был атласный, то юбка к нему была флеровая на тафте, к сюртучку надевали камзольчик глазетовый или другой какой, только из дорогой материи; у сюртучков и фуро были длинные шлейфы.
Для прогулок и верховой езды надевали сюртучки почти такие же, как у мужчин, со светлыми пуговицами. Дамы высшего общества на голову накладывали цветы, страусовые перья, ленты, бархат. Был одно время в моде убор вроде берета, с цветами и страусовыми перьями; его называли «тюрбан» и «шарлотка». Перчатки дамы носили длинные, шелковые, до локтя; чулки тоже шелковые, башмаки матерчатые или шитые золотом, серебром, шелком; они делались из глазета, парчи или другой плотной материи, каблучки были высокие, обтянутые лайкой. Французские новые моды перешли к нам в конце прошлого столетия. Первые поклонницы мод производили на московских улицах целую сенсацию. В бульварном стихотворении описаны две такие модницы. Первая из них – это жена известного тамбовского помещика и коннозаводчика Болховская; вот что писал о ней бульварный песнопевец:
Вот летит и Болховская,Искрививши правый бок,Криворукая, косаяТочно рвотный порошок.Да и младшая сестрицаНе уступит ей ни в чем,Одинаких перьев птица,Побожиться можно в том…Белокаменная в то время была особенно обильна девицами. Князь Вяземский говорит112, что в Москве на одной улице проживали княжны-девицы, которые всякий день сидели каждая у особенного окна и смотрели на проезжающих и проходящих, выглядывая себе суженого; Копьев сказал о них: «На каждом окошке по лепешке», и с тех пор другого им имени и не было, как княжны-лепешки. В допожарной Москве жили еще старые девицы, три сестры Левашевы. Их прозвали «тремя парками». Эти три сестрицы были непременными посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньшая из них; на ней сосредоточивалась любовь и заботливость старших сестер: они не спускали с нее глаз, берегли ее с каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать одной из дома. Приезжали на бал они первые и уезжали последние. Кто-то раз заметил старшей:
– Как это вы в ваши лета можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на балу?
– Чего тут весело, батюшка, – отвечала она, – Но надобно иногда и потешить нашу шалунью. – Этой «шалунье» в то время было 62 года.
Из больших московских модниц в то время была жена Д Д. Шепелева, известного впоследствии героя Отечественной войны; про эту модницу пел бульварный борзописец следующее:
Дольше взоры поражаетБлеск каменьев дорогих…Шепелева то блистаетВ пышных утварях своих.Муж-гусар ее в мундиреСебе в голову забрал,Что красавца, как он, в миреЕще редко кто видал….Усы мерой в пол-аршинаОтрастил всем напоказ,Пресмешная образинаШепелев в глазах у нас…Этот Шепелев отличался большою напыщенностью и говорил со всеми высокопарным слогом. Шепелевы были очень богаты; богатство они получили от жен: один Шепелев был женат на дочери железного заводчика Баташева, а другой – на племяннице князя Потемкина, Надежде Васильевне Энгельгардг.
Описана бульварным стихотворцем урожденная Баташева; последняя отличалась еще наивностью в разговорах. Так, возвратившись из-за границы, она рассказывала, что в Париже выдумали и ввели в большую моду какие-то прозрачные рубашки, о которых она отзывалась с восторгом:
– Вообразите, что это за прелестные сорочки: как наденешь на себя, да осмотришься, ну так-таки все насквозь и виднехонько.
Далее пиит на бульваре видел молодого человека, вышедшего из купечества в гусарские офицеры, собою очень красивого, любезного, вежливого, принятого в лучшие дома и известного в Белокаменной по долголетней связи с одною из милейших московских барынь.
Пиит рисовал его следующими строфами:
А Гусятников, купчишка,В униформе золотой,Крадется он исподтишкаВ круг блестящий и большой.Жихарев про этого H. M. Гусятникова рассказывает, что он был большой англоман, и только и говорил, что про графа Ф. Г. Орлова, который, по его словам, был человек большого природного ума, сильного характера, прост в обхождении и чрезвычайно оригинален иногда в своих мыслях, суждениях и образе их изъяснения. Например, он никогда не предпринимал ничего, не посоветовавшись с кем-нибудь одним, но терпеть не мог советоваться со многими, говоря: «Ум – хорошо, два лучше, но три – с ума сведут». Он уважал науки и искусства, но называл их прилагательными; существительною же наукою называл одну «фифиологию», т. е. уменье пользоваться людьми и своевременностью, равно как и важнейшим из искусств – искусством терпеливо сидеть в засаде и ловить случай за шиворот.
После Гусятникова следует описание двух известных в то время в Москве господ Малиновского и Ватковского:
Вот попович МалиновскийВыступает также тут.За ним – полненький Ватковский,В коем весу тридцать пуд.Он жену ведет под ручку,Наравне с ним толщиной.Как на смех, все жирны в кучкуСобралися меж собой.Малиновский А. Ф. (1763–1840), сын протоиерея Московского университета, был начальник Московского архива Иностранной коллегии, известный литератор своего времени, написавший оперу, пользовавшуюся большим успехом, под названием «Старинные святки». Он издал также театральные пьесы Коцебу, которые заставлял переводить молодых людей, служивших у него в архиве. Эти пьесы тогда носили название: «Коцебятины». Малиновский не знал ни слова по-немецки, он только исправлял слог, печатал и отдавал за деньги Медоксу, содержателю вокзала; лучшие из этих пьес были «Сын любви» и «Ненависть к людям и раскаяние». Его опера «Старинные святки» так понравилась публике, что ее играли лет тридцать сряду.
Малиновский был очень дружен с Петровым, известным поэтом времен Екатерины; про Петрова он рассказывал, будто тот писал некоторые оды, ходя по Кремлю, а за ним носил кто-то бумагу и чернильницу. При виде Кремля он приходил в восторг, останавливался и писал. Петров имел важную наружность. Он познакомился с Потемкиным, когда они оба были студентами, и дружба их продолжалась до конца жизни. Стансы, посвященные им Потемкину, исполнены искреннего чувства; он хвалит в Потемкине не одного полководца, но более вельможу доступного, человека просвещенного, любителя литературы и поэзии.
Ватковский, о котором говорит пиит, состоял камергером при Большом дворе, a младший брат его, Иван Федорович, служил в Семеновском полку и был замешан в известную шварцовскую историю. Ватковские были сыновья известного Федора Ивановича, который, командуя Семеновским полком, содействовал Екатерине ко вступлению на престол. Ватковский, о котором говорится в стихах, отличался необыкновенною тучностью – он под конец своей жизни так и не выходил из вольтеровских кресел. Ватковский известен также был в обществе как занимательный рассказчик.
Вот и Майков, муз любитель,Декламируя идет.Как театра управитель,Он актеров всех ведет.Мочалов, Зубов, КолпаковЕго с почтеньем провожают,Лисицын, Злов и КондаковЕму дорогу очищают.За ним все авторы стремятся,В руках трагедии у них.Они все давятся, теснятся,Приносят дар умов своих.Возьми, возьми, – провозглашают,О, Майков, ты труды сии!И с этими словами все швыряютВ него трагедии свои.Бригадир Аполлон Алексеевич Майков, писатель, состоял старшим членом при А. Л. Нарышкине с правом исправлять должность директора театров, на случай отсутствия последнего. Полновластно он управлял московскими театрами только впоследствии.
Актер Мочалов, отец известного трагика, играл роли серьезных молодых людей, отличался необыкновенно красивою сценическою наружностью и имел большой успех в опере «Иван Царевич». Позднее он играл в Петербурге.
Зубов, актер и певец, имел превосходный голос, но был невзрачен по фигуре на сцене. Колпаков был актер на роли благородных отцов. Лисицын, по словам С. П. Жихарева113, был любимец райка. Гримаса в разговоре, гримаса в движении – словом, олицетворенная гримаса даже и в ролях дураков, которых он представлял. Злов, умный актер и хороший собеседник, играл в трагедиях, драмах и операх и всюду был хорош; был бесподобен в драме «Сын любви» в роли пастора. Кондаков, резонер, был превосходный Тарас Скотинин.
Затем бульварный пиит восклицает:
Но какое вдруг явленьеПоражает весь народ,На всех лицах удивленье,Все глядят, разиня рот,Уж не чудо ли морскоеНа беду нашу катит?Иль страшилище какоеК нам по воздуху летит?Нет, пустое. Это вздоры.То Кирилушка бежит,Всем умильно мечет взоры,На всех ласково глядит…Кирилушкой песнопевец называет сына графа Разумовского, который живал в Москве в конце прошлого столетия в великолепном своем доме.
Далее неразборчивый бульварный пиит затрагивает безукоризненно честного и благородного вельможу Ю. А. Нелединского-Мелецкого, занимавшего весьма почетное и видное место в московском обществе, которое в то время, вместе с именем Нелединского, могло еще гордиться такими именами, как И. И. Дмитриев, И. В. Лопухин, Н. М. Карамзин, Ханыков (бывший посланник наш в Дрездене, писавший французские стихи), князь Я. И. Лобанов-Ростовский, П. В. Мятлев, князь Белосельский, князь А. И. Вяземский и другие. Дом последнего из этих бар был в Москве средоточием жизни и всех удовольствий тогдашнего просвещенного общества. На Колымажном дворе в это время устраивались «московские карусели».
Это была лучшая школа верховой езды тогдашнего барства. Палаты князя стояли у Колымажного двора, окруженные обширным тенистым садом; они не блистали богатством и роскошью – единственное богатство их была большая библиотека. В двух маленьких комнатах теснилось здесь обширное московское общество; тут молодежь танцевала под аккомпанемент флейты-самоучки и доморощенной скрипки. Все путешественники (особенно англичане: князь был женат на шотландке д’Орелли), ученые, художники находили в этом доме русское гостеприимство. «Любезные женщины, красавицы той эпохи, которая была золотым веком светской образованности и утонченности, поочередно, а иногда и совместно, в сей избранной и мирной области царствовали», – как говорит Нелединский-Мелецкий в своей «Хронике»114.
Ю. А. Нелединский-Мелецкий, которого затрагивает пиит, был самым любезным и симпатичным человеком, в высшей степени привлекательным своею безыскусственною простотою и всегда веселым юмором. Острый и наблюдательный ум его никогда не касался личностей. Низенький ростом, довольно плотный, с виду флегма, с добродушной улыбкой при невозмутимом спокойствии, он умел придавать особую прелесть своим неожиданным, свободным выходкам остроумия. Но не таким видит его дешевый бульварный острослов.
Вот каким описывает он его:Вот катится чудный шарикС красной лентой, со звездой.То Нелединской сударикИ пьянчуга дорогойИноходцем запускает,Не жалея ничего;В галерею поспешает —Там мадера ждет его.Банк ли пометать пуститьсяИли штос сделать порой,Он всегда на все годится,Малый этот золотой.Ю. А. Нелединский служил статс-секретарем у принятия прошений при императоре Павле. В то время обязанности между статс-секретарями были разделены следующим образом: тайный советник Трощинский докладывал государю прошения, присылавшиеся по почте, Нелединский – прошения, подававшиеся лично на Высочайшее Имя, статский советник Брискорн – как те, так и другие, писанные на немецком языке.
Нелединский был человек самый мягкий, самый добрый и сострадательный, по своим обязанностям мог делать много добра и делал его. Склонять монарха на милость, на всесильное заступничество угнетенных и обиженных было постоянно его заботою, нередко находившею себе награду в успехе.
Из многочисленных рассказов и анекдотов о том времени приведем один случай: однажды был назначен развод на плацу против дворца, к концу доклада Нелединского. Час подходил, а площадь была пуста. Император Павел беспрестанно вскакивал, подбегал к окну и обнаруживал заметные признаки крайнего раздражения. Оно сказывалось и в тех отрывочных резолюциях, которые он давал своему статс-секретарю: все они были не в меру строгого содержания.
Видя, что дело плохо, Нелединский незаметно собрал все дела и бумаги, еще недоложенные, раскланялся и вышел. Но доложенным и решенным явно несправедливо он не делал никакого исполнения, а отложил их в сторону и, пропустив месяц или более, стал докладывать их вторично, как бы вновь поступившие, пропуская по одному или по два в массу других дел. Таким образом сошло благополучно три или четыре дела, но на пятом император прервал своего докладчика и, уставив в него глаза, сказал ему: «Это дело вы, сударь, мне уже докладывали». Нелединский обомлел.
Император несколько секунд смотрел на него в упор, пока в нем, как видно, боролись противоположные побуждения, наконец, он проговорил: «Я вас, сударь, понял и не осуждаю, продолжайте». Таким образом спасено было несколько несчастных.
Биограф Нелединского говорит115: «Можно сказать три лица – императрица (Мария Федоровна), Нелидова (Екатерина Ивановна) и Нелединский – в начале царствования Павла стояли как бы на страже у престола, действуя заодно в духе любви и примирения».
К сожалению, этот союз трех близких к государю лиц продолжался недолго. Нелидова была удалена опять в Смольный монастырь, а потом в замок Лоде, близ Ревеля, a затем и Нелединский был уволен в отставку.
Гнев государя на Нелединского навлек его недруг, граф Кутайсов, воспользовавшись следующим случаем, чтоб возбудить страшно развитую подозрительность Павла Петровича.
Нелединский, проходя раз довольно поздно внутренним коридором Петергофского дворца из комнат императрицы, встретился с императором, шедшим в сопровождении Кутайсова Увидев Нелединского, Кутайсов сказал государю: «Вот кто следит за вами днем и ночью и все передает императрице». Легко себе представить, какое действие произвели эти слова на вспыльчивого и подозрительного Павла. Немедленно приказано было Нелединскому удалиться от двора, но так как следующий день был высокоторжественный, то исполнить это было невозможно без огласки, а потому Нелединский с женою и детьми должен был провести весь этот день в своей квартире, выходившей окнами на гулянье, с опущенными шторами, взаперти, не смея ни сам выходить, ни выпускать детей из комнаты.
Уволенный от службы, Нелединский переехал с семейством в Москву, где он и нашел прежний кружок друзей и литераторов. Свободный от всякого злобного чувства, он без ропота переносил свою опалу. Нелединский с чувством глубокой скорби проводил ежегодно день кончины императора Павла.
Князь Вяземский в своих записках говорит:
«Я видел слезы отца своего и Нелединского, оплакивающих Павла. Слезы таких людей – свидетельства похвальные. В императоре Павле были царские великодушные движения могущества. Они пленяли приближенных к нему и современников, искупая порывы гнева и исступления».
Домашняя жизнь Нелединского отличалась необыкновенной простотой. Передав все состояние детям, он жил одним жалованьем. Большой охотник покушать, он не был разборчив в выборе утонченных блюд, но ел очень много, и преимущественно простые русские кушанья. При дворе, когда он приезжал летом к императрице в Павловск, государыня приказывала готовить для него особые блюда, в числе которых любимая им была «щучина».
Вот как описывал сам Нелединский свое недельное меню:
«Маша-повариха – точно по мне! Вот чем она меня кормит, и я всякий день жадно наедаюсь: 1) рубцы, 2) голова телячья, 3) язык говяжий, 4) студень из говяжьих ножек, 5) щи с печенью, 6) гусь с груздями – вот на всю неделю, а коли съем слишком, то на другой день только два соусника кашицы на крепком бульоне и два хлебца белых».
Далее он пишет: «Крепко теперь взялся за экономию: сижу за одной сальной свечой. Восковая свеча стоит полтину, а сальная свеча – 12 коп., следовательно, 38 коп. экономии в день составляет в неделю с лишком половину расхода моего на разные удовольствия!»
Он был дома образцовым, безукоризненным супругом, проникнутым самою теплою любовью к детям; вне дома же имел всегда кумир, пред которым страстно благоговел и, как Петрарка, страстно воспевал его; когда ему было уже 56 лет, его впечатлительное сердце все еще сохраняло первобытную свежесть молодости.
Из литературных трудов Нелединского известно несколько од и песен, из последних самая популярная еще живет поныне, это «Выйду я на реченьку». Нелединский умер в Калуге в 1829 году на 77 году от рождения.
Следуя далее, мы в стихотворении встречаем фамилии двух Алябьевых; это были дети сенатора А. Алябьева; старший из сыновей был известный в то время спортсмен, младший, А. А. Алябьев, служил в военной службе и был позднее адъютантом у корпусного генерала Н. Бороздина; он был известен как очень талантливый композитор романсов: один из них, «Соловей мой, соловей», посейчас у всех на памяти.
Когда в 1824 году был возобновлен в Москве Петровский театр, простоявший двадцать лет в развалинах, он был открыт прологом «Торжество муз», а музыка к этому прологу была написана А. А. Алябьевым и А. Н. Верстовским. А. А. Алябьев кончил жизнь очень печально, чуть ли не в Сибири, за убийство товарища во время азартной карточной игры.
Стихи на Алябьевых следующие:
Выпив водки близко бочки,Вот Алябьевы идут,То-то, милые дружочки,Едва голову несут.Затем бульварный стихотворец описывает известных гуляк того времени: коннозаводчика Меснова и безобразника Измайлова. Последний, по рассказам, бывало, напоит мертвецки пьяными человек пятнадцать небогатых дворян, посадит их еле живых в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам лодки по живому медведю, и в таком виде спустит лодку с горы в реку; или проиграет тысячу рублей своему другу Шиловскому, вспылит на него за какое-нибудь без умысла сказанное слово, бросит проигранную сумму мелкими деньгами на пол и заставит подбирать его эти деньги под опасением быть выброшенным за окошко.
После упоминается еще в стихах о князе Волконском, у которого в Самотеке был собственный театр, устроенный в виде большого балагана; в нем помещалось до 300 человек.
Для открытия в этом театре играли «Беглого солдата», пьеса, как и исполнение, были не особенно удачны. Про хозяина этого театра стихотворец пишет следующее:
И Волконский с «карусели»В шпорах звонких прикатил,Весь растрепан, как с постели,Парень этот, право, мил.В бульварном острословии находим еще незначительное описание двух известных тогдашних московских жителей, артиллерии генерала Мерлина и великого картежника, ходившего на костыле, В. К. Благово.
Неизвестный пиит заканчивает свое стихотворение «К бульварам» следующими словами:
Но не всех же ведь до крошкиНам сюда переписать,Не пора ли сесть на дрожкиДа домой уж ехать спать.Тверской бульвар был любимым местом прогулок москвичек лишь до двенадцатого года. С приходом французов в Москву лучшие липы этого бульвара были срублены неприятелем для топлива и на фонарных столбах бульвара, перед домом генерала И. Н. Римского-Корсакова, были повешены жители города, заподозренные неприятелем в поджигательстве.
С уходом неприятеля из столицы бульвар был снова обсажен липами, по сторонам дорожек расположены были куртины с цветами; посередине бульвара выстроена арабская кондитерская, сделаны два фонтана, поставлены скамейки и т. д.
Но жизнь на бульваре уже более не принималась. В то время стал модным гуляньем только что разбитый Кремлевский сад на месте, где протекала по оврагу болотистая речка Неглинная; до 1820 года сюда сваливалась всякая нечистота, лежали кучи навоза и т. п. Сад был открыт 30 августа 1821 года. Главный вход в сад был с красивою чугунною решеткою, отлитою на заводе Чесменского А. В. Немчиновым. В саду был сделан павильон, где играла по воскресеньям и средам полковая музыка, Затем насыпана была искусственная земляная гора, внутри которой был устроен грот. Говорят, что на постройку этого грота вместо камней пошли каменные ядра, лежавшие в Кремле во множестве; последние в древности употреблялись вместо чугунных. Самое аристократическое гулянье в Кремлевском саду начиналось во втором часу дня, и в эти часы вся площадь перед Воскресенскими воротами и все протяжение улицы до экзерциргауза уставлено было экипажами. В четыре часа из гуляющих в саду уже никого не было, но в шестом часу картина вновь оживлялась, и в этот час видели все высшее отборное общество, щегольски одетую молодежь, с очками и лорнетами, и целые семейства, разгуливавшие толпами. Зимою здесь гуляли от двенадцати до трех часов дня.
ГЛАВА XXIV
Пресненские прудыПомимо описанного нами Тверского бульвара, в первых годах царствования императора Александра I самым аристократическим гуляньем в Москве считались и Пресненские пруды. Гулянье на Пресненских прудах, как говорит С. Н. Глинка, москвичам напоминало о той эпохе, когда здесь, на речке Пресне, царь Михаил Федорович встречал великого страдальца за родину, Филарета Никитича, возвращавшегося из литовского плена. Глинка мысленно видел здесь памятник среди зелени со следующей надписью: «Здесь царь Михаил Федорович встретил своего родителя великого верою и добродетелью». Место, где лежат Пресненские пруды, было прежде болотистое, топкое; прекрасным своим нынешним положением они обязаны Петру Степановичу Валуеву116, главноуправляющему Кремлевской экспедицией и Оружейной палатой, автору известного описания древнего российского музея и исторического исследования о селе Коломенском117. Неизвестный поэт прудов, в первых своих строфах, говорит:
Я приду к прудам широким,То к сему, к тому пруду,И с почтением глубокимНиц Валуеву паду.Там мы слушаем каскады,Здесь лесок к себе манит,За усталость ног наградуЧасто мягкий луг дарит.Но милей лесков и лугаЖенщин-бабочек здесь рой,Между них любовь-подругаПоздней тащится порой.По вечерам, по словам певца прудов, гулянье здесь принимало вид таинственности.
Далее поэт пишет:
Не жемчужная росинаНа листке цветов блестит,То Катюша-КатеринаВельяминова глядит.На сестрице не сияютШтукатурка, алебастр, и т. д.Мать этой Вельяминовой жила с известным тульским наместником M. H. Кречетниковым; в записках Болотова находим, что муж Вельяминовой, тульский вице-губернатор, «жертвовал женою своею в угодность сему вельможе». Известно, что Кречетников очень любил прекрасный пол; он имел сам очень красивую наружность и отличался щегольским нарядом, даже под старость всегда носил шелковые чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки и очки новомодные118.
Потемкин ему особенно покровительствовал и, зная его слабость к женскому полу, иначе его не называл, как «мадам», любимое слово Кречетникова. Бантыш-Каменский говорит, что он имел еще и другую слабость – высокомерие и еще непомерную хвастливость, и по этому случаю приводит следующее.
Когда Екатерина II посетила Калугу, на хлеб был плохой урожай. Ожидая прибытия императрицы, Кречетников распорядился, чтобы по обеим сторонам дороги, по которой ей надлежало ехать, на ближайшие к проезду десятины свезли сжатый, но еще не убранный хлеб и уставили бы копны как можно чаще; при въезде в город были устроены триумфальные ворота и украшены снопами ржаными и овсяными.



