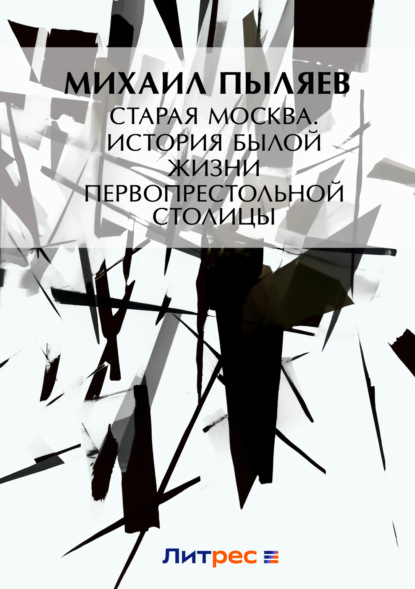 Полная версия
Полная версияСтарая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы
Этот зодчий был прислан в Москву из Рима с прочими художниками. В «Степенной книге» находим о нем:
«И град Москва камень поставлен бысть нов округ древняго града. Старейшина же мастером бяше фрязянин Петр Архитектон…»
В нынешнем своем виде Спасские ворота остаются со времени Петра Великого; этот государь для них выписал из Голландии боевые часы и велел поставить их в башне над воротами.
Всех колоколов в башне тридцать шесть, из них девять бьют четверти, а десятый – часы; по надписи на последнем, в нем весу 135 пудов 32 фунта, остальные 26 колоколов без действия; они били некогда куранты. На больших колоколах имеются надписи и на некоторых – изображения св. Богоматери и св. Троицы87.
Икона над воротами изображает Спасителя в стоящем виде; правая его рука благословляет, а в левой – раскрытое Евангелие; св. Сергий под правою рукою Спасителя, а св. Варлаам – под левою, изображены в коленопреклоненном виде; с правой и левой сторон главы Спасителя изображено по одному Серафиму, и они занимают собою углы иконы.
Точная копия этого образа – в часовне у Спасских ворот. В Спасские ворота с древнейших времен следовали все торжественные и церковные ходы; в XVII столетии из этих ворот в день Вербного воскресенья, перед обеднею из Успенского собора бывал крестный ход, изображающий Вход Христов в Иерусалим; в этом крестном ходу патриарх ехал на осляти к Покрову на ров и на Лобное место.
Ров с восточной стороны Кремлевской стены существовал до 1813 года; он повелением великого князя Василия Иоанновича IV был обделан кирпичом, и самые стены Кремля построены в 1508 году. Бока этого рва были укреплены бастионами с двумя кирпичными на арках мостами для проезда в Кремль как в Спасские ворота, так и в Никольские; впоследствии же, на одном из мостов, на Спасском, по обеим сторонам сделаны были небольшие лавочки, в которых производилась книжная торговля, а у самого въезда в ворота по сторонам стояли две часовни.
Это все существовало до 1812 года; после изгнания французов ров был засыпан и бастионные башни сломаны, а арки моста засыпаны; их не ломали, а просто завалили, как и боковую отделку; рва тоже не разбирали, а просто засыпали.
В XVIII столетии из одиннадцати крестных ходов в году девять проходили Спасскими воротами, а в XIX столетии из тринадцати крестных ходов восемь проходят этими воротами.
Внутренность свода ворот заставляет предполагать, что в четырех сделанных в стенах его углублениях или выемках некогда были поставлены иконы, потому что в других кремлевских проездных воротах этих углублений в стенах нет. С западной стороны, вовнутрь Кремля, изображена Печерская икона Богоматери, на верху главы изображен Нерукотворенный образ Спасителя; по сторонам Богоматери предстоят великие святители московские – св. Петр и Алексий.
В 1813 году киота этого образа была возобновлена и колонны у ней обиты медными латунными золочеными листами.
Здание башни трехэтажное, вся постройка четырехугольная, окончательная часть здания в восьмигранном виде, наверху которой сделана восьмиарочная часовая колокольня и над ней восьмигранный шпиль, наверху этого шпиля поставлен медный вызолоченный шар, а на нем – вызолоченный двуглавый орел или герб, сделанный из листовой меди. Но в половине XVII столетия, по словам Л. Белянкина88, на этой башне был устроен и герб деревянный. Он основывается на следующем повествовании, что «когда в 1633 году, в августе месяце, горел в Кремле двор князя А. Н. Трубецкого и Спасское подворье, и переходы, и Чудов монастырь, и Вознесенский, и подворье монастырское, князя Ивана Борисовича двор из огня отняли, а Кирилловское подворье и на Флоровской башне орел сгорел…»
Часы же на этой башне едва ли не первые по величине своей в России. Куранты на них без действия. При Петре I была измерена Спасская башня; в ней оказалось вышины 291/2 сажен, длины 62/3 сажени, ширины также 62/3 сажени.
В 1812 году, когда французы были в Кремле, несколько хищников покушались снять с образа башни ризу, но попытки остались безуспешными; также и взорвать Спасскую башню на воздух французам не удалось; под нее был сделан подкоп, и уже тлел пороховой фитиль, но отряд казаков под предводительством генерала Иловайского успел не допустить оставленному зажженному фитилю добраться до пороха.
О первых постройках двух часовен у ворот нет никаких преданий или известий. Существующие же построены по повелению императора Александра I в 1802 году, когда и Спасская башня была возобновлена. До возобновления над образом Спаса в прежде бывшей жестяной киоте была следующая надпись:
«1737 года обновлен сей святый образ всея твари Создателя Христа Бога., по бывшем великом пожаре, который в 1737 году, мая 29, в самый день праздника Сошествия Святого Духа, во время коленопреклоненных молитв начался и продолжался даже до утра, в таковом том огненном горении и сей святый образ опалился; ныне Его Всемогущего Творца поспешением в 1738 году изрядно обновлен пожеланием и иждивением некоего человека Иоанна».
В 1785 году киота была вновь возобновлена, и в образе звезды и резная рамка червонным весовым золотом вызолочены были иждивением доброхотных дателей.
Ближайшие к этой башне древние здания с восточной стороны против самых ворот – это не менее историческое «Лобное место», единственный в России памятник, существующий около четырех веков. Он давно утратил свое первоначальное значение в жизни государственной и народной, но удержал одно религиозное; здесь еще посейчас во время крестного хода архиерей с духовенством и св. иконами восходит на Лобное место, обставляемое хоругвями, и после молитвословия осеняет народ благословением на все четыре стороны. Карамзин предполагает, что на месте, где стоит теперь амвон, сбирался народ на вече в XIV веке во время нашествия Тохтамыша, когда великий князь оставил с двором своим Москву, а народ, выпустив из города митрополита с боярами, позвонил во все колокола к вечу, чтобы на нем, по древнему праву, решить свою судьбу большинством голосов.
О Лобном месте существует еще легендарное предание. В начале XVI века Москве угрожало гибельное нашествие Мегмет-Гирея «за беззакония, в ней умножавшиеся».
В это время одна благочестивая монахиня Вознесенского монастыря, что в Кремле у Спасских ворот, чудесно получившая прозрение после долговременной слепоты, ночью, когда усердно молилась Богу об избавлении от бедствия города, внезапно услышала звон колоколов и узрела видение: ей привиделось, будто из Кремля во Флоровские ворота, выходит целый собор святителей московских со священниками и дьяконами, в сонме видны были многие митрополиты и епископы, в числе которых можно было распознать и великих чудотворцев московских Петра, Алексия и Иону и ростовского Леонтия, некоторые из них несли чудотворную икону Божией Матери; навстречу им явились преподобные Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский, у того места, где теперь Лобное место, и молили их не оставлять отечественного города на жертву врагам. Святители вняли молитве чудотворцев, совершили с ними молебствие перед подворотною иконой Спасителя и потом возвратились в Кремль, а татары вскоре побежали из пределов Московского царства.
В память этого, вероятно, изображены на иконе Спасителя, осеняющей Спасские ворота, св. Варлаам и св. Сергий, а на другой иконе, на внутренней стороне, изображены московские святители Петр и Алексий.
На Лобном месте, по свидетельству иностранцев, совершались торжественные священные обряды, обнародовались царские указы и сам царь или боярин обращал свое слово к народу. Олеарий называл Лобное место «Theatrum proclamationum». Польские послы в донесениях своих к королю в 1671 году при описании этого места, говорят, что, между прочим, здесь государь однажды в год являлся пред народом и, когда минет наследнику его шестнадцать лет, объявлял его подданным своим. Это подтверждает и Коллинс, английский доктор царя Алексея Михайловича: «Царевича, – пишет он в книге своей о России, – ни народ, ни дворянство не видят до пятнадцати лет его возраста, но, когда ему исполнится пятнадцать лет, он является пред народом; его несут на плечах и ставят на Лобное место на площади, чтобы предохранить государство от самозванцев, которые часто возмущали Россию».
Лобное место носило название также «Царево», и никто из иностранцев не говорит, что на нем совершались казни, да и можно ли было допустить, что, при благоговении царя и народа к этому месту, его попирали палач и преступник.
Многие из наших писателей смешивают Лобное место с Лобною площадью и Лобным рынком, каким в начале XVII века называлась Красная, или Старая, площадь в Китай-городе.
Карамзин, живописуя нам ужасную эпоху казней при Иоанне Грозном, говорит: «В смирении великодушном страдальцы умирали на Лобном месте».
Лобное место наружным видом есть не что иное, как круглый каменный помост, с таким же вокруг обводом и лестницею. На годуновском чертеже Москвы так объясняется этот амвон городской:
«Налобное место, или возвышенный помост, конклав, построенный из кирпича, там во дни молебствий патриарх возглашает некоторые молитвы, также объявляются царские указы».
По словам г. Снегирева, в московском Лобном месте соединено значение Иерусалимского Краниева места и Лифостротона, ибо оно, как подобие крестного жертвенника, освящалось молебствиями и благословениями святителей, и вместе было судейским трибуналом и царским троном и кафедрою.
В Святом Граде оно заимствовало свое имя, как полагают, или от сходства холма с лбом, т. е. Кранием (черепом человеческим), или от поверженных там черепов, или, по преданию всего Востока, от Адамовой головы, там погребенной. В Москве оно сооружено на взлобье горы в Китай-городе, у позорища казней на Лобной площади, где также валялись лбы (головы) преступников.
Как в Иерусалиме, Лобное место возвышалось перед одними из шести ворот городских, за коими, по исконному обычаю на Востоке, исполнялись приговоры суда, так и в Москве оно сооружено перед одними из шести главных ворот Кремля, именовавшихся прежде Иерусалимскими, от смежной с ними церкви Иерусалим, т. е. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Как в этом священном памятнике, так и в некоторых других очевидно подражание святым местам Иерусалима. Московские великие князья и цари, получая сведение о них от святителей, паломников и зодчих, хотели видеть в своей столице подобие и название таких памятников.
На Лобном месте Иоанн Грозный после всех ужасов и жестокостей своего царствования в 1550 году собрал со всего государства избранных людей. Со страхом явились народные представители на Красную площадь перед Лобным местом, но не гневного, а кроткого нашли избранные люди царя – они увидели Иоанна, со смирением восходящим на Лобное место и со слезами на глазах обращающимся к патриарху, который следовал за ним в недоумении, колеблясь между страхом и надеждою, с просьбою, чтобы он был ходатаем у Престола Всевышнего за все зло, доселе им соделанное, представляя в оправдание свое нерадивое попечение о его воспитании, коварство и смуты боярские. Грозный просил архипастыря быть свидетелем перед лицом Бога и представителями народа его обета – загладить прежние проступки любовью и попечением о своих подданных, быть обороною слабого перед сильным, защитою угнетенных, утешителем сирых и убогих.
В «Степенной книге» приведена речь царя. После речи народ рыдал вместе с царем, забыл жестокости и славил одни его милости. Грозный требовал всеобщего примирения, и враги кинулись в объятия друг друга.
С Лобного места читали грамоту Самозванца Лжедмитрия, и москвичи, забыв присягу, данную незадолго юному сыну Годунова, провозгласили Отрепьева царем русским, а через несколько месяцев обезображенный и окровавленный труп Дмитрия Самозванца лежал уже на Лобном месте с маскою, дудкою и волынкою в руке, а труп его клеврета Басманова валялся тут же у ног его.
В 1610 году с Лобного места мятежным Ляпуновым было изречено свержение с престола Шуйского. С Лобного же места окроплял святою водою патриарх Никон царя Алексея Михайловича и рать его, готовую выступить в славный поход против поляков, исходом которого было возвращение древних городов русских: Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска и Киева. Здесь же, на Лобном месте, патриарх Иоаким благословлял, окропляя святою водою, грозное ополчение, собранное на защиту Киева и Украины от турок, и возложил на князя Черкасского крест Константина, а на Долгорукова – икону Сергия Радонежского. На этом же Лобном месте честный слуга-араб боярина Матвеева во время Стрелецкого бунта, когда никто не смел приблизиться к Лобному месту, собрал из грязи останки своего боярина и перенес в церковь Божию.
Здесь же, как мы выше упоминали, совершалось празднество «Входа Иисуса Христа в Иерусалим». В Вербное воскресенье с этого места совершал патриарх ход в Покровский собор, причем царь или близкий к царю родственник вел патриархова осла В Книге Московского стола за № 1989 описана церемония, происходившая в Вербное воскресенье.
«13-го апреля 1679 года строили и отпускали окольничий Алексей Головин да разрядный думный дьяк Василий Семенов с товарищами, а за золотчиками везли вербу, а на вербе стояли и пели стихари цветоносию патриаршии поддьяки меньших статей, а за вербою шли протопопы и священники немногие. А как великий господин Святейший Иоаким, патриарх Московский и всея России, у Лобного места всел на осля и пошел к собору в Кремль к соборной церкви, и великий государь Федор Алексеевич изволил в то время у осля узду принять по конец повода и везть в город к соборной церкви, а посреди повода держал и осля за ним, великим государем, вел боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков, а перед великим государем и по обе стороны его, государя, шли бояре и окольничие, и думные, и ближние люди, а за святейшим патриархом шли преосвященные митрополиты и иные власти, а за ними гости; а по сторонам осляти шли и святейшего патриарха оберегали его патриаршие боярин и дьяки. А во время государского шествия по пути стлали сукна и портища, суконные разных приказов стрельцы по наряду из Стрелецкого приказа. И изволил великий государь идтить, а святейший патриарх на осляти ехал до соборной церкви, до западных дверей, и, пришед к дверям, государь изволил идтить, и святейший патриарх со властьми пошел в соборную церковь, а за великим государем были бояре и окольничие, и думные, и ближние люди. А золотчики, пришед к соборной церкви, стояли от западных дверей с головы по обе стороны пути до северных дверей и рундуков к церкви Архангела Михаила. И был великий государь в соборной церкви идтить в свои государевы хоромы; а святейший патриарх Божественную литургию совершал в церкви Успения Пресвятыя Богородицы. А во время всего действа в Кремле и в Китае по обе стороны по площади, и около Лобного места стояли полуполковники, и полуголовы и сотники стрелецкие, а с ними стрельцы и солдаты в цветном платье ратным обычаем, с ружьем и со всяким полковым строем по наряду из Стрелецкого приказа».
С Лобного места патриарх раздавал освященные им вербы и вайи царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам. В продолжение чтения Евангелия протодьякон приводил к подножию Лобного места белого коня, снаряженного наподобие осла; и патриарх садился на него боком и ехал с Евангелием в одной руке и с напрестольным крестом в другой; на пути сто отроков постилали красные сукна и бросали к стопам патриарха одежды свои. В этом шествии везли белые кони на великолепных санях огромную вербу, обвешанную искусственными цветами и плодами.
В этот день у патриархов бывал парадный стол и на стол патриарху подавались: «сельди, паровые сниманы с огурцы, икра осенняя, блюдо икры осетри свеже, блюдо икры сиговые, сельди свежие под взваром, на пар лещи живые, спина белой рыбицы, спина лососья, язь жареный, труба белужья, сход белужий» и другие бесчисленные рыбные яства.
С кончиною последнего патриарха отправление этого обряда в Вербную неделю не исполняется, но, как бы в воспоминание о нем сохранилась ежегодно продажа вербы около Лобного места и в Лазареву субботу гулянье в экипажах по Лобной площади. Последнее началось с царствования Анны Иоанновны. Снегирев говорит, что митрополиты и патриархи по вступлении своем на святительский престол по три дня шествовали на осляти вокруг города и с Лобного места преподавали благословение пастве своей.
1 декабря 1812 года, когда стояла жестокая зима в Москве, преосвященный Августин, к утешению пострадавших от французов москвичей, после водосвятия на Лобном месте, окропив св. водою город на все четыре стороны, произнес:
«Вседействующая благодать Божия кроплением св. воды освящает град сей, богоненавистным в нем пребыванием врага нечестивого, врага Бога и человека, оскверненный».
В 1830 году, когда Москву посетила холера, когда город был оцеплен, по улицам тянулись возы с умирающими и умершими, на дворах курился навоз и можжевельник. В это скорбное и тяжелое время митрополит Филарет с одними монашествующими совершил в день Преподобного Сергия, 25 сентября, крестное хождение и на Лобном месте служил молебен с коленопреклонением.
Недалеко от Лобного места существует еще другое место, мимо которого не проходит москвич, не снявши шапки. Это – Иверская часовня. Икона Богоматери, находящаяся в часовне, – в таком почтении, что нет в целом году дня, в который бы она с утра до вечера не переходила из дома в дом. История этого образа следующая: в 1653 году патриарх Никон предположил соорудить на Валдайском озере монастырь во имя чудотворной иконы Иверской Божией Матери, находящейся на Афонской Горе. Для этого он послал архимандрита Пахомия на Афон для точного снятия списка с образа.
В 1666 году Пахомий привез требуемый список, но в это время Никон был под гневом царя и жил в Вологодской губернии; царь не приказал ставить ее в Никонов монастырь, а указал для нее поставить у Курятных ворот90 часовню. В 1791 году эта Иверская часовня пришла в ветхость. Екатерина II приказала ее перестроить, и она была перестроена при митрополите Платоне.
Золотая риза на иконе Иверской Божией Матери сделана при императрице Елизавете Петровне в 1758 году от вклада доброхотных дателей художником Василием Кункиным. Много драгоценных камней на ризе пожертвованы известным откупщиком Твердышевым. Золотая риза с венцом весит 27 фунтов 591/2 золотников. Икона эта в ночь перед вступлением французов в Москву в 1812 году была увезена в Муром викарием Августином и возвращена в Москву в том же году 10 ноября.
Недалеко от описанных нами Спасских ворот останавливает на себе внимание прохожих оригинальная по неправильности постройки, вычурности, пестроте и затейливости украшений церковь, весьма важная в историческом отношении. Это – Покровский собор, известный более под именем церкви Василия Блаженного; его еще называли «Иерусалимским» и на Рву91. Предание говорит, что царь Иоанн, завоевав Казань, дал обет построить храм в память этого события и по окончании храма в 1557 году призвал к себе зодчего этой церкви (имя его неизвестно) и спросил, может ли он построить храм лучше этого? Тот отвечал, что может. Царь велел ослепить его, говоря:
«Не хочу, чтоб где-нибудь была святыня лучше этой».
На месте, где поставлен был храм, стояла деревянная церковь Св. Троицы над Кремлевским рвом, при которой было погребено тело св. Василия Блаженного. В ту эпоху все церкви были с кладбищами. Так, на Красной площади, от Спасских, или Флоровских, до Никольских ворот, стояло пятнадцать церквей с кладбищами, которые были огорожены надолбами и решетками. В то время как в Кремле, так и у других больших церквей, особенно на Варварском крестце, в Китае и на других крестцах были сборные места нищих; там сходились удрученные бедностью, старостью или неудачами певцы богатого и убогого Лазаря и Алексия Божия человека, по большей части слепые, и жалобными, заунывными голосами испрашивали себе подаяние у прохожих и проезжих; там же выставлялись гробы и даже тела убогих для сбора на их погребение, а божедомы вывозили из убогого дома в тележке подкидышей.
При царе Иоанне Грозном между нищими на Флоровском мосту нередко являлся и летом и зимой один блаженный «нагоходец», нищий духом, от нищих охотнее принимавший подаяние, чем от богатых; он был другом и утешителем убогих; этот нищий и был Василий Блаженный, в память которого называется вышеупомянутый храм, оригинальнейший во всем свете по своей архитектуре.

А. М. Васнецов. Москва при Иване Грозном. Красная площадь
Иностранцы, бывшие в XVI веке в Москве, говорят про русских, что «москвитяне весьма заботятся о нищих, которым всякий подает по своему достатку, одевает, кормит и вводит к себе в дом».
Православная Церковь искони была попечительницей и кормилицей нищих, убогих и калек, которых она, как видно из церковных судов великого князя Владимира, причисляла к церковным людям; священные притворы и паперти церквей служили для них надежным пристанищем и убежищем; к их оградам примыкали скудные их избушки, клети и кельи.
В XVII веке нищие в Москве делились на соборных, монастырских, патриарших, гуляющих и богаделенных. Последние жили при устроенных при церквах богадельнях; первый устроитель таких общежитий был патриарх Иоаким. Царь Федор Алексеевич особенно умножил такие благотворительные дома, велел нищих кормить и содержать на иждивении патриаршего дома, и на этот предмет общественного призрения указано было собирать в патриарший дом по три алтына с церквей митрополичьих, архиепископских и епископских. Такие пошлины сбирали чиновники святительского двора: десятинники, недельщики и наместники.
Петр Великий в 1701 году учредил тоже до шестидесяти нищенских богаделен при московских церквах для помещения в них самых старых, дряхлых, больных и увечных, при которых назначено было воспитывать и малолетних до 10 лет.

А. М. Васнецов. На крестце в Китай-городе
До половины XVIII столетия нищие жили при церквах большей частью «под кровом бревенным», т. е. в скудных избушках. Императрица Елизавета в 1748 году указала строить при церквах вместо деревянных богаделен каменные, с крепкими каменными сводами, длиною в жилье 5 саж, а шириною 3 саж 3 арш. Первым примером в делах милосердия были нищелюбивые цари и пастыри. Отправляясь, например, на богомолье или в путь, цари и патриархи во всю дорогу раздавали ручную милостыню нищей братии, которая ожидала их на перекрестках, мостах, у городских ворот, на крыльцах у церквей и монастырей.
В старину не было той улицы, где бы не было сотни нищих, а в церквах и рядах от них не было прохода. Были нищие, которые просили по привычке из ремесла: от подаяния они только богатели.
По старинным рассказам, тогдашние ростовщики все прежде были нищими; они вначале собирали себе с миру по нитке да шили себе рубашки, но после тот же мир не расплачивался с ними и кафтанами. Эти же нищие держали у себя размен мелкой монеты и получали почти всегда на промен вдвое и втрое сбора денег против вынесенного ими на сутки. Вот откуда берут начало наши меняльные лавки и биржевая звонкая валюта.
Возвращаясь к церкви Василия Блаженного, мы видим, что спустя 126 лет после постройки этого храма царь Федор Алексеевич и патриарх Иоаким приказали в 1680 году разобрать за ветхостью бывшие в то время на Красной площади деревянные придельные церкви, а вместо них построить новые, сколько было старых на монастыре Покровского, или св. Василия Блаженного собора.
Старых церквей было восемь, такое же число было устроено и новых, и некоторые из них помещались под сводами древнего собора, а некоторые – близ собора на монастыре. Всего при Покровском соборе в 1680 году было двадцать церквей, которые были устроены и сверху и снизу этого собора, и существовали до 1783 года.
При этих церквах до 1771 года, при каждой, были особые священники, но во время бывшей в Москве моровой язвы при этом соборе умерли один протоиерей и 14 священников; оставшиеся придельные священники были распределены по приходским церквам, и с этого времени на место умерших ко всем приделам никто не был произведен. Во время чумы оставался один священник и дьякон.
В старину на Покровском соборе вокруг на черепице была древняя надпись, изображенная желтыми литерами. В ней говорилось о годе (1554), когда начата церковь и по какому случаю, затем о времени возобновления храма царем Федором Иоанновичем и о покрытии его железом.
Позднее императрица Екатерина II на прибитой к стене медной доске добавила, что церковь ею «с приделами возобновлена в 1784 году, при главном начальстве и дирекции Святейшего Правительствующего Синода члена Платона, архиепископа Московского» и проч.
Возобновление производилось на выданную казенную в десять тысяч рублей сумму «под смотрением оного собора протоиерея Иоанна Герасимовича».



