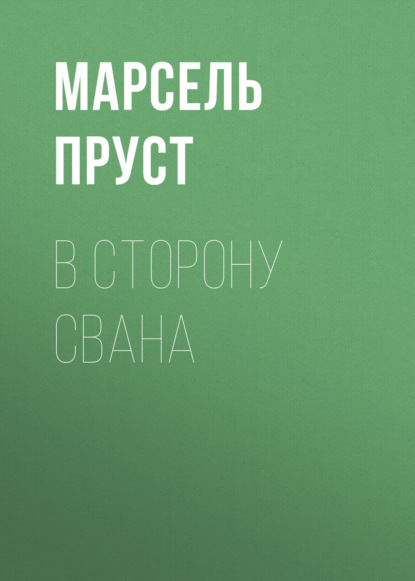 Полная версия
Полная версияВ сторону Свана
– Вы поздоровались друг с другом? – спросил я.
– Ну конечно, – отвечала мама, у которой всегда был такой вид, точно она боялась, как бы, признав натянутость наших отношений со Сваном, она не породила у своего собеседника желания примирить нас и ей не пришлось знакомиться с г-жой Сван, на что она никогда бы не согласилась. – Он первый поздоровался со мной, я не заметила его в толпе.
– Значит, вы не в ссоре?
– В ссоре? Откуда ты взял, что я с ним в ссоре? – поспешно проговорила мама, как если бы я посягнул на фикцию ее дружественных отношений со Сваном и попытался «содействовать их сближению».
– Он, может быть, недоволен, что мы больше не приглашаем его к себе?
– Никто не обязан приглашать к себе всех своих знакомых; а разве он когда-нибудь приглашал меня? Я незнакома с его женой.
– Но приходил же он к нам в Комбре.
– Ну да, приходил! Комбре – одно, а Париж – другое, здесь у него есть дела поважнее, да и у меня тоже. Но уверяю тебя, что мы совсем не производили впечатления людей, находящихся в ссоре друг с другом. Некоторое время мы оставались вместе, пока ему заворачивали покупку. Он спросил меня, как ты поживаешь, и сказал, что ты играешь с его дочерью, – продолжала мама, приведя меня в восторг чудесным откровением, что я существовал в уме Свана, – больше того, – что я обладал в его уме достаточной полнотой существования, ибо, когда я стоял перед ним, трепеща от любви, на Елисейских полях, он знал мое имя, кто такая моя мать, и мог сочетать с моим качеством товарища игр своей дочери кое-какие сведения относительно моих бабушки и дедушки, их семьи, местности, в которой мы жили, некоторые подробности из нашей прошлой жизни, может быть даже неизвестные мне самому. Но мама не нашла, по-видимому, ничего особо привлекательного в этом зонтичном отделении магазина «Труа Картье», где она представляла для Свана, в момент, когда он видел ее, определенную личность, с которой у него было достаточно общих воспоминаний, побудивших его подойти к ней и поздороваться с нею.
Ни она, впрочем, ни отец не находили, по-видимому, в разговоре о семье Свана, о бабушке и дедушке Жильберты, о звании почетного биржевого маклера какого-либо особенного, из ряда вон выходящего удовольствия. Мое воображение обособило и окружило священным ореолом в парижском обществе определенную семью, подобно тому как оно выделило из парижских построек определенный дом, фасад которого украсило скульптурами, а окна покрыло драгоценной росписью. Но я один способен был увидеть эти украшения. Если мой отец и моя мать находили дом, в котором жил Сван, похожим на другие дома, построенные одновременно с ним в квартале Булонского леса, то и семья Свана принадлежала в их глазах к той же категории, что и многие другие семьи биржевых маклеров. Большая или меньшая благоприятность их суждения о ней определялась степенью, в какой эта семья обладала общепризнанными положительными качествами, и они не находили в ней ничего исключительного. Напротив, то, что они ценили в ней, они в равной или даже в большей мере находили и в других семьях. Так, признав, что дом Сванов хорошо расположен, они говорили затем, что такой-то другой дом расположен еще лучше, между тем как дом этот не имел никакого касательства к Жильберте, или же заводили речь о финансистах гораздо более высокого ранга, чем был ее дедушка; и если иногда казалось, будто они разделяют мое мнение, то это впечатление основывалось на недоразумении, которое вскоре рассеивалось. Ибо для различения в окружающем Жильберты некоего невидимого качества, аналогичного в сфере эмоций тому, чем является в сфере цветов инфракрасный цвет, необходимо было обладать своеобразным дополнительным чувством, которым, на время, когда я был охвачен ею, наделяла меня любовь; но этого чувства были лишены мои родители.
В дни, когда Жильберта объявляла, что не придет на Елисейские поля, я старался делать прогулки, которые несколько приближали бы меня к ней. Иногда я увлекал Франсуазу в паломничество к дому, где жили Сваны.
Я заставлял ее без конца повторять мне то, что она узнала относительно г-жи Сван от гувернантки Жильберты. «Кажется, она очень верит в чудотворную силу образков. Она ни за что не отправится в путешествие, если услышит крик совы, или как бы тиканье часов в стене, или увидит кошку в полночь, или если раздастся треск мебели. О, это очень, очень верующая дама!» Я был настолько влюблен в Жильберту, что если замечал по пути старого метрдотеля Сванов, выведшего на улицу собачку, то от волнения бывал принужден остановиться и впивался страстными взорами в его седые бакенбарды. Франсуаза говорила мне: «Что с вами такое?» – и мы продолжали наш путь до самого подъезда их дома, где консьерж, не похожий ни на какого другого консьержа в мире и насыщенный, вплоть до позументов на ливрее, тем захватывавшим дух очарованием, которое было для меня скрыто в имени Жильберта, смотрел на меня с таким видом, точно он знал, что я принадлежу к числу людей, по самой своей природе недостойных когда-нибудь проникнуть в таинственную жизнь, которую ему поручено было охранять и над которой окна антресолей, казалось, сознавали, что они заботливо закрыты, и были гораздо меньше похожи, вместе с благородно очерченными дугами своих муслиновых занавесок, на окна других домов, чем на лучистые глазки Жильберты. В другие дни мы гуляли по бульварам, и я усаживался на углу улицы Дюфо; мне сказали, что оттуда часто можно было видеть Свана, направлявшегося к своему дантисту; и мое воображение настолько обособляло отца Жильберты от остального человечества, его присутствие в реальной толпе казалось таким чудесным, что, еще задолго до Мадлены, меня наполняла волнением мысль, что я подхожу к улице, где в любой момент меня может неожиданно ослепить сверхъестественное видение.
Но чаще всего – в дни, когда я был лишен возможности видеть Жильберту, – узнав, что г-жа Сван почти каждый день гуляет по Аллее акаций, вокруг большого озера и по Аллее королевы Маргариты, – я увлекал Франсуазу по направлению к Булонскому лесу. Он был для меня как бы одним из тех зоологических садов, где собраны различные флоры и контрастные пейзажи; где от холма посетитель переходит к гроту, лужайке, скалам, речке, канаве, другому холму, болоту, зная, однако, что все это создано лишь для того, чтобы дать возможность гиппопотаму, зебрам, крокодилам, кроликам, медведям и цапле чувствовать себя привольно в естественной или живописной обстановке; Булонский лес, такой же сложный, так же объединявший множество различных и обособленных мирков – чередовавший площадку, засаженную красными деревьями, американскими дубами, словно показательное лесное хозяйство в Виргинии, с еловой рощей на берегу озера или с тенистой аллеей, в которой вдруг появлялась, закутанная пушистым мехом, с красивыми глазами дикого зверька, куда-то торопившаяся фигура гуляющей, – Булонский лес был Садом женщин; и – подобно миртовой аллее из «Энеиды» – засаженная для их услады деревьями одного вида, Аллея акаций была излюбленным местом для прогулок прославленных красавиц. Подобно тому как уже издали верхушка скалы, откуда морской лев бросается в воду, наполняет восторгом детей, знающих, что они сейчас увидят это животное, так и мне, когда я подходил к Аллее акаций, разливавшееся кругом благоухание этих деревьев издали давало почувствовать присутствие некоего совершенно исключительного, мощного и нежного растительного царства; затем, по мере моего приближения, вид верхушек акаций, покрытых легкой колыхавшейся листвой, непринужденно-изящных, кокетливо очерченных и нежно сотканных, на которых сотни цветов сидели, словно крылатые и подвижные рои драгоценных насекомых, – и даже женское их имя, лениво-беспечное и сладкое, – заставляли сильнее биться мое сердце, наполняя меня суетными желаниями, как те вальсы, что вызывают в нашем сознании имена лишь красивых женщин, громко возвещаемые лакеем при входе их носительниц в бальную залу. Мне говорили, что я увижу на аллее целую гирлянду элегантных женщин, которых, хотя и не все они были замужем, называли обыкновенно вместе с г-жой Сван, но большею частью по их прозвищам; их новые фамилии, если таковые у них бывали, являлись лишь своего рода инкогнито, которые лица, желавшие завести речь об их носительницах, всегда раскрывали, чтобы быть понятыми собеседником. Полагая, что Прекрасное – в отношении женской элегантности – было подчинено сокровенным законам, в тайны которых они были посвящены, и что они обладали силой призывать его к жизни, я заранее принимал, как некое откровение, их туалеты, их выезды, тысячу мелких подробностей, которые я насквозь пронизывал своей верой, точно душой, сообщавшей связность произведения искусства этому эфемерному и текучему зрелищу. Но я желал увидеть г-жу Сван и с глубоким волнением ожидал ее появления, как если бы она была Жильбертой: родители Жильберты, насыщенные, как и все окружавшее ее, особенным, свойственным ей очарованием, возбуждали во мне столь же страстную любовь, как и сама она, такое же, и даже более мучительное смятение чувств (ибо пунктом их соприкосновения с нею была та внутренняя, интимная сторона ее жизни, которая оставалась для меня запретной), и наконец (ибо я вскоре узнал, как будет видно из дальнейшего, что им не нравились ее игры со мной) то чувство преклонения, которое мы всегда испытываем по отношению к людям, обладающим безграничной властью причинять нам зло.
В порядке эстетических достоинств и светских качеств первое место отводил я простоте в те минуты, когда замечал г-жу Сван пешком, в полонезе, в маленькой шапочке, украшенной фазаньим крылом, с букетиком фиалок на груди; она торопливо проходила по Аллее акаций, как если бы аллея эта была просто кратчайшим путем, по которому она возвращалась домой, и отвечала беглыми приветливыми взглядами галантным мужчинам в экипажах, которые, издали завидев ее силуэт, кланялись ей и говорили друг другу, что другой такой шикарной женщины нет. Но простота уступала в моем сознании место помпезной пышности, если, уломав Франсуазу, которая отказывалась идти дальше, заявляя, что она «ног под собой не слышит», погулять со мной еще часок, я замечал на аллее, ведущей к Воротам дофина, – образ, производивший на меня впечатление царственного великолепия, какого никогда впоследствии не способна была произвести ни одна настоящая королева, ибо мое представление о королевском могуществе было не столь неопределенным и основывалось на более точных данных, – влекомую резвым бегом пары горячих лошадей, стройных и извивавшихся, как мы видим их на рисунках Константина Ги, с восседавшим на козлах огромным кучером, в подбитом ватой русском армяке, рядом с маленьким грумом, напоминавшим «тигра» «покойного Боднора», – я замечал – или, вернее, чувствовал, как очертания ее запечатлеваются в моем сердце четкой и болезненной раной, – несравненную викторию с приподнятым выше обычного кузовом и с ясно ощутимыми, сквозь роскошную отделку по самой последней моде, старинными формами, в глубине которой сидела, небрежно откинувшись на спинку, г-жа Сван, с единственной седой прядью в светлых теперь волосах, повязанных тоненькой гирляндой цветов, чаще всего фиалок, из-под которой ниспадали длинные вуали, с сиреневым зонтиком в руке, с двусмысленной улыбкой на устах, в которой я видел лишь снисходительную благосклонность королевы, хотя она содержала в себе скорее вызов кокотки, – улыбкой, которую она приветливо обращала ко всем, кто ей кланялся. На самом деле эта улыбка говорила одним: «О да, я отлично помню, это было чудесное мгновение!» – другим: «Как бы я любила вас! Нам не повезло», – третьим: «Да, если вам угодно! Еще некоторое время я должна держаться вереницы экипажей, но, как только можно будет, я сверну в сторону». Когда проезжали мимо незнакомые, на губах ее все же обрисовывалась ленивая улыбка, словно она ждала или вспоминала какого-то друга, – улыбка, вызывавшая у тех восклицание: «Как она красива!» И лишь для очень немногих улыбка ее бывала кислой, принужденной, робкой и холодной, обозначавшей: «Да, старая кляча, я знаю, что у вас язычок ехидный, что вы не умеете держать его за зубами! Но неужели вы думаете, что я обращаю внимание на ваше злословие?» Прошел Коклен, громко разговаривая о чем-то с окружавшими его спутниками и приветствуя широким театральным жестом своих знакомых, проезжавших в экипажах. Но я думал об одной только г-же Сван, притворяясь, будто еще не заметил ее, так как знал, что, доехав до Голубиного тира, она прикажет кучеру покинуть вереницу экипажей и остановиться, чтобы сойти с виктории и отправиться дальше пешком. И в дни, когда я чувствовал себя достаточно храбрым, чтобы подойти к ней, я увлекал Франсуазу в этом направлении и через мгновение действительно замечал г-жу Сван на пешеходной аллее: она шествовала навстречу нам, волоча за собой длинный шлейф своего сиреневого платья, одетая так, как бывают одеты в воображении простого народа королевы, – в бархат и шелка, каких другие женщины не носили, опуская по временам взгляд на рукоятку своего зонтика, обращая мало внимания на проходивших мимо, как если бы главной ее задачей, единственной ее целью была прогулка как физическое упражнение, и ей не было никакого дела до того, что это упражнение она совершает на виду у всех и что взоры всех гуляющих устремлены на нее. Иногда, впрочем, оборачиваясь, чтобы подозвать свою борзую, она почти неприметно бросала кругом себя внимательный взгляд. Даже лица не знавшие ее чувствовали, по некоторым исключительным и необыкновенным признакам, – или, может быть, в силу некоего телепатического воздействия, вроде того, какое Берма оказывала на невежественную публику, разражавшуюся бурными аплодисментами после особенно мастерских выступлений актрисы, – что они видят перед собой особу, пользовавшуюся широкой известностью.
Такие лица спрашивали друг друга: «Кто это?» – задавали иногда этот вопрос незнакомым или тщательно запоминали ее туалет, чтобы описать его затем более осведомленным своим друзьям, которые сразу могли бы пролить свет на интересовавший их вопрос. Другие гуляющие, приостанавливаясь, обменивались такими репликами:
– Вы знаете, кто это? Г-жа Сван! Это имя ничего не говорит вам? Одетта де Креси!
– Одетта де Креси? Я тоже так подумал; эти большие, печальные глаза… Но в таком случае она сейчас далеко не первой молодости! Помню, я проводил с ней ночь во время отставки Мак-Магона.
– На вашем месте я при встрече с ней не напоминал бы ей об этом. Она сейчас г-жа Сван, жена члена Жокей-клуба, друга принца Уэльского. Впрочем, и сейчас еще она великолепна.
– Да, но если бы вы знали ее в те времена! Что это была за красавица! Она жила в небольшом, очень эксцентричном особняке, заставленном всякой китайщиной. Помню, что нас ужасно беспокоили крики газетчиков, так что в конце концов она заставила меня встать и одеться.
Не слыша этих разговоров, я чувствовал, что г-жа Сван окружена ореолом славы. Сердце мое лихорадочно колотилось при мысли, что пройдет еще несколько мгновений, и все эти люди, среди которых я, к сожалению, не замечал одного банкира-мулата, относившегося, как мне казалось, с особенным презрением ко мне, увидят, как неизвестный молодой человек, на которого они не обращали никакого внимания, здоровается (не будучи, правда, знакомым с ней; но я считал, что у меня есть достаточно прав на это, так как мои родители были знакомы с ее мужем и сам я был товарищем игр ее дочери) с этой женщиной, чья красота, распутство и элегантность были общепризнанны. Но я был уже в двух шагах от г-жи Сван, я снимал перед ней шляпу таким широким движением руки и отвешивал ей такой продолжительный поклон, что она не могла удержаться от улыбки. Публика смеялась. Что же касается самой г-жи Сван, то она никогда не видала меня с Жильбертой и не знала моего имени, но я был для нее – как сторожа Булонского леса, как лодочник или утки на озере, которым она бросала крошки хлеба, – одним из второстепенных персонажей – коротко знакомых, безымянных, лишенных, подобно статистам, всякого индивидуального характера, – ее ежедневных прогулок в Булонском лесу. В иные дни, когда я не видел г-жи Сван на Аллее акаций, мне случалось встречать ее на Аллее королевы Маргариты, по которой гуляют женщины, желающие (или делающие вид, будто желают) быть в одиночестве; впрочем, она не долго оставалась в одиночестве, вскоре к ней подходил какой-нибудь незнакомый мне мужчина, большей частью в сером цилиндре, и заводил с ней продолжительный разговор, во время которого их экипажи медленно следовали за ними.
Эту сложность Булонского леса, обращавшую его в местность искусственную, в Сад, в зоологическом или мифологическом смысле этого слова, я вновь ощутил в текущем году, проходя через него по дороге в Трианон, однажды утром, в начале ноября, когда в Париже, в комнатах, близость от нас и в то же время недоступность нашим взорам зрелища осени, заканчивающегося так быстро, что мы не успеваем его воспринять, наполняют нас тоской по опавшим листьям, могущей обратиться в настоящую лихорадку, которая всю ночь не даст нам сомкнуть глаза. В моей наглухо закрытой комнате, вызванные моим желанием видеть их, листья эти уже в течение месяца располагались между моими мыслями и любым предметом, на котором я сосредоточивал свое внимание, беспорядочно кружась передо мной, как те желтые пятна, что иногда, куда бы мы ни смотрели, танцуют перед нашими глазами. И в то утро, не слыша больше, как в предшествовавшие дни, шума дождя, видя на углах опущенных занавесок улыбку хорошей погоды, вроде того, как на углах закрытого рта проскальзывает тайна наполняющего нас счастья, я почувствовал, что могу увидеть эти желтые листья наяву, пронизанные светом, во всем их великолепии; и, не будучи в силах подавить в себе желание взглянуть на деревья и остаться дома, как я бессилен был в дни моей юности, когда ветер особенно яростно завывал в моем камине, побороть желание съездить на берег моря, я вышел на улицу с намерением отправиться в Трианон через Булонский лес. Это был час дня и время года, когда Лес кажется, может быть, наиболее многоликим не только потому, что он содержит в себе наибольшее разнообразие, но также и потому, что разнообразие это особенное. Даже в открытых его частях, где взор охватывает широкое пространство, там и здесь, на фоне темной и далекой массы деревьев, теперь голых или все еще сохранивших свою летнюю листву, аллея оранжевых каштанов производила, точно едва начатая картина, такое впечатление, как будто она одна была написана красками на полотне, остальные части которого представляли лишь эскиз карандашом или углем, и, казалось, приглашала под насквозь пронизанную солнцем сень своей листвы группу гуляющих, которая будет дописана на полотне лишь впоследствии.
Дальше, там, где зеленый покров деревьев оставался нетронутым, один только низкорослый крепыш, подстриженный и упрямый, встряхивал на ветру своей безобразной огненно-красной гривой. В других местах листья были такими свежими, точно они едва только распустились, а чудесный ампелопсис, улыбавшийся, подобно зацветшему зимой розовому боярышнику, с самого утра, весь был как бы в цвету. И Лес являл вид чего-то временного, искусственного, не то питомника, не то парка, где, с научной ли целью, или для приготовления к празднеству, недавно посадили, посреди самых обыкновенных древесных пород, которых не успели еще удалить, две или три редкие разновидности, с фантастической листвой, создававшие впечатление, будто подле них много простора, много воздуха, много света. Словом, было время года, когда Булонский лес блещет наибольшим разнообразием флоры и располагает рядом самые несхожие части, образуя из них пестрое целое. Был также час дня, благоприятствовавший такому впечатлению. В тех местах, где деревья сохраняли еще свою листву, вещество ее, казалось, подверглось изменению там, где она была тронута солнечными лучами, еще почти горизонтальными в этот утренний час, каковыми они станут снова через некоторое время, в момент, когда, с началом сумерек, засветятся словно лампа, бросят издали на листву горячий и феерический отблеск и зажгут ярким пламенем вершину дерева, под которой несгораемым канделябром будет стоять тускло освещенный ствол. В одном месте лучи эти уплотнялись как кирпичи и, как на желтых с голубым узором стенах персидских построек, грубо вмуровывали в небо листья каштанов, в другом – напротив, отделяли их от неба, к которому те тянулись своими скрюченными золотыми пальцами. На середине ствола одного дерева, увитого диким виноградом, они прикрепляли огромный букет каких-то красных цветов, – может быть, разновидность гвоздики, – так ослепительно сверкавших, что их невозможно было разглядеть. Различные части Леса, летом сливавшиеся в однообразно зеленую массу густой листвы, теперь четко обособлялись друг от друга. Границы почти каждой из них отличались ярче освещенными пространствами или пышной листвой, вздымавшейся как расшитый золотом стяг. Я мог различить, словно на раскрашенной карте, Арменонвиль, Кателанский луг, Мадрид, Ипподром, берега Озера. По временам взорам моим представало какое-нибудь бесполезное сооружение, искусственный грот, мельница, которой давали место расступившиеся вокруг нее деревья или которая находила приют на мягкой зеленой мураве какой-нибудь лужайки. Чувствовалось, что Булонский лес был не только лесом, что он отвечал какому-то назначению, не имевшему ничего общего с жизнью деревьев, и что причиной моего возбужденного состояния было не только восхищение осенними красками, но и физическое желание. Обильный источник радости, которую душа испытывает, не сознавая сначала ее причины, не отдавая себе отчета в том, что причина эта совсем не внешнего происхождения! Вот почему умиленное созерцание деревьев не приносило мне удовлетворения, желание мое простиралось дальше и бессознательно устремлялось к тому шедевру искусства, каким являются обрамленные этими деревьями красивые женщины, гуляющие здесь ежедневно в течение нескольких часов. Я направился к Аллее акаций через высокую рощу, где утреннее солнце, разбивая деревья на новые группы, подчищало и приукрашивало их, сочетало стволы разных пород, делало из ветвей затейливые букеты. Оно искусно привлекало к себе два дерева; вооружившись мощным топором из света и тени, оно отсекало у каждого из них половину ствола и ветвей и, сплетя вместе две оставшиеся половины, обращало их в столп тени, четко выделявшийся на залитом светом фоне, либо в световой призрак, чей феерический, меняющийся контур был оплетен сетью черной как уголь тени. Когда солнечный луч золотил вершины деревьев, то казалось, будто, смоченные какой-то сверкающей влагой, они одни возвышаются над уровнем жидкого изумрудно-зеленого воздуха, куда вся роща была погружена словно в море. Ибо деревья продолжали жить своей жизнью, и, если они лишены были лиственного покрова, жизнь эта сверкала еще ярче на зеленых бархатных чехлах, покрывавших их стволы, или в серебристых шарах омелы, которые усеивали верхушки тополей, круглые, как солнце и луна на «Сотворении мира» Микеланджело. Но, обреченные в течение стольких лет, благодаря своего рода прививке, сожительствовать с женщиной, они вызывали в моем сознании фигуру дриады, торопливо идущей и окрашенной в яркие цвета хорошенькой элегантной женщины, которую они покрывают по пути сенью своих ветвей и принуждают чувствовать, как и сами они, могущество времени года; они приводили мне на память счастливую пору моей доверчивой юности, когда я с таким нетерпением спешил на эти аллеи, где, под лишенной сознания листвой деревьев-соучастников, на несколько мгновений воплощались шедевры женской элегантности. Но красота, желанием которой наполняли меня ели и акации Булонского леса, более волнующие в этом отношении, чем каштаны и сирень Трианона, на которые я шел взглянуть, не была утверждена вне меня, в памятниках какой-нибудь исторической эпохи, в произведениях искусства, в маленьком храме любви, у входа в который грудами навалены тронутые золотом осенние листья. Я достиг берегов Озера, дошел до Голубиного тира. Идея совершенства, которую я носил в себе в те времена, была неотделима для меня от высокой виктории, от худощавых и стройных лошадей, разъяренных и легких, как осы, с глазами, налитыми кровью, как у свирепых коней Диомеда; и вот теперь, охваченный желанием вновь увидеть то, что я некогда любил, желанием столь же жгучим, как и желание, которое влекло меня на эти самые аллеи много лет тому назад, я хотел, чтобы перед моими глазами еще раз появилась эта виктория и эти лошади в момент, когда огромный кучер г-жи Сван, с детским лицом Георгия Победоносца, сидевший рядом с крохотным грумом, величиною в его кулак, пытался сдержать прыть нетерпеливо извивавшихся, пугливых и трепещущих животных. Увы! Там сновали теперь одни только автомобили, управляемые усатыми шоферами, подле которых помещались высокие выездные лакеи. Желая убедиться, действительно ли они так прелестны, как их видели глаза моей памяти, я хотел взглянуть своими телесными глазами на маленькие дамские шляпы, такие низенькие, что казались простыми веночками. Все шляпы были теперь необъятными, все были покрыты плодами, цветами и всевозможными птицами. Вместо красивых платьев, в которых г-жа Сван выглядела королевой, какие-то греко-саксонские туники со складками, как на танагрских статуэтках, или же в стиле Директории, из «шифон либерти», усеянные цветами, словно бумажные обои. На головах мужчин, которые могли бы прохаживаться с г-жой Сван по Аллее королевы Маргариты, я не видел больше прежних серых цилиндров и даже вообще никаких головных уборов. Они гуляли по Булонскому лесу с непокрытой головой. И, созерцая эти новые элементы зрелища, я не способен был отнестись к ним с той верой, которая наделила бы их плотностью, единством, жизнью; они проходили передо мной разрозненные, случайные, не настоящие, не заключая в себе никакой красоты, которую глаза мои могли бы попытаться, как в былые дни, отвлечь от них и превратить в произведение искусства. Передо мной были заурядные женщины, в элегантность которых я ни капельки не верил и туалеты которых казались мне невзрачными. Но когда вера бывает утрачена, ее переживает – и укрепляет в нас все больше и больше, чтобы замаскировать наше бессилие наделять реальностью новые явления, – фетишистская привязанность к старине, которую наша вера в нее наполнила некогда жизнью, как если бы в ней, а не в нас самих, заключена была божественная искра и наше теперешнее неверие имело случайную причину – смерть богов.



