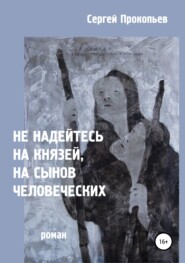 Полная версия
Полная версияНе надейтесь на князей, на сынов человеческих
Защита прошла отлично. Получил четыре балла, что не омрачило настроение, понимал, не дотянул до высшей оценки.
Получив диплом, полетел в Якутию. Сначала самолётом в Якутск, потом на три дня в связи с нелётной погодой застрял в промежуточном пункте – Батагае, наконец, вот он Нижнеянск, о котором местные острословы говорили: мы живём там, где вымерли мамонты. Река Яна, горы, тундра, круглые сутки солнце на небе – полярный день. Порт, при нём посёлок в две с лишком тысячи граждан. Основные строения – двухэтажные деревянные дома. Что удивило батюшку – тротуары высоко над землёй. Теплотрассу в землю не укроешь, вечная мерзлота. Трубы, в теплоизоляцию укутанные, положены на бетонные опоры, а поверх труб дощатый настил. Идёшь, как паришь над землёй. Тротуары с перилами, чтобы зимой в пургу на самом деле не воспарить от ураганного ветра.
Почти день летел от Нижнеянска вверх по течению на «Ракете», судне с подводными крыльями, к месту работы – земснаряду «Ленский-332». Он делал прорезь на перекате, черпал ковшами гальку со дна, углубляя русло. Галька подавалась на шаланды, стоящие справа и слева по бортам.
После той навигации ад ассоциируется со скрежетом черпаков по дну реки, грохотом, который стоит на земснаряде во время работы. Прибыл на судно в разгар навигации, каюта досталась не из престижных – в самом низу. Жуткий скрежет черпаков, вгрызающихся в гальку, грохот черпаковой цепи стояли над самым ухом. Поначалу думал, как тут жить? Но вскоре привык. Придёт с вахты, завалится и спит, будто не адский гул за бортом, а пение соловьёв.
– Был случай на Яне, – рассказывает батюшка о буднях Крайнего Севера, – баржа к нашему земснаряду пришвартовалась. На барже гора отслужившего свой век стрелкового оружия. Старьё времён Гражданской и Отечественных войн. Куда его везли, на переплавку или затопить собирались – не скажу, не знаю. Никто не охранял, как куча металлолома. Патронов не было. Пистолеты, винтовки, наганы, револьверы. Наши молодые оболтусы, свежеиспечённые выпускники речного училища, не могли пройти мимо такого богатства, перелезли на баржу, кто наган сунул в карман, кто револьвер. Вооружились. С Севера увезти оружие и не пытайся: контроль в аэропортах жёстким – золотоносный край, кругом прииски. Зато подурачились с оружием оболтусы. Сеня Чернорай пришёл в посёлковый магазин и, как бы между прочим, вытащил из кармана револьвер, положил на прилавок, скомандовал:
– Пару пачек чая!
Дикий запад да и только. Продавец молодая женщина, чуть за тридцать. Верой, как сейчас помню, звали. Небольшенького роста, таких махотками в частушках зовут.
У махотки белы щёчки,
Тоненькая талия,
Ручки, ножки, локотки,
Шея и так далее.
У Веры талия давно утратила осиный размер, крепкая со всех сторон женщина. Визжать от страха и руки вскидывать к полотку при виде огнестрельного оружия не стала. Сеня револьвер на прилавок водрузил, освободил карман и полез туда за деньгами, за чай расплатиться…
Не успел глазом моргнуть, в его широкую грудь чувствительно упёрлись вилы.
– Не двигаться! – грозно приказала Вера. – Чуть шевельнёшься – воткну!
Вилы не стандартного размера, поменьше и черенок короткий, но зубья до блеска заточены. Вера держала крестьянское оружие под рукой на подобный «дикозападный» или доморощенный бандитский случай. Мало ли, край такой, что бичей, вчерашних зеков полно, а она как-никак материальными ценностями заведует, магазин никакой сигнализацией и кнопками вызова милиции не был оснащён, надежда только на себя… И вот «мало ли» наступило.
Вера и момент самый подходящий подловила, руки у Сени в карманах – деньги искал.
Сеню заикание пробило:
– Я п-п-пошутил!
– Не двигаться!
Вера в отличие от Сени шутить не собиралась. Сеня приказ «не двигаться!» выполнил, замер с руками в карманах, Вера оперативно смахнула револьвер под прилавок!
– Дура, он не заряженный!
– Ты умник попьёшь у меня чайку в местах, где небо в клеточку! Участковому сдам наган вместе с тобой, пусть проверяет, кто из вас заряженный!
Пришлось мне идти к Вере улаживать конфликт, чтобы не писала заявление в милицию. Командиром земснаряда был Григорий Иванович Корнейчук, здоровенный дядька, на запорожского казака похожий. У него была присказка, как гаркнет басом: «Ну, шо раб Божий, обшитый кожей?» Ему понадобилось срочно в отпуск, за него остался выпускник нашего института, на два года раньше меня окончил, Стас Шелепин. Жена его начальником изыскательской партии работала. Отличный парень, в шахматы хорошо играл. В свободное от вахт время часто с ним двигали коней, ладей и королей с ферзями. Стас отправил меня улаживать конфликт. Вера ко мне уважительно относилась. Особенно после того, как я пришёл в магазин за гитарой. Настроил, поиграл и купил. Веру очаровали гитарные переборы.
– Чтобы я Сеню придурочного больше в магазине не видела, – отдала револьвер. – Чуть ноги не отнялись, так напугал!
– Все бы так пугались! Ты Сене вилами рубаху продырявила.
– Пусть радуется – самого не продырявила! У меня полная касса денег, трое детей, он с наганом…
– Револьвером…
– Мне всё равно…
Отдала револьвер. Я тут же его в волны Яны отправил, а всех оболтусов предупредил: повторится подобное – спишу на берег с волчьей характеристикой.
Ружья у нас едва не у каждого имелись. Не охотились только ленивые. В свободное от вахты время надо чем-то заниматься. Кроме охоты я часто просто так бродил по окрестностям. Сопки, озёра, петляющая Яна. Иногда казалось – такого не может быть, завораживающий мир. Гагары, утки, гуси. Кажется, здесь человека не было никогда. Зайцы шныряют. В крутых берегам Яны линзы вечной мерзлоты. Обрыв, а линза выпирает глыбой льда. Смотришь, а из берега, подмытого водой, бивень мамонта торчит, или рога ископаемого быка валяются. Ощущение, ты в другом мире. Один раз с прогулки бивень мамонта несёшь в каюту, в другой – на челюсть мамонта наткнешься. Мамонт огромная туша, а всего два зуба в челюсти. Два в верхней, столько же в нижней. Каждый зубок, правда, килограммов по десять. Работая ими, мамонт нагуливал по десять тонн живого веса. Притащу кости к себе в каюту, зарисую, запишу, где найдены. Всю каюту завалил костями. Целую коллекцию собрал. Кости, осколки древней посуды, книги старинные… Музей…
Охотился, конечно. Утки густо летали. Вовремя сделай в стаю выстрел – обязательно в какую-нибудь попадёшь. Повариха земснаряда постоянно зайчатину, утятину готовила. На мотозавозне, катер так называется, отвезут тебя, и добывай дичь в своё удовольствие и на пользу команде.
Я однажды двух гагар подстрелил. Тоже забавная история. Гагары здоровенные, как гуси. Получилось, три гагары на озерко вблизи берега сели. Я притаился, стал выжидать, когда вместе сплывутся, чтобы одним выстрелом… Залег… А мокро кругом, вода холоднющая… Мне в азарте не до температурного режима… Гагары страшно осторожные, чуть шевельнусь – плавно отходят. Не паникуют, не срываются с воды, отплывут подальше… Дождался, перетерпел все неудобства, промок, конечно, – гагары сошлись друг к другу – нажимаю на курок и две сразу кверху пузом. Редкой красоты птицы. Сверху чёрные с белыми крапинками, а пух на животе белоснежный. Лёгким ветром их стало относить от берега. Мне бы сразу броситься за добычей, пока около берега была, да жадность охотничья обуяла – раззадорило третью птицу взять. После выстрела она взлетела и снова опустилась на воду. Один раз стреляю, ей хоть бы что, второй… Нырнёт, через несколько секунд снова на поверхности. Как дразнится. Гонялся за ней, гонялся, стрелял-стрелял. Бесполезно. И смотрю, третью ещё неизвестно, подстрелю или нет, а первых двух, что кверху пузом, точно потеряю. На приличное расстояние отнесло гагар от берега. Собаки нет, некого послать. Вода думать не хочется, какая холодная. А что делать, сапоги-болотники сбросил, в куртке, брюках поплыл (всё равно мокрые)… Не знаю, подстрели я трёх гагар, как бы с ними выбирался из воды, с двумя-то неудобно. Рук две, и гагар столько же. Если в каждую по птице – как плыть? Одну взял в зубы, вторую в левую руку, правой гребу. Дотерпел, не бросил. Слава Богу – судороги не случилось.
Ни о чём трагичном не думал, гордость распирала – с такой добычей вернусь. Мотозавозня за мной пришла, доставила всего мокрого на земснаряд. А там меня оболтусы жестоким образом разыграли. Увидели с добычей… Я ведь не знал, что гагар подстрелил, был совершенно уверен – гуси. В якутской фауне слабо разбирался. На кухню понёс трофеи, поварихи где-то не было, оставил у двери. А оболтусы мне говорят:
– Ефимыч, ты зачем гагар убил? У них мясо несъедобное. Такую красоту зря подстрелил.
Я страшно расстроился. И то, что незнайка такой, и, что красоту зря извёл. Как потом пояснили, убить гагар не так-то просто. У меня ружьё на уток «тройкой» заряжено, когда гагар увидел, перезарядил «нулёвкой». Собираясь на охоту, взял также заряды с крупной дробью, вдруг, думал, гуси попадутся… У гагар пух настолько густой, дробь застревает и не доходит до тела. На удивление получилось – сразу двух подстрелил. Гусей ни разу до этого не приносил. Это не утки, умеючи надо. Почему азарт охватил, когда гагар увидел, наконец-то стоящий трофей добуду. Раньше если что и приносил – мелочь. И вдруг – несъедобные.
Неделя прошла с той охоты. Гагары из головы не выходят. В разговоре со Стасом Шелепиным посетовал:
– Зачем, спрашивается, убил таких красивых птиц? Надеялся удивить всех гусями, получилось – насмешил, несъедобных принёс…
– Да ты что! – Стас на меня уставился. – Какие они несъедобные? Мы твоих гагар умяли за милую душу. Ты сам их уплетал. Не понял что ли? Гагар надо уметь приготовить, мясо предварительно вымочить. Мы их на следующий день после твоей охоты и употребили…
Как говорится, учите матчасть…
Аты-баты на краю географии
Батюшка при каждой нашей встрече старается подвигнуть меня на сценарий о мятежном священнике Багинском, который сначала с амвона призывал паству браться за оружие против большевиков, а потом сам повёл в бой. Батюшка Виталий и сам ломает голову, как лучше сделать фильм о такой уникальной противоречивой личности. Вдруг загорается идеей ввести в фильм фантастику. Без летающих тарелок, гуманоидов и другой небывальщины. В фильме всё как бы реально. Гражданская война, Омск, ставший Белой столицей, кишащий военным и гражданским людом. Большой залитый светом зал с золотопогонными генералами, духовенством во главе с архиепископом Омским и Павлодарским Сильвестром, рядом с ним иерей Виталий Багинский. Верховный правитель Александр Колчак говорит короткую речь и вручает Багинскому наперсный золотой крест. Следующая сцена Багинский в Евгащино служит литургию в переполненном храме, на груди подарок Колчака. Вдруг из притвора крик: «Красные!» И вот уже Багинский верхом на лошади отдаёт короткие команды вооружённым всадникам, скачущим рядом с ним. Отряд самообороны вступает в бой… В этой части картины будет поспешный уход колчаковцев из Омска, бегство Багинского из Евгащино, а потом его арест в Минусинске во времена НЭПа и расстрел.
Затем в свои права вступает жанр фантастики. Багинский переносится в Омск. Время самое советское, с портретами Ленина, членами политбюро. Золотой сентябрь. Сухой, солнечный, тёплый день. Багинский в рясе, на груди тот самый золотой крест от Колчака. Он идёт по городу размашистым шагом, никто не обращает на него внимания. По законам жанра фантастики, он невидим для окружающих. Идёт по улице Ленина, которая называлась до революции Дворцовой. Смотрит по сторонам, узнаёт и не узнаёт Белую столицу. Казачий собор без крестов, нет Ильинской церкви, Железный мост через Омку заменён на новый. Зияет пустотой то место, на котором возвышалась Серафимо-Алексеевская часовня, бесследно исчезла часовня Сергия Радонежского. Стоит магазин Шаниной, и о Боже – нет кафедрального Свято-Успенского собора. Нет Вознесенского собора.
Те, кто победили его, кто расстрелял его, уничтожили все храмы, но город за семьдесят лет стал огромным, это уже не та на восемьдесят-девяносто процентов одноэтажная бревенчатая деревня. Омск понастроил заводы, фабрики, город работает, город учится, умные лица, много молодёжи, много детей. Красивые хорошо одетые люди. Багинский видит в створе улицы Крестовоздвиженский собор, сверкают на солнце главки, увенчанные крестами, почти бегом направляется к нему, будто опасается, что перед ним мираж, сейчас храм исчезнет, или его снесут, взорвут. Нет, собор стоит белоснежным кораблём. Он недавно побелен. Автоматически проскальзывает мысль: скоро Воздвижение Креста Господня, престольный праздник. Храм тоже изменился, с южной и северной стороны пристроено по приделу. Батюшка поднимается по высокому крыльцу, из раскрытых дверей доносится пение «Херувимской». Царские врата раскрыты. Диакон и протоиерей выходят со Святыми Дарами на солею. Протоиерей благообразный, седобородый, высокий, с низким раскатистым голосом. Народу много, в основном женщины, и сразу видно, здесь все свои, случайных людей нет. Молятся хорошо.
Багинский покидает Омск и отправляется в Евгащино. Целую жизнь не был здесь. С той самой горячей поры, когда пришлось, спасая свою жизнь, драпать от частей Красной армии. Жену Доминику Григорьевну бросил, так и не смог забрать потом, здесь и упокоилась. Отец Виталий в Евгащино, как и в Омске, не уставал удивляться. Не захирело село, наоборот, жизнь его течёт полной рекой: на полях косят хлеба комбайны, на лугах пасутся стада, на дорогах мощные трактора, машины. Большие скотные дворы, фермы. Не понаслышке знал батюшка технологии сельского хозяйствования, воспитывался в Белокриницком сельскохозяйственном училище, а в Минусинске, куда сбежал, руководил совхозом. Профессиональным взглядом оценил он: справно работал совхоз в Евгащино.
Ходил батюшка по селу со сложными чувствами на сердце. Он и радовался и горечь жгла его. Живёт село при советах, за счастье которого он боролся с этими самыми советами. Добро живёт под ними. Маслозавод делает сыр, масло, как и в дореволюционные годы, поставляет продукцию заграницу. Имеется нефтебаза. Нет кожевенного завода, обозного, зато два кирпичных. Швейное производство, со странным названием «промкомбинат», выпускает фуфайки и матрасы. А ещё кондитерское производство, кондитерский цех (торты, пирожные), тоже с непривычным для его уха названием – кулинария. Село не просто крепкое, каким оно и раньше было, процветает его Евгащино. Приросло улицами. Да что там приросло, в два раза больше стало, чем при нём. Улицы заасфальтированы, по обочинам столбы с фонарями, в ночное время не по темноте шагать. Дом культуры со стайкой ребятни на крыльце, и детки-то славные, хорошо одетые, что-то весёлое обсуждают. А это что за здание? Кинотеатр, то есть – театр для кино. Интересно. А вот больница. Он мечтал вместе с купцом Калижниковым о постройке большой, хорошо оснащённой больницы в Евгащино. И вот она стоит. С отделениями для детей и взрослых, роддомом. Два детских сада в селе – рожайте, женщины. Не ожидал такое увидеть. Школа, большая светлая, полная детей, интернат для учеников из близлежащих деревень. Нет коммерческого училища, но есть профессиональное техническое.
Не сгинуло село без купцов-миллионщиков Калижникова, Мельникова, Яркова, Резина, Плехова. Тех самых купцов, которые радели о Евгащино, развивали его, благоукрашали. Никто уже не помнит их, но и без них хорошеет Евгащино.
От прежнего села остался дом купца Калижникова, торговая лавка купца Мельникова, здание министерской школы… Храма нет. Стоит обветшавшее, обезображенное пристройками, без крестов, без колокольни, брошенное на умирание здание, в котором когда-то он совершал литургию и Святой Дух нисходил на Чашу. Сколько человек он крестил здесь, сколько пар венчал, отпевал уходящих в вечность евгащинцев…
Батюшка Виталий перекрестился на то, что осталось от храма, и зашагал на берег Иртыша. Берег полого сходил к воде. Река работала, несла на себе баржи, наливные суда, мощный трёхпалубный теплоход проследовал в сторону Омска. А вот что-то совсем незнакомое летит по фарватеру вниз по течению. Наверное, в Тару. Хищный удлинённый корпус поднят над водой, лишь стойками, идущими со дна судна, опирается на Иртыш. Батюшка провожает взглядом стремительно удаляющееся красивое судно с надписью на борту «Ракета» и садится на огромный пень-корягу. Его, скорее всего, притащило в половодье. Вода отступила, а он оказался на берегу. За лето высох до белизны, до звона. Перепутанные корни торчали, будто щупальца-обрубки. Мысли в голове батюшки путались, как эти корни. Почти нет церквей в Омске, нет храма в Евгащино, но ведь не богохульно живут люди. В школах ученики изучают не безбожников Вольтера и Лео Таксиля, учат Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого. Нет «Закона Божьего», но ведь нет уроков атеизма. Детей учат добру, товариществу, справедливости. Получается, бесов революции, с которыми он боролся, переварила страна, перемолола. Или он что-то недопонимает? Не мог он встать под красные знамёна безбожников, не мог. Получается, выступал врагом сегодняшнего Евгащино. Может, на то была воля Божья, а он не понял, пошёл против неё. Да нет же, нет, неужели воля Божья была на то, чтобы расстреливать священников, рушить храмы? Но ведь за что-то попустил это Господь?
***
– Попробуй написать сценарий о Багинском, – настойчиво пытается вдохновить меня батюшка. – Пусть будет там Гражданская война, беспощадная с обеих сторон. А потом Багинский пусть окажется в Евгащино в советское время и постсоветское. Евгащино процветало при царе, достигло наибольшее расцвета при коммунистах и прозябает сейчас. Может, победи он, Евгащино уже не было. За последние четверть века в два раза уменьшилось. Не поленись, садись на автобус и поезжай туда. День потратишь, зато посмотришь своими глазами места, где служил Багинский, где он боролся за лучшую жизнь, как её понимал. Я был в Евгащино в конце восьмидесятых, и год назад – ужас, что стало с селом. Будь у меня власть – издал бы закон: ничего не разрушать. Рассказывали, в Томске стали гореть двухэтажные деревянные дома в центре. В царские времена это были особняки богатых томских купцов, а сейчас архитектурные памятники – красота и гордость Томска. Горели, как правило. Вспыхнет дом и сухой соломой сгорит. А вскоре на месте пожара появится современная фигушка из стекла и бетона. И тогда губернатор, есть ещё государственные люди, издал указ, на месте сгоревшего памятника архитектуры не разрешается строить в течение пятнадцати лет. Дома чудесным образом гореть перестали.
Я уже рассказывал: в институте была прекрасная база в Мочище, на берегу Оби, где после первого и после второго курсов мы проходили геодезическую и гидрологическую практику. А в дом отдыха, что рядом с базой, ездили на спортивные сборы. Курортная зона, люди как на Чёрном море отдыхали. Хочешь – загорай, хочешь – бери лодочку на остров сплавай. Зимой лыжи, катание с горок. Ни нашей базы не стало, ни дома отдыха, как Мамай прошёл, – разрушено, разграблено, уничтожено. Теперь посмотри Нижнеянск, где я начинал речником…
Батюшка нашёл в интернете любительский фильм о современном Нижнеянске. Автор из тех, у кого шило путешественника в одном месте. Не нужен берег турецкий, рванул за Полярный круг и оказался в Нижнеянске. А там страх Божий. Фильм ужасов. Мёртвые дома, мёртвые улицы… Вода непреодолимыми лужами на месте прежних дорог. Батюшка поворачивает ко мне монитор. В этом доме, давно брошенном, с выбитыми окнами, вырванными дверями, он перед армией жил. Двухэтажки одна, вторая, десятая, двадцатая – ни одной живой, кладбище домов. Школа, больница, детский сад, бассейн, поликлиника – всё мёртво. Торчат покосившиеся столбы – телеграфные и электропередач. Из живых душ только собаки. Они будто ждут, когда вернутся хозяева, чтобы снова охотиться, ездить на рыбалку. Из двух тысяч жителей осталось пару сотен. Где живут – непонятно. И почему остались? Ехать ли некуда? Лишь дом культуры чудом цел. На нём плакат из давних времён: «Среди социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье советских людей!»
– Сюда ходили в кино, на танцы, – вскинулся батюшка, – а в школу ходили – в спортзал, по вечерам пускали.
Дом культуры в Нижнеянске уцелел героическими усилиями двух местных энтузиастов. Не дали зданию умереть. Оставить в живых весь посёлок энтузиастов не хватило. В порту разруха, но кое-какая жизнь всё же теплится. Заходят корабли, что идут по Северному морскому пути. Край-то золотоносный. Но за глубинами фарватера практически не следят. Деньги выделяются, но, как это у нас повсеместно заведено, слабо доходят они до исполнителей. Поэтому всё упование на погоду – ветер подул с севера, нагнал воду, корабли поднимаются по Яне до Нижнеянска. Ветер с юга – сгон воды, корабли ждут в устье, на баре Яны.
– Всё варварски уничтожено, – вздыхает батюшка. – Господи, помоги нашему Северу, всей нашей земле.
***
Ту нашу встречу батюшка Виталий посвятил рассказу об армии.
– В общежитие в Нижнеянске собралась целая компания, кто ждал повестки в военкомат. Подружился с Женей Сериковым из Якутска. Он с другого земснаряда был. Пока ждали повесток, продолжали работать на техучастке, готовить его к зимнему периоду. Помогали расставлять технику (земснаряды, путейные корабли, брандвахты…) на зимний отстой – пришвартовывали, отшвартовывали. Капитан, который разводил корабли в затоне, запомнился грубостью, ему доставляло удовольствие унижать – материл, обзывал. Обидных прозвищ в лексиконе было предостаточно, стоял наверху и орал их в рупор. Тип не из приятных. Кулаки чесались наподдавать ему… В свободное время ходили в дом культуры, в спортзал.
Наконец получили повестки и нас отправили в Якутск. Там уже снега полным-полно, холодина. Рядом с городом распределитель, куда со всей Якутии призывников собрали. Обезьянником звали. Несколько корпусов, огороженная территория. Если не знаешь, подумаешь – пионерский лагерь. Только вместо пионеров, что всем ребятам примеры, свора великовозрастных беспризорников, одетых, кто во что горазд. Наряжались в Советскую Армию по принципу – в части оденут, а гражданское всё одно выбрасывать… Видавшие виды фуфайки, пальто, один в шинели, в которой, наверное, отец с войны пришёл…
Условия проживания в распределителе спартанские, температура только-только не околеть, никаких простыней и одеял – матрацы на пол брошены – отдыхай призывник, в армии будет некогда.
В обезьяннике однокашника якута Егора Назарова встретил. Есть городок с красивым названием Покровск, в семидесяти километрах от Якутска. Егор оттуда. Родители потомственные учителя. Отец математику в школе преподавал, мать – русский язык. Две сестры тоже в сфере образования работали. Мама Егора ему в армию письмо пришлёт, обязательно мне приписочку сделает. Я отвечал. Егор напишет, я добавлю. Талантливый парень, учился хорошо. Вместе боксом занимались. Невысокий, но плечистый, крепкий. Боковой удар был хорошо поставлен.
Дядя у Егора – министр образования Якутии, один раз с Егором ночевали у него. Дней восемь держали в обезьяннике. Автобус придёт, команду новобранцев заберёт, и полетели ребята на Дальний Восток, или в Забайкалье, или в Москву. А ты сиди, жди своей очереди. Получается ты и в армии, и не в армии, а в бедламе. На ночь я часто бегал в самоволку. Никто за нами особо не следил, через забор перемахнул и в город. Проблем не было, где переночевать. С Егором однажды к дяде-министру завалились. Две дочери у него, симпатичные девчонки и сразу видно – воспитанные. Отец министр, у других бы нос до потолка, эти – нет. Скромные, улыбчивые. Дядя накормил, вином угостил. Спали как люди на белых простынях, это не матрасы в обезьяннике.
С якутами по жизни часто сталкивался, в институте, на флоте, прекрасный народ, трудолюбивый, умный. Одна беда… Не растёт у них виноград… Для южан вино, что сок виноградный, для северных народов – смерть. Втянется – всё. А втягивались махом. На Яне работал, часто видел в сёлах спившихся мужчин и женщин. Тракторами, бульдозерами человек вечную мерзлоту обнажает, тем самым губит тундру, так и в душу северных народов вторглась цивилизация. Слава Богу, Егор не был подвержен этой болезни.
В распределителе познакомился с Колей Кислицыным, его после индустриального техникума призвали. По сей день с ним переписываюсь. Был у него в гостях в Красноярске. Он ко мне с женой и дочкой приезжал. А ещё с Пашей Берёзкиным сошлись, он строительный техникум окончил. Один парень, Саша Михеев, с баяном служить поехал.
Понемногу распределитель пустел. Команду Женю Серикова день на третий отправили в Комсомольск-на-Амуре, он в связи служил. Всего раз успели в самоход к нему домой на пару сбегать, один раз ходил без него. Мама обрадовалась:
– Молодец, что пришёл. Не стесняйся, будешь возможность ещё приходи.
Хорошо у них было дома. Над диваном висела репродукция картины Крамского «Неизвестная». Сестра у Жени в медучилище училась, на гитаре играла. По её просьбе несколько студенческих песен ей записал. Коллекцию свою, что из Нижнеянска вывез (кости мамонта, какие-то артефакты) оставил у Сериковых в сарае. Так и не забрал потом, хотел передать в какой-нибудь музей. Не получилось.



