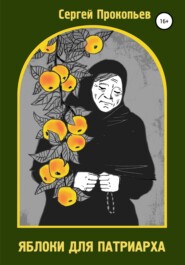 Полная версия
Полная версияЯблоки для патриарха
Обещание Богу поставить крест засело в нём прочно. Отмахивая вёрсты по дороге к дому, представлял себя идущим по селу с крестом на плече. Как бы ни было тяжело, крест на телеге не повезёт. Нести не так уж и далеко, труднее всего первая половина пути – от дома дорога шла в горку, к церкви, зато потом – под уклон.
К мосту Андрей подошёл под вечер, перекрестился на церковь, постоял, вслушиваясь в вечернюю Таёжку. Мычали коровы, брехали собаки, вдруг женский визгливый голос перекрыл все звуки: «Федька, да куды ж ты запропастился, иродяка?»
Из цельной лиственницы вырубил Андрей брус, выгладил его рубанком, украсил незамысловатой резьбой. Стояли последние дни сентября, светили золотом берёзки, лиственницы охватило жёлтое пламя. Андрей посадил на деревянные шипы перекладины креста, укрепил над двумя верхними голубец – крышу. На следующий день рано утром открыл ворота, повернулся в сторону церкви, перекрестился, затем приподнял верхний конец, взвалил крест на плечо и понёс голубцом вперёд. Жена всплеснула руками:
– Андрюша, давай помогу.
Отогнал:
– Не мешай!
С той поры пошло в селе «Андрюшин крест». «Только с моста съехал и сразу за Андрюшиным крестом воз перевернулся», «Встретились у Андрюшиного креста», «Покурил у Андрюшиного креста и зашагал домой».
Судьба у Андрюшиного креста сложилась счастливо, пережил все богоборческие времена. В тридцатом году закрыли храм в Таёжке. Священника отца Никодима арестовали, увезли со связанными руками и растерянным лицом, а потом и расстреляли. Ретивый комсомолец Гришка Иванченко вознамерился спилить крест, да мужики-охотники шепнули: «Ты, поди, Гришаня, слыхивал, быват, человек заналадится в тайгу, уйдёт, и как в воду канул. Уж как его сердешного не ишшут, как ни выкликают. Никакой милицай концов не найдёт, так что смотри, паря». Гришка был не настолько с ветром в голове, намёк понял. Устоял Андрюшин крест.
Во времена хрущёвские председателю сельсовета районные власти ставили на вид, что это за безобразие, вся страна идёт к коммунизму, а в Таёжке крест тормозом торчит на пути в светлое будущее. Требовали убрать препятствие в коммунистическое завтра. Председатель сельсовета не отличался красноречием, однако твёрдо держался своего: «Не я его ставил, люди не против». Благо в медвежий угол начальство редко заглядывало. А если и заносило, председатель встречал более чем хлебосольно, было чем угостить в богатом краю. Провожая высоких гостей, умел гостинцев в виде лосятины, рыбы, кедровых орехов, соболиных шкурок поднести. Так что самовольство с крестом прощалось ему. Более полувека стоял Андрюшин крест. Подгнил и упал только в конце шестидесятых годов.
В 2004-м в честь девяностолетия начала Первой мировой войны родственники Андрея Бекасова, внук и правнук, поставили новый крест. Пусть не сами рубили, не на руках доставляли на место, а всё одно почтили память деда-прадеда Поклонным крестом. Водрузили его несколько в стороне, так как над местом, где полвека возвышался Андрюшин, прошла линия электропередачи. Новый размером поскромнее, Андрюшин – шестиметровой высоты, этот – на полтора метра ниже. Тоже из лиственницы. Так что ещё лет пятьдесят простоит. Только бы Таёжка простояла.
Глава седьмая
Жили у бабуси два весёлых гуся
Пасмурным, насупившимся февральским днём Валера с Аркадием подкатили к Поклонному кресту. Перекрестились и поехали дальше. Цель приезда – покупка домов. Друзья благополучно её осуществили и стали владельцами недвижимости в Таёжке.
Через месяц Аркадий помогал Валерию переселяться. Сам он планировал летом обживать свой дом, Валера ехал на постоянное жительство. На этот раз Таёжка встретила щедрым мартовским солнцем. Однако щедрость небесного светила радостных чувств не вызвала. Дорогу порядком развезло, доехать до Валериного дома на «жигулях» не получилось, выгрузили вещи на обочине. Лужи, снег, а посредине всего этого диван ярко-красного цвета, на нём Валера с Аркадием сидят в ожидании трактора, вызывая живой интерес у редких прохожих.
Валера и Аркадий купили дома на дальнем краю села, который в последние годы смотрелся хутором. Словно в один прекрасный или какой там момент домов двадцать, сговорившись, разом снялись и на пару километров ушли поближе к реке, которая в том месте делала поворот, навсегда уходя в тайгу. На самом деле ещё в шестидесятые годы прошлого века справная улица с домами по обе стороны «пуповиной» соединяла Выселки (так в народе звали дальний край села) и Таёжку. Но «пуповина» стала со временем ослабевать, хиреть. Забивались ставни в её домах, или их раскатывали и перевозили в другое место. В результате Выселки на самом деле стали таковыми.
В них на юру Валера приглядел хороший дом. Рядом приобрёл жильё Аркадий.
Жить Валера решил хозяйством. Для себя и на продажу. Других доходов у него не имелось, поэтому в планах было завести живность, сажать картошку, другую огородину и заняться пчёлами… Жизнь сложилась так, что был он в ответе только за одного себя. Сила в руках имелась, голова на плечах тоже. Не крестьянская, да как капуста с моркошкой растёт знал по бабушкиному огороду, даже привлекала пчёлок обихаживать. В конце концов готовыми агрономами не рождаются. Учиться можно по ходу дела, книжки читать, за советом к умным людям обращаться. Был Валера ещё полон романтики и розовых представлений.
Хозяйство повёл с размахом, без раскачки: гуси, быки – всё в большом количестве, огород в тридцать с гаком соток, чтоб ни миллиметра не пустовало. Ну и по мелочёвке – десятка полтора куриц, пару козочек.
Гусей взял инкубаторских, суточных, майских. Масштабы не как в песне «Жили у бабуси два весёлых гуся», покруче арифметика – сто штук. Отвёл в доме угол пернатым, сделал загородки и разделил на две группы по пятьдесят голов в каждой. Живите, так сказать, нагуливайте вес. Вместо этого начался падёж. Как потом узнал, самой первой допущенной ошибкой было неправильное формирование групп. Оптимальный вариант – десять штук в подразделении. Это позволяет избежать феномена толпы. Крохам тепло требуется. Лампы круглосуточно горят, всё одно мёрзнут, сбиваются в кучки, собственными градусами согреваясь. Как сбились, одного-двух бездыханных вытаскивай. Позже Валере подсказали способ обогрева: плюс к лампам тёплая вода в полторашках, малыши облепят бутылки… Кормёжка через два-три часа. И опять гляди в оба, как бы не задавили кого в обеденной кутерьме. Собственно, смотри не смотри – задавят. Спать приходилось урывками.
Гусята и спали шумно. Вроде угомонились, а всё одно постоянно бормотание из их угла, будто что-то там варится. И через каждые два часа начинается ор: жрать давай!
«В гусыню рядом с ними превратился, – смеялся Валера, – только что крыльями не бил».
Кормил пушистые шарики смесями, яйца варил и крошил, рвал молодую крапиву – лакомство для цыплят.
Ещё одна напасть – вороны. Валера, по своей городской наивности, считал, вороны падкие лишь на то, что блестит. Этакие эстетки с крыльями. Оказывается, это самые настоящие стервятники, которые воруют яйца из птичьих гнёзд, рыбу, стоит оставить её без присмотра, и гусят. Когда последние при родителях, вороне сложно свою кровожадность потешить, лишь вознамерится, взрослые гуси малышей окружают кольцом, шеи над ними палаткой вытягивают. Если ворона наберётся наглости спикировать за нежной добычей, так получит от вожака клювом (а клюв, что твоё зубило), что едва-едва уносит голову с места конфликта. Валере некогда было, распростёрши руки, над своим поголовьем стоять, он зорко следил за нежным поголовьем, когда находилось оно под небом голубым – во дворе. Правит какое-никакое дело, сам косит глаза на ворону-стервятницу. Та обязательно поблизости крутится – или совершает высокие обзорные облёты территории, или на ветке сосны, что в углу двора, сидит и делает вид – у неё ни капельки интереса до Валериного хозяйства нет, ей без того есть чем заняться. На самом деле хищница с индифферентным видом выжидает воровской момент – стоит гусыне-Валере скрыться со двора – начинается резня. Валера заскочит в дом на короткую минутку, перекусить, чайку попить… А у самого сердце не на месте. Гусята частой сеткой накрыты, но вдруг… Сорвётся, гонимый нехорошим предчувствием, выскочит на крыльцо, а «вдруг» уже нашла дырочку в сетке над загоном. Ворона не одна вместе с воронятами в гусятнике зверствует. Натуральное побоище идёт: у одних гусят головы оторваны, у других из разодранных грудок ворона внутренности по-хозяйски клювом достаёт. Бойня. Тушки, головы валяются, живые гусята в угол обречённо забились…
Коршуна Валера однажды подстрелил, на конец высокого шеста привязал, водрузил шест торчком у забора в устрашение другим пернатым разбойникам. Никакого воздействия это не поимело, никого не испугало. Гусята подросли, грузоподъёмности у вороны не хватает унести упитанного гусёнка со двора. Воровку это не останавливает. Наоборот, добавляет охотничьего азарта – спикирует на жертву, голову в остервенении оторвёт…
Из ста гусей осталось в оконцовке шестьдесят. Местные считали, вполне нормальный процент падежа, Валера был не согласен. Ладно, ножки слабели, хворь одолела. Естественный отбор, тут ничего не попишешь. Но, когда здорового затаптывали сородичи или клюв вороны-воровки лишал жизни, это нормальным явлением назвать не мог…
Валера любил с гусями, курицами разговаривать. Мама его приехала первый раз в Таёжку. Всё-то ей понравилось: и дом, и то, как ведёт сын хозяйство. В огороде порядок, со скотиной как настоящий сельский мужик управляется. Мама родом из села, знает, что к чему. Казус случился день на четвёртый. Вышла на крыльцо, и похолодело сердце от звуков, доносящихся из сарая…
Валера в общении с гусями разработал свой язык. Каких только звуков в нём не было: гортанные, чвакающие, свистящие, ухающие, охающие, бубукающие, бобокающие… Богатый набор. Да с разными интонациями. Гуси народ болтливый, им только дай поговорить. Мама вышла из дома в разнеженном утреннем состоянии, а из сарая…
Валера, ничего не подозревая (не знал, что появился посторонний слушатель), беседует с гусями. Аудитория большая, каждый крылатый собеседник (напомним, более шестидесяти) норовит свои «три копейки» вставить в разговор, у каждого своё мнение. И Валера в настроении поболтать был, разговорился: го-го-гокает, посвистывает, языком пощёлкивает… Одни звуки гусей удивляли, они замолкали, замирали, с интересом слушали: ну-ка, ну-ка, что там дальше? На другие реагировали шумно, начинали вступать в диалог, мотать головами, подчёркивая сказанное.
Дверь в сарай была открытой. Мама услышала весь этот пугающе странный набор звуков из уст сына, мороз пошёл по коже от диагноза, тут же поставленного: у Валеры проблемы с головой. От одиночества умом тронулся. Бросилась в сарай с мыслью: надо срочно везти домой.
У быков падежа не было. Стопроцентная выживаемость. Пять быков взял Валера по приезде в Таёжку, пять через год сдал. У каждого свой норов, но общий язык хозяин с ними находил. Посему с тяжёлым сердцем сдавал на мясо, прикипело сердце к животинке. Кормились летом бычки самопасом, утром за ворота Валера выгонит, даст напутствие нагуливать с Божьей помощью тело… Пойдут потихоньку. Неторопкие были. Дом на юру, внизу луг просторный, речка бежит – есть что поесть, где водицы испить. Без напоминаний знали время возвращения на базу. Нетерпеливостью отличался лишь бычок по кличке Доня. Ничего не стоило бросить компанию и одному заявиться вечером домой. Можно было ещё поскубать травку, нет, бросает пастись и направляется в гору. Поднимется, встанет у забора и мычит призывно, мол, впускай хозяин, домой хочу, травы досыта нажевался, что-нибудь посущественнее давай.
– Доня, ну что ты опять один приплёлся, почему других не привёл? – отчитает хозяин за самочинство. – Одного не пущу, иди за остальными.
Доня голову опустит в обиде, дескать, не нанимался за всякую бестолочь отвечать.
– Иди-иди, – подгонит Валера.
Доня развернётся, метров на пятьдесят отойдёт, собратья далеко внизу пасутся, пару раз им пронзительно крикнет. Те в ответ промычат «слышим-слышим» и не спеша потянутся в гору. Доня дождётся, и тогда все вместе подойдут к забору, хором затрубят: впускай.
С гусями свой разговор. Они тоже паслись у речки. Водоплавающим вообще раздолье – в полном распоряжении чистейшая река. Пару раз уплывали вниз по течению, бегал Валера на поиски, но обычно на виду паслись и плавали. Конкурентов в округе не имелось – на все Выселки единственное стадо гусей у городского жителя. Такой деревенский парадокс. Своего Дони среди гусей не имелось. Приходилось Валере самому звать домой. Выйдет, шумнёт. Тоже свой язык. Один раз крикнет, ответят, но с места не сдвинутся. Как бы, мы здесь, всё нормально. Ты, хозяин, спросил, мы не проигнорировали – всё под контролем. Но стоило два раза крикнуть, у гусей начинался ажиотаж на грани счастливого переполоха. С криком, бешеной спешкой (будто жизненно важно в первых рядах оказаться у ворот) срывались с места. Кто летел, кто бежал, падали, натыкаясь друг на друга, вскакивали. Шестьдесят голов – это опять же не «жили у бабуси два весёлых гуся». Едва не полкосогора заполняло хлопающее крылами, радостно гогочущее, стремительно поднимающееся к Валере белоснежное облако. Лавой текут вверх. Обступят Валеру, наперебой говорят-говорят-говорят на гортанном наречии. Перевода не надо, без того ясно: дай! Целый день паслись, а всё равно дай поесть, раз позвал.
На собственном опыте Валера познал мудрость слов Паисия Святогорца о козе на последние времена. В непостные дни весь его рацион зачастую сводился к хлебу, козьему молоку и яйцам. Готовить было просто некогда. Это притом, что занимался не умственным трудом, работал в то время грузчиком на пилораме. Не сразу Валера приноровился коз доить. Руки поначалу болели, коза так просто молоко не отдаст, удивлялся, как женщины доят. Потом накачал мышцы. Целая наука. И ещё один нюанс, из разряда иронических – пока одну козу доишь, другие могут на раз карманы твои очистить. Карманники козы искуснейшие. Не заметишь, как будешь обворован. Так что не зевай. Однажды Валера подоил, отнёс молоко в дом, процедил и собрался в церковь, а ключа от замка нет. Все карманы обшарил – куда девался. И ключ, как назло, в единственном экземпляре. Что делать? Потом осенило – а не козы ли утащили? Сжевать, конечно, не сжевали. Пришлось всю солому, что под ноги козам бросил, перебрать. Так и оказалось, какая-то воровка вытащила и бросила. Наученный горьким опытом, Валера, отправляясь доить коз, всё из боковых карманов выгребал.
У соседа Геры-Чеченца был козёл по кличке Чугун. Чернущий, ни одного светлого пятнышка, и отчаянный ворюга. Его не интересовало съестное, он пристрастился к куреву. Воровал у мужиков сигареты. Ходил по Выселкам и, если видел мужика, начинал охоту. Как и все козы, умел делать индифферентную морду, дескать, до вас никакого мне дела нет, на самом деле ловил момент, когда можно незаметно подкрасться и вытащить пачку из кармана. Казалось бы, козлиная морда – это не тонкие чувствительные пальцы карманника, а всё одно ухитрялся проникнуть в карман так, что его обладатель не замечал чужого присутствия. Обнаруживал пропажу, когда лез в карман за сигаретами. Мужики знали эту страсть Чугуна, однако снова и снова попадались. Дым Чугун не пускал, предпочитал жевать сигареты. Делал это с большим аппетитом и страшно довольной мордой.
Вот и скажи, что скотина дурная. Валера что-то делает во дворе в одном углу, коза занята своим в дальнем другом. Но будь спокоен, она не выпускает тебя из поля зрения. Всё под постоянным приглядом. Стоит Валере, к примеру, закрыть калитку на улицу, тут же подойдёт, начнёт рогами, мордой открывать, борясь за свободу козьей личности.
Козлята – отдельная песня. Если козы – специалисты по карманам шарить, пока хозяин занят дойкой, козлятам дай побаловаться в этой ситуации – залезть на голову Валере. Тяга к горным вершинам у коз в крови. Поэтому забежать по спине и водрузиться на голову – это раз плюнуть. Валера доит, у него на плечах козлёнок стоит, будто так и надо. Ты, дескать, занимайся своим делом, а я представляю себя на высоченной скале, обозревающим горные кручи и долины.
Когда первая коза принесла приплод, Валера ещё не знал истины, что, хотя козы и домашние, гены горных предков в них ой как живы. Особенно у козлят, которые, окрепнув, бросаются выделывать цирковые номера. На короткий период в них просыпается страсть к гонкам по вертикали. Валера опешил, когда козлёнок вдруг забежал на стену, будто на него перестало действовать земное притяжение. Грешным делом подумал: не бесы ли дурят ему голову необычными видениями? Козлёнок разгоняется по полу и легко взбегает на стену, само собой, перпендикулярную к полу… Пусть не до потолка поднимается, невысоко… Один сделал трюк, спрыгнул на пол, второй разгоняется повторить номер…
И ещё одна живая душа была в хозяйстве – пёс Джульбарс. Так Валера звал его в официальных случаях – представляя гостям. На самом деле – Жулька. Невысокий, разномастный, как ртуть, подвижный кобелёк-кабыздох. Детство Жульке выпало, судя по всему, не солнечное. В его голове с висящими ушами постоянно жила мысль-предупреждение о голодных временах, которые могут в любой момент нагрянуть, и тогда рад будешь любой завалящейся косточке. Поэтому по всему двору, во всех углах имелись тайники с собачьими драгоценностями. Закладывались они на чёрный день. При этом Жулька был постоянно обеспокоен – а не обнаружит ли кто-нибудь его запасы? Не посягнут ли на его тайники лихие конкуренты? Посему постоянно перепрятывал содержимое своих захоронок. Особенно в моменты появления потенциальных расхитителей. К примеру, козы возвращаются с пастбища, Жулька заслышит их приближение и начинает суматошно носиться по двору, выкапывать кости и в спешном порядке закладывать тайники в новых местах. Если Жулькина миска была полной, как и желудок хозяина, он бросался через силу пожирать содержимое посудины, давился, торопясь поскорее опорожнить её. При этом пытался грозно рычать, дескать, не подходите к моей еде – загрызу. В результате получалось что-то рычаще-чавкающее и вовсе не грозное.
Сторожем был отменным, если хозяин рядом. В его присутствии заливался лаем на чужаков, зло ярился. Однако без хозяина ничего не стоило покинуть объект. Страшно любил ходить с Валерой в Таёжку. После того как Валера покидал двор, Жулька выжидал какое-то время, а потом партизаном выбирался за ограду и, скрываясь в зарослях по обочинам, пробирался следом. Надолго соблюдать конспирацию терпения не хватало, выскакивал на дорогу и… попадался. Валера отчитывал неслуха, отправлял домой. Жулька, понурив голову, слушал нелицеприятные слова в свой адрес, затем поворачивался и старательно делал вид, что он самый послушный пёс на свете, да чуток оступился, но осознал свою ошибку, кается и бежит охранять объект. Однако через пару десятков метров нырял в заросли обочины и снова брал курс в направлении Таёжки.
Был казус, в одном из самочинных путешествий в притвор церкви юркнул. Пришлось батюшке освящать его.
Любил Жулька Валеру со страшной силой. После долгой разлуки так выражал радость при встрече, что обязательно писался.
«Как-то сидим летом на крыльце с соседом, Герой-чеченцем, – рассказывал Валера, – на дворе куры, гуси, быки – все вместе. Козочек уже взял. Гера удивился идиллии, никогда, говорит, такого не видел. Объяснил ему, что молюсь о скотине каждый день. В Вербное воскресенье освящённой вербочкой быков, коз, гусей похлестал. Дом освящён. Божья благодать своё дело делает. Скотину на пастбище не раньше, а только на Георгия Победоносца выпустил. Всё как положено».
С освящением дома как получилось. Месяца два Валера пожил на Выселках, батюшка Антоний в гости приехал, Аркадий привёз его. Батюшка устал, шутка ли – восемь часов в машине, а возраст за восемьдесят. Сел чайку с дороги попить, потрапезничать. Вдруг искоса на Валеру глянул. Валера подумал, не тем угощает дорогого гостя. День не постный.
– У тебя дом-то освящён? – спросил батюшка.
– Нет.
– Сейчас освящать будем. Чаи потом. Год выращивал Валера быков, сдал живым весом и просмеялся-прослезился. Человек скрупулёзный, каждую копеечку затрат записывал, поэтому прибыль точно высчитал. Получилось по семьсот рублей в месяц. Не с одного быка, со всех пяти. Сумасшедший доход.
«Как на эти деньги прожить сельскому человеку? – задаёт Валера риторический вопрос. – Откуда энтузиазм возьмётся на животноводство у местных? Корма покупать невыгодно, в этой местности их давно перестали сеять-выращивать, привозят за полтысячи километров, цена соответствующая, сено тоже в копеечку влетает. Для сравнения скажу, на второй год повезло на пилораму устроиться. Загрузил КамАЗ пиломатериалом, тебе семьсот рублей наличкой хозяин вручает, на быках эту сумму за месяц заработаешь, а через восемь месяцев только получишь. Гусей взять. Поехал в район на базар продавать битую птицу – никому не нужна. Никому. Хорошо вовремя сообразил, знакомым, одному да другому, позвонил в город, Рождество на носу, сарафанное радио рекламу сделало, заказов надавали, только так реализовал».
Картошкой Валера засадил огород в первую весну от забора до забора. У прежнего хозяина возделываемая земля давно сузилась до заплаточки, Валера всю плугом разодрал, как без картошки в деревне – себе, скотине и на продажу. Подошёл из принципа «растить, так растить», семена не первые попавшиеся сажал, у бывшего агронома бывшего колхоза, что да как расспросил и по его совету поехал за двадцать километров к известному на всю округу фермеру, который выращивал картофель, и закупил семена сорта «розария». Под завязку нагрузил свои старенькие «жигули», едва не угробил, по ходу движения заднее колесо вместе с полуосью выехало. Хорошо, вовремя заметил, что колесо на полметра вышло за габариты машины.
Осень показала – не прогадал с семенами. Каждой лунке при посадке поклонился, в каждую опилки, в специальном растворе смоченные, положил – расти, картошечка. Без малого тридцать соток под картошку отвёл. Вовремя прополол, вовремя окучил. Вовремя дожди упали. Больше ста мешков в первый год взял. Ух, радовался, когда копал. Потом, как с быками, хочешь – слёзы утирай, хочешь – улыбайся в тридцать два, или сколько там осталось зубов. Цена – пять рублей за килограмм.
«Один год вообще по три, – вздыхает, вспоминая агрономические опыты Валера, – было и того хуже – вообще не брали. Спустил в погреб, весной достал, чтобы за копейки продать. Сколько здоровья на ту картошку, тягая мешки, положил. Самая большая цена была двенадцать рублей. И то “кому война, кому мать родна”. В тот год засуха в европейской части России была, всё погорело, с Курской области приезжали купцы за картошкой».
На четвёртый год Валера ограничил возделываемую площадь огорода до семи соток. Опыт с быками уже на второй год повторять не стал, как и с гусями. Коз держал для себя, доил. Сыр козий делал.
«Очень вкусный получался, – вспоминает Валера. – Кофейного цвета. Отличный сыр. Коза не корова, легче прокормить. Коров у местных почти не осталось. Козы хорошо доились, была бы возможность сдавать молоко, запросто можно держать в коммерческих целях, да никто молоко не принимает. По детству помню у бабушки в деревне каждый вечер ездила подвода с флягами, хозяйка выходит из дома, выливает… Ничего этого нет. Никому не надо. А вы говорите, ещё не последние времена».
Большую надежду Валера возлагал на пчёл.
С идеей пасеки бился до последнего.
Изначально, собираясь на деревенские хлеба, думал о пчёлах. Не телята, гуси, а благородные пчёлы, которые по капельке нектар собирают. Ты по капельке стяжаешь благодать Божью, по капельке преобразовываешь себя, пчёлы по капельке обращают нектар в мёд. Пасека, представлял Валера, это почти затвор. Пчёлки трудятся, одни на луга взятку брать полетели, другие, отягчённые нектаром, к уликам торопятся. А ты в этой гармонии, руками что-то делая, творишь непрестанную молитву. Сама обстановка пасеки к ней располагает. Высокая организация пчёл, уединённость, безмолвие…
Вариант с пчёлами сразу подвернулся на Выселках. Хозяин, у которого Аркадий купил дом, был пчеловодом. Профессиональным. Всю жизнь кормился пчёлами. Предложил Аркадию купить свою пасеку из ста ульев. Аркадий жить на Выселках собирался в дачном формате, о пасеке не могло быть речи, отправил пчеловода Валере. За семьсот тысяч он продавал всё: от ульев с семьями до машины ГАЗ-66 с будкой. От дымокуров до фляг алюминиевых под мёд.
– Бери, – настойчиво предлагал, – деньги не такие уж большие. Но мне нужны сразу – сыну надо помочь с машиной.
Валера обратился к благочинному отцу Евгению, настоятелю храма в районном селе. Он окормлял приход в Таёжке, когда там не было своего батюшки. Надо сказать, зачастую – не было. Не задерживались священники в Таёжке. Валера предложил батюшке Евгению взять пасеку на двоих. Занять денег, а потом с мёда рассчитаться. Батюшка заинтересовался.

