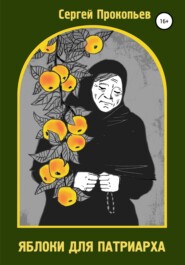 Полная версия
Полная версияЯблоки для патриарха
Не совсем оказался прав глава, весной метрах в пяти от могилы матушки обнаружил Валера заброшенную могилу. Навёл сведения и узнал, что принадлежит она самоубийце. Получается, закон о захоронении самоубийц за оградой кладбища соблюдался в Таёжке даже в советское время.
Желая удостовериться в правоте слов главы, Валера разгрёб снег и обнаружил старый муравейник. Он был причиной холмика. Могилу Валера копал сам. Договорился с копщиками, да у одного прострелило поясницу, второй куда-то пропал. Пришлось самому подключаться.
«Господь сподобил могилу матушке копать, – говорит Валера. – Я-то думал, будет тяжело промёрзшую землю долбить. Нет. Муравейник сыграл свою роль, земля под ним оказалась мягкой. Матушка беспокоилась перед смертью: “Как вы в морозы будете могилу копать, хоронить меня, многогрешную?” Зря тревожилась».
День похорон выдался тёплым, мягким. Владыка приехал. Отпевали матушку по монашескому чину.
Глава двадцать вторая
Непослушание
Матушка Параскева умерла, владыка через несколько месяцев прислал в обитель инокиню Людмилу. Кроме перечисленных выше послушаний, владыка возложил на Валеру ещё одно: следить за исполнением монастырского устава. Ежедневно в монастыре по благословению владыки совершался Богородичный крестный ход с иконой Казанской Божьей Матери. Ходили двумя маршрутами в зависимости от погоды. Если благоприятствовала – из храма направлялись к Поклонному (Андрюшиному) кресту, обходили его, затем двигались к храму Покрова Пресвятой Богородицы, шли вокруг него и возвращались в обитель. По дороге непрестанно пели «Богородица Дево, радуйся».
В храме обители до крестного хода и после читались Богородичные молитвы перед иконой Казанской Божьей Матери.
В случае непогоды (дождь, сильный мороз) или в силу других причин (кому-то нездоровилось) маршрут сокращали, и тогда он по времени занимал всего пять минут. Обходили Поклонный крест и возвращались в обитель.
Но каждый вечер в пять часов шли крестным ходом. Иной раз крестоходцев набиралось всего двое (Валера да инокиня), в выходные и праздники, особенно летом, могло быть десять и более. В основном приезжие. И тогда шли с хоругвями.
В тот раз день был субботний, инокиня отказалась идти. Сослалась, что баню топит, стирается, времени нет, мол, без меня. Валере как человеку ответственному это не понравилось. Да и что такое полчаса, стирка потерпит с баней вместе. Инокине, как никому другому, следует молиться о становлении обители. Пытался Валера сказать об этом, однако инокиня упорствовала, один раз ничего не решит.
Проходит неделя, инокиня снова в субботу перед крестным ходом занялась баней и стиркой. Прямо как в рассказе Василия Шукшина «Алёша Бесконвойный», в котором герой неукоснительно устраивал себе в субботу банный день. Хоть камни с неба падай, он занимался только баней. Никакой другой работой – будь хоть колхозная, хоть домашняя – загружать было бесполезно.
Читала инокиня Людмила замечательный рассказ Василия Шукшина или нет – неизвестно, однако один к одному списала линию субботнего поведения с Алёши Бесконвойного. В субботу её не трогать – баня. Единственное отличие: герой Шукшина стиркой не занимался, топил баню и парился.
Валера подумывал, не посоветоваться ли с владыкой. Ладно бы один-два раза проявлено непослушание, женщина есть женщина, взбредёт что-то в голову, лучше переждать. Но и три раза подряд суббота банная у инокини. Валера нёс ещё и такое послушание от владыки: следить за исполнением монастырского устава – время от времени должен был звонить митрополиту, докладывать, как обстоят дела в обители. Владыка высказывал недовольство, если что-то от него утаивали, вовремя не сообщали. «Сорняки запустите, – говорил, – разрастутся, потом будет трудно выпалывать, а то и вообще невозможно». Валера колебался: говорить владыке о непослушании или подождать. В конце концов понадеялся, сама инокиня вразумится и преодолеет искушение. За что получил потом нагоняй от владыки.
После третьего «субботнего» отказа инокини от крестного хода баня сгорела. Ночью вспыхнула… В монастырь накануне приехали две послушницы, перепугались бедняги. Боялись, как бы огонь не перекинулся на обитель. Слава Богу, ветер был в другую сторону.
Тушить пожар было некому и нечем – баня преспокойненько сгорела дотла.
Самое интересное, случился пожар ни раньше, ни позже – с двадцать первого декабря на двадцать второе. Двадцать второго – Зачатие святой праведной Анной Пресвятой Богородицы. В православном календаре праздник начинается с вечера, с всенощной. Получается – Богородичный крестный ход, Богородичный праздник и пренебрежение к Божьей Матери.
«Конечно, тяжело было инокине без священника, – сочувствовал Валера. – Пусть звонила время от времени батюшке Евгению, открывала помыслы по телефону. Да всё равно этого недостаточно. Нам, мирским, без священника, без причастия крайне сложно, тем более монаху, который у бесов на постоянном прицеле».
Баня сгорела, инокине Людмиле некуда было деться, начала снова по субботам ходить крестным ходом.
Глава двадцать третья
Отъезд
Уезжал Валера с Выселок в конце шестого лета, прожитого на таёжной земле. Возник ряд обстоятельств, которые звали в город. Решение принял перед Троицей, спросил батюшку, тот благословил на отъезд.
«Без благословения не уехал бы, – объяснял Валера, – батюшка сказал, пора, цель выполнена – место обустроено. Не благословил круглый год жить одному, разрешил наездами, так, как делали другие его духовные чада, имеющие дома в Выселках».
И ещё добавил, что сам хотел позвать Валеру, нужен ему рядом.
«Немного мне осталось, – признался Валере батюшка, – пора давать предсмертные распоряжения. Передам тебе мой архив, записи».
Не так-то просто было покидать Таёжку. Прикипел к ней. Накануне раздал кур. Козу Лизку отвёл Гере-чеченцу. Ему же отдал Жульку. Кстати, увиделись они только на следующее лето, Жулька при этом страшно обрадовался, описался от радости, а когда Валера позвал в свой двор, мгновенно разыскал все свои косточки-заначки. Карта тайников целый год неповреждённо хранилась в собачьей голове.
Уезжая из Таёжки, Валера ничего, кроме одежды, не взял. Иконы, книги – всё оставалось на своих местах. В любой момент приезжай – ты дома. Так и получится в дальнейшем – один-два раза в год наведывался. Хотя бы на неделю-другую, а то и по месяцу жил. В мыслях часто возвращался в Таёжку, где ближе всего находился к Богу. Здесь начал петь на клиросе, освоил церковную службу. И, за редким исключением, каждый день проживал вместе с Церковью. Пел тропари праздников этого дня, тропари чествуемых святых, что давало вдохновляющее чувство духовной связи с отцами Церкви. В Таёжке придёт понимание, что значит пропускать на клиросе каждое слово службы через себя, впитывать его. Этого будет не хватать в городской жизни.
Батюшки приезжали в Таёжку в эти пять с небольшим лет редко, чаще служить приходилось мирским чином – обедницы, всенощные бдения, праздничные службы, основные великопостные (те же «Двенадцать Евангелий» в Великий Четверг). Владыка даже благословил его на Пасху освящать пасхи и куличи. Душа была постоянно в тонусе церковной жизни. Сам составлял каждую службу, готовил и читал слово на праздник.
Вспоминая Таёжку, с грустью признавался: «Первые христиане каждый день служили Божественную литургию, каждый день причащались. В этом был смысл жизни. Наверное, в Таёжке не почувствовал сотой доли их духовного состояния, но, как никогда, приблизился к нему. Этого сейчас не достаёт. Скучает душа. До сожаления: не так живу, не тем».
Двор опустел без курей, козы, затих в предчувствии скорого сиротства. Пусто было в огороде, картошка выкопана, засыпана в подполье, Валера надеялся приехать через месяц с Аркадием, часть урожая вывезти. Аркадий одно время тоже засобирался в Таёжку на постоянное жительство, да так и не решился. Два первых лета жил по три месяца. Как и Валера, весь огород засадил картошкой. Вместе поднимали целину (прежние хозяева давно забросили большую часть огорода), вместе доводили землю до кондиции, можно сказать, всю пропустили через свои руки.
Пололи картошку с привлечением бороны. Борона конная, да коня взять было неоткуда, впрягались сами. Схема обработки несложная – сначала проходишь по периметру участка, дальше двигаешься по спирали к центру. С бороной значительно продуктивнее, чем от зари до зари махать тяпкой. Окучивание механизации не поддавалось. Городские жители, Валера и Аркадий, технологию посадки в первый год выбрали не самую удачную для таких площадей. Посадили редко, каждый куст приходилось окучивать по кругу. Было бы сотки две, тогда плёвое дело… Здесь – тридцать. Валера отработал методику окучивания с Иисусовой молитвой. Она прочитывалась на четыре удара тяпки. Как раз огрести куст со всех сторон. На второй год посоветовали при посадке делать лунки чаще и не плясать, окучивая, вокруг каждого куста, а нагребать землю на картофельный ряд – производительность резко повышалась. Не зря в Сибири глагол «окучивать» имеет синоним – «огребать».
Многому научился Валера в Выселках. Читал специальную литературу, обобщал опыт местных жителей. За что снискал у них уважение, случалось, обращались за советом. Те, с кем сдружился в Таёжке, искренне сожалели, узнав об отъезде.
– Возвращайся обязательно, – напутствовал Миша Лаврентьев. – Лучше Таёжки всё равно ничего не найдёшь.
– Вернусь. Ни одной книги не беру с собой, ни одной святыни.
– Красиво говорить не умею, – добавил Миша, – только знай: Таёжке ты тоже нужен.
В последний свой вечер Валера долго стоял на юру. Прощался. Любил он это место, любил стоять под куполом неба, и сердце не могло не запеть: «Благослови душе моя Господа». Сколько прекрасных минут пережито здесь. Однажды возвращался с озера, сети проверял, поднялся на косогор и замер. В одной части неба бушевала гроза. Штормовая, неистовая, под которую лучше не попадать. Стеной падал ливень, тучу – толстую, тяжёлую, с провисшим над тайгой брюхом – рвали неистовые молнии. Изломанные стрелы прошивали кипящий серо-чёрный свинец, полосовали вдоль и поперёк стремительным огнём. Всё грохотало, рвалось и трещало. Но, как в кино с выключенным звуком, грома не было слышно. И экран поделен на части, в одной бушевала, клокотала, изливалась потоками воды буря, в другой, стоило лишь повернуть голову, небо являло тишину и покой с ликующим солнцем на умиротворяющей лазури.
Палитра красок и состояний – иссиня-чёрная грозовая туча и золото солнца, грозное сверкание молний и безмятежная синь неба, серая стена дождя и зелёное поле тайги. Многообразие Божьего мира – огромного, непостижимого – сладко отзывалось в сердце.
А какие радуги вставали над Выселками! Много о чём передумал Валера за пять лет, прожитых в Таёжке, многое прошло через его сердце. Однажды навалилась среди бессонной ночи печаль. Такая, что молитвы не помогали, казалось – тупик, который не преодолеть без батюшки Антония, надо бросать всё, ехать к нему за помощью. Но вышел утром на бугор, и чудо – из реки, из озера растут в умытом дождём воздушном храме радуги. Празднично многоцветная дуга с поверхности воды, плавно изгибаясь, поднимается в небо, а достигнув высшей точки, сходит к земле. Одна, вторая, третья, четвёртая повисли на фоне неба и тайги.
Печаль умалилась, отошла. Посветлело на душе. Утешил Господь.
Или подвижный туман, что повисал под вечер над рекой, бугром. Если оказаться внутри его, молоком окутает – собственного носа не видишь. Лучше, конечно, остановиться, подождать, пока рассеется, Валера однажды в яму угодил, потеряв направление. Столбом стоять тоже не дело. «Бредёшь в молоке на свой страх и риск, – с удовольствием вспоминал Валера, – и вдруг, будто вынырнешь, солнце ударит в глаза, откроется чистое небо, высокая стена тумана останется позади, здесь он всего-то на уровне груди. Плывёшь, разгребая руками подвижное воздушное молоко… Но снова наплывают плотные белесые клубы, окутывают со всех сторон, с головой погружают в свою глубину. Нет солнца, нет неба, ты в коконе».
А какая картина открывалась зимой. Бывало, сна после вечерней молитвы ни в одном глазу, Валера набрасывал полушубок, надевал валенки, выходил за ворота. В полнолуние наступали недолгие минуты, когда мягкий свет падал под таким углом, что всё превращалось в сказку. Покрытые снегом холмы, распадки, луга, деревья в игре светотеней волшебно преображались. Казалось, ничего подобного быть не может. Что-то нереальное, фантастичное. Тебя словно посвящают в великую тайну – мир глубже, богаче, он таит в себе такие красоты, о коих и не подозреваешь. Это длилось несколько коротких минут. Стоило ночному светилу подняться выше, сказка уходила… Словно невидимые лучи, изнутри волшебно подсвечивающие картину, гасли… Она по-прежнему удивляла красотой, но не более того.
Батюшка Антоний в каждый приезд восхищался: «В каком месте ты живёшь!» Летом любил постоять, посидеть на юру. «Душа размягчается», – говорил. Однажды, вот так же вышли на бугор, батюшка начал рассказывать о детстве, войне.
Церковь в их деревне закрыли в начале двадцатых годов. Батюшку успели окрестить в ней, а младших сестёр и братьев родители возили за двадцать пять километров. Отец с матерью были глубоко верующими. С закрытием храма на церковные праздники сельчане стали собираться в их доме. Читали Священное Писание, Псалтирь, Четьи минеи. За что хозяева дома попали в разряд неблагонадёжных в отношении к новой власти. Вроде не к чему было придраться, контрреволюционную деятельность не вели, призывы к свержению советской власти не звучали в доме. Не было видимых причин для суровых претензий. А очень хотелось пройтись калёным железом по инакомыслящим, подравнять их под общую массу, чтобы не высовывались со своим Богом. Руки недовольных развязала открытая в тридцатом году «борьба с классовым врагом» – кулаком. Родителей батюшки скоренько внесли в список подлежащих раскулачиванию. Самым ценным в многодетной семье была корова. Её-то и определили экспроприировать у «мироедов». Явились комбедовцы привести в исполнение приговор бурёнке, застучали громко в ворота: открывайте! Однако хозяйка рогатой кормилицы не согласилась с постановкой вопроса, скоренько ввела её в дом, поставила под образа. А сама схватила массивную кованую кочергу, в добрый метр длиной, в палец толщиной, которой разгребала угли в русской печке, и предупредила нехорошим голосом, что проломит голову, кто сделает хоть один шаг от порога.
Не на жизнь, а на смерть встала на защиту скотинки. И отстояла. Ушли комбедовцы, не солоно нахлебавшись, ворча: дурная баба, религией порченная, себе дороже с такой связываться. Закрыли план «экспроприации у экспроприаторов» без этой коровы.
Великую Отечественную войну батюшка прошёл с молитвой «Живый в помощи Вышняго». Всегда носил при себе листок с нею, запаянный в гильзу. При обстрелах, бомбёжках обязательно повторял псалом. Четыре года на передовой, и всего два лёгких ранения.
«О Боге помнил постоянно, – говорил он Валере. – И понял, заповедь не “убий” на войне тоже нельзя забывать».
Во время наступления в Белоруссии летом 1944 года командир отправил его в штаб. Сухой солнечный день, пахнущий лесом, нагретой листвой. На обратном пути вышел на опушку березняка и замер. Перед ним лежала поляна, поросшая высокой травой, а на поляне, метрах в пятидесяти от него, немец-солдат, широко расставив ноги, косил. Лет сорока, худощавый, высокий, без головного убора. Поразил не столько немец, сколько сосредоточенная, крестьянская работа. Взмах, коса пошла по траве, срезая стебли, взмах – ещё рядок упал под острым лезвием. Удивительно было то, что за полосой леса, по дороге спешно отступали немцы. На узловой станции, километрах в пяти, шёл бой. Там рвались снаряды, стучали пулемёты. А этот немец, словно ничего этого не слышал, делал размеренные движения литовкой. Поодаль стояла лошадь, запряжённая в телегу, для неё и косил. Почему-то именно сейчас, практически уже в тылу врага, решил заняться этим, вместо того, чтобы спешно бежать со своими? Словно бы немец перестал вмещать в себя войну и начал заниматься тем, ради чего и пришёл в мир – обихаживать землю, кормить себя, кормить скотину. Бой на станции, выстрелы пушек, отход своих – это отодвинулось куда-то далеко-далеко.
«Косил он хорошо, – рассказывал батюшка, – умело».
Автомат немца лежал в телеге. Батюшка подбежал к ней, подхватил автомат и крикнул, немец с готовностью поднял руки. Батюшка приказал взять лошадь под уздцы и повёл пленного в свою часть.
Застрелил немца-косаря командир их отделения Гавриков. Выхватил пистолет и выстрелил в грудь.
– Зачем безоружного? Зачем? – возмутился батюшка. – Он сразу сдался.
– Какая разница, фашист он и есть фашист. Посмотрел бы я, как он нас пожалел, доведись оказаться на его месте! Нечего с ними валандаться. Всё!
«Под вечер бросили роту на станцию, – рассказывал батюшка. – При переходе нас обстреляла немецкая дальнобойная артиллерия. Никого не задело, Гаврикову правую руку оторвало, осколок выше локтя резанул. Кость торчит. Крепкий был мужик… Я ему руку у плеча перетягиваю, кровь остановить, а у него слеза на глазах: “Как я без руки, я ведь слесарь, в депо работал?” Что ему скажешь? Говорил что-то успокаивающие. Получается, и на войне грехи, вопиющие к Богу об отмщении, остаются грехами, и возмездие может наступить тут же».
Однажды Валера с батюшкой трапезничали в доме, под окнами прошёл сосед Алёшка с матерками. На что батюшка произнёс: «На войне заметил одну особенность. Много погибало, у кого не сходили с языка сквернословия. В первую очередь выцеливали их вражеские пули. Появится такой отъявленный матерщинник в части, глядь – в одном из боёв или ранен, или убит…».
Глава двадцать четвёртая
Где вы, братья и сёстры во Христе?
Каждое лето Валера ездит в Таёжку, там всегда желанный гость. Обязательно зазывает к себе Миша Лаврентьев. Зная, что Валера мясо не ест, ловит рыбу, и жена делает для дорогого гостя отменный рыбник. Максим Легков время от времени звонит, а если бывает по делам в губернском городе, старается зайти к Валере, хотя бы на час-другой. По приезде последнего в Таёжку вместе служат в церкви мирским чином. Со священниками Таёжке так и не везёт. Забегает Валера и к Жоре Майсурашвили. У того уже трое детей. К великой гордости Жоры – двое сыновей.
Ну а что творится с Жулькой, когда после долгой разлуки видит Валеру, – не передать словами. Всякий раз писается от великой радости, а затем скачками летит в свой двор. И первым делом проверяет схроны с костями, кои заложил в последний приезд хозяина.
И хотя нет огорода и живности (кроме Жульки), дела Валере всегда найдутся. Однажды приехал, а изгородь в огороде как после бомбёжки. Что за напасть? Оказалась о четырёх косолапых лапах. Медведь пугнул лошадей, те, спасаясь от хозяина тайги, ломанулись через Валерин огород, круша всё на своём пути.
Кроме домашних забот, всегда есть работа для мужских рук в церкви, обители.
Последний раз мы виделись с Валерой на Рождество Пресвятой Богородицы в кафедральном соборе. Валера до службы и после собирал подписи под обращением о запрещении абортов, это делали православные по стране с благословения патриарха Кирилла.
После службы я подождал, пока Валера закончит сбор подписей, мы вместе пошли от церкви. По дороге Валера поведал о последней поездке в Таёжку. Он два дня как вернулся оттуда.
– Удалось пошишковать, – с восторгом рассказывал. – С Мишей Лаврентьевым выскочили на четыре дня и по три мешка чистых орехов набрали. Километрах в пятнадцати от Таёжки есть тупик, дальше никаких дорог, сплошной урман на сотни вёрст. Там у Лаврентьева охотничья избушка, а рядом отличный кедрач. Красавцы один к одному, высотой метров по тридцать. Шишка нынче как никогда. Подножие каждого кедра усыпано паданкой. Накануне прошёл хороший ветер, нападало – только собирай.
«Паданка» – упавшая шишка – прозвучала для меня музыкой, вспомнилось детство, чулымская тайга.
– Поработать, конечно, пришлось, – продолжал Валера. – Днём собирали шишку, таскали к избушке, вечером мололи, затем на ситах сеяли, отделяя орех от шелухи. Погода стояла на загляденье.
Ещё Валера рассказал, что у Геры-чеченца родился сын, Максим Легков ведёт воскресную школу. В прошлом году в Таёжку прислали нового директора в общеобразовательную школу. Женщину. Церкви не чурается, разрешила Максиму вести занятия прямо в классе. К зиме владыка обещает прислать в Таёжку батюшку.
– Я сам ходил к митрополиту, – доложил Валера, – сказал, что пошлёт иеромонаха, чтобы и на приходе служил, и обитель окормлял. Сейчас в ней монахиня, матушка Надежда, две инокини и послушница.
Жулька, как водится, описался при встрече, и весь месяц не отходил от хозяина. Даже напросился за шишкой.
– Спас меня, – с удовольствием вспоминает Валера. – Вечером Миша взялся молоть шишку, я решил, пока то да сё, сбегать пособирать паданку. Вроде совсем недалеко углубился. Набил мешок, понёс и уклонился от нашего табора. Жулька сердито лает на меня, под ногами путается. Я не могу понять, чем он возмущён. Оказалось – моей бестолковостью. Мне бы послушаться пса, я танком пру. Потом вижу, пора на табор выйти, им и не пахнет. Небо тучками заволокло, солнца не видать. Был на сто процентов уверен – направление правильное, на самом деле в урман несло. Начал кричать Мишу – тишина. Жулька сердито лает – не мудри, послушайся меня. Ладно, – говорю, – веди. Ух, он обрадовался, побежал впереди. Минут через пятнадцать показалась избушка между деревьями. «Упорол бы к Гнилому болоту, – смеялся Миша. – Нехорошее место. Можно так врюхаться».
Жулька в тот вечер получил от хозяина дополнительную порцию тушёнки.
– Не хотел уезжать из Таёжки. – признался Валера. – Хорошо молилось, хорошо думалось. С другой стороны, здесь столько дел. Батюшка Антоний не один раз повторял: замалчивающий истину – предаёт Бога. Перед смертью наставлял вести просветительскую работу, хранить чистоту веры.
День, как и весь сентябрь, выдался золотоосенним – сухой, тёплый. В небе висело облако, похожее на отколовшийся от белой виниловой пластинки кусок – плоское, тонкое, испещрённое «звуковыми дорожками». Солнце припекало по-летнему. Навстречу нам прошла весёлая группа студенческого возраста, парни в футболках, девушки – в лёгких кофточках с коротким рукавом. Как это нередко бывает в межсезонье, на той же улице, под тем же солнышком встречались горожане сибирского кроя (сибиряк не тот, кто боится замёрзнуть, а тот, кто тепло одевается) – в основательных куртках, плащах. На тротуаре справа и слева вдоль бордюров лежали золотистые ленты палой листвы. Метла дворника или взяла отгул, или где-то задержалась, но это был тот единственный случай, когда хотелось, чтобы сор не убирали подольше.
С непогодой палая листва поблекнет, а пока выглядела праздничным украшением.
– Неужели?! – выбросил Валера руку, показывая в створ улицы. – Когда?
За крышами двухэтажных домов горели новым золотом три луковки церкви.
– Ты что не знал? Два дня назад кресты поставили, – объяснил Валере. – К престольному празднику торопились.
– С Таёжкой пропустил всё на свете! Когда уезжал, каменщики на стенах собора кладку вели. Казалось, работы не на один месяц.
Мы перекрестились на кресты восстановленного храма Рождества Пресвятой Богородицы.
– У меня бабушку по отцу в этой церкви крестили, – сказал Валера. – Говорят, иконостас был красоты редкой.
На перекрёстке мы распрощались.
– В епархию надо заскочить, – сказал Валера, пожимая мне руку, – туго идёт сбор подписей под обращением о запрете абортов. Не все батюшки относятся с пониманием. Патриарх благословил, да сам он далеко, а надо на приходах вести разъяснительную работу. Много значит, если батюшка в проповеди скажет о сути проблемы. Страна, которая убивает в день тринадцать тысяч младенцев, едва не пять миллионов в год, обречена. Бог скажет, значит, русским земля не нужна, страна своя не нужна, если каждая русская женщина делает по пять-шесть абортов за свою жизнь. Надо собрать миллион подписей по России за запрет абортов, пока четыреста тысяч всего. Так и хочется крикнуть: ау, братья и сёстры во Христе, где вы есть?
Мы распрощались, я пошёл своей дорогой и тоже захотел крикнуть: ау, православные братья и сёстры, куда вы попрятались? Михаил Ломоносов видел могущество и богатство государства Российского в увеличении русского народа, а мы…
***В оформлении обложки использован рисунок художника Владимира Чупилко

