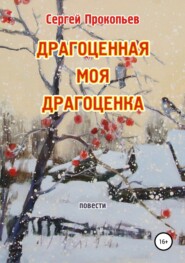 Полная версия
Полная версияДрагоценная моя Драгоценка
Запомнился эпизод: едет по улице бричка, правит, надо понимать, коммунист-китаец, а за ней на привязи, как собачонка, китаец-богач бежит-запинается. Местный буржуй. Была за Драгоценкой Скотская падь. Овца падёт или корова – туда увозили. Не закапывали. Срабатывала естественная экологическая система. Волки быстро очищали местность от падали. Китайца-купца, протащив по Драгоценке, доставили в Скотскую падь. Народ китайский и русский созвали на показательное уничтожение угнетателя. Отвязали мироеда от телеги и на колени. У китайцев это национальная традиция – на коленях казнить. Так головы когда-то отрубали. Здесь к расстрелу приговорили без суда и следствия. Какой суд, когда богатей? Поставили на колени и в затылок из винтовки.
Я тоже увязался за всеми в Скотскую падь, отец рявкнул: «Домой!» И правильно сделал. Подобных расстрелов было несколько. В сумме не один десяток драгоценских китайцев-кулаков в Скотской пади подверглись классовой экзекуции. Как-то встретил данные: в Драгоценке жило около девятисот китайцев, а русских более полутора тысяч. Если в Верх-Кулях, втором по величине посёлке Трёхречья, русских было как в Драгоценке, то китайцев всего-то человек тридцать. В других деревнях и того меньше. Но почти в каждой большой деревне нашлись китайцы, сошедшие за кулаков.
После них взялись за русских. Советское консульство в Маньчжурии дало согласие на коллективизацию, чтоб, значит, китайцы не обиделись. Ломать – не строить. Дураков и подлецов под любой лозунг искать не надо, сами найдутся. Нищих в Драгоценке не было, небогатые – да. Кто-то из них соблазнился на чужое. По Трёхречью прошла директива – самых зажиточных раскулачить и организовать колхозы. Принародно расстреливать, слава Богу, с показательные пробегами по селу не стали, но дело пошло по схеме: у богатых отобрать – бедным раздать. Стали создаваться комитеты бедноты, их ещё называли «раскулачники», они составляли списки «кулаков» и проводили акции раскулачивания.
Под этот маховик попала моя единственная тётушка по отцу, Царствие ей Небесное, покоится в Казахстане – Соломонида Фёдоровна. Мы жили в соседях, через заплот. Муж её Налётов Иван Михайлович из ясашных – с примесью тунгусской крови. Это обстоятельство, а также то, что он вдовцом сватался к девушке Соломониде, её мать, мою бабушку, заставило сказать: нет. Единственную дочку и вдруг за мужика с ребёнком, вон сколько молодых казаков на неё заглядываются.
«И отец, будь живой, не благословил бы», – непреклонно держалась своей позиции бабушка. Не дала разрешительную бумагу, а нужна была именно бумага, без которой не обвенчаешься. Однако старшие братья встали на сторону сестры, провели работу с матушкой, скрепя сердце та согласилась. И вскоре поняла: не ошиблась. Много знала Драгоценка прекрасных хозяев, Налётов был исключительным. Отстроил дом, который и сегодня можно назвать коттеджем… Не помню другого во всей Драгоценке крытого не тесовой кровлей, а оцинкованным железом. Иван Михайлович пользовался авторитетом у казаков. При постройке миром Сретенского храма, его избрали председателем строительного комитета… Есть у меня ксерокопия статьи из харбинского журнала с фотографией этого комитета, Иван Михайлович рядом со священником сидит. И заметно, что левый глаз повреждён. Он был из тех мужиков, которые всё умеют: столяр, шорник, сапожник… Однажды сапоги шил и повредил шилом роговицу… В его табуне ходило более сорока лошадей, крупнорогатого скота держал сотни полторы голов. Своя сноповязалка, веялка, сеялка, молотилка, сепаратор, плуги… И столяр был известный на всю округу, сколько рам и дверей изготовил для новых домов, семьи были большие, дети подрастали, женились, отделялись от родителей…
Реквизировали у Налётовых всё. Оставили коровёнку и лошадь, дескать, какая китайская власть добрая – не пустила по миру. Из дома выгнали. Тут уж как хотите, пожировали и будет. Тётушка с мужем пошли жить к родному брату Ивана Михайловича – Гавриилу.
Самое забавное, их раскулачили, а муж их старшей дочери Тони – Георгий Андреевич Губин, а попросту Гошка – в колхоз записался. Вот уж парадоксы судьбы. Это был тот самый Гошка, который в тридцать втором году парнишкой под пулями бежал от голода из советской колхозной деревни. Родители у него умерли в конце двадцатых, один остался. Бродяжничал. Сестра Наталья, на семь лет старше, в то время в Маньчжурии была. Мой отец году в семидесятом признался, это держалось в строжайшей тайне: Наталья, сбежав в Китай, попала в Хайлар. За душой ни гроша, и одно время в самом начале тридцатых на жизнь зарабатывала в доме терпимости. А потом перебралась в Драгоценку, вышла замуж за Мирсанова, вдовца, лет на десять её старше. С моими родителями Наталья была в хороших отношениях, покумились даже – она крёстная моему брату Михаилу.
Гошка, отчаявшись выжить в Забайкалье, решил подорвать в Маньчжурию: знал – где-то там сестра. Пошёл зимой через Аргунь. Пограничники засекли перебежчика, открыли огонь из винтовок. Повезло Гошке, метких стрелков не оказалось среди красноармейцев, а может, пожалели подростка, пули свистели рядом, но ни одна не задела. Невредимым пришёл в Драгоценку. Став парнем, женился на моей двоюродной сестре Тоне, тётушки Соломониды дочери. А как началась коллективизация в Китае, одним из первых подался в колхоз.
У Налётовых была небольшая мельница, и зять их – Гошка – при ней за механика. Газогенераторный движок стоял, ремённая передача, жернова, мы, ребятишки, заглядывали посмотреть, как зерно превращается в муку. Рядом с мельницей стояла длинная поленница маленьких чурочек для движка. Душа у Гошки не лежала к работе со скотиной, в поле, а мельницу любил. Был он характера лёгкого, весёлого, говорун. Может, этим и влюбил в себя Тоню, молчаливую и серьёзную – противоположности притягиваются друг к другу. Хорошо играл в бабки, когда сходились взрослые, мало кто составлял ему конкуренцию.
– Ты, Гошка, поди слово какое знаешь? – говорили ему.
– Не я на руки хорошо плюю!
Нас, мальчишек не гонял мельницы, показывал что к чему, а то и скомандует чурочки подносить.
Мельницу тоже реквизировали у Налётовых. И как-то быстро после этого она сломалась, стояла заброшенной.
Колхозники жили, как в советском кино, весело, да с затеями. В мае пятьдесят второго года на переменке выскочил с ребятнёй на крыльцо школы, а мимо на посевную колхозники едут на бричках. С плакатами и раздольной песней «От колхозного вольного края»… Красота…
В Драгоценке семей пятнадцать вошли в колхоз. В других посёлках и того меньше – три, четыре… У нас в надежде на богатое беззаботное будущее записались в коллективное хозяйство, кроме Губиных, Белоусовы, Бояркины, Даурцевы, Писаревы. Кому-то голову задурили агитаторы, кто-то, привыкший по жизни не утруждать себя крестьянским трудом, надеялся дурака валять в колхозе, как в том анекдоте. У колхозника спрашивают: «Какой секс предпочитаешь, коллективный или индивидуальный?» – «Само собой, коллективный!» – «Почему?» – «Сачкануть можно!»
Семья Таскиных записались наполовину. Пётр Таскин, второй зять Налётовых, муж их дочери Натальи, один вступил в колхоз. Жена не захотела и корову свою не отдала. Была казачкой лихой и упрямой, заявила: режьте меня на части хоть всем колхозом – не получите скотинку. Корова была удойная, не могла её Наталья на сторону на произвол судьбы отдать. Петя резать на части жену не стал, без коровы и жены записался в колхоз. Наталья потом долго называла мужа «мой колхозник».
Одни из первых записались в колхоз Писаревы, родители моего одноклассника Пети, Царствие ему Небесное, был на год старше меня, а учились вместе… В год коллективизации, в начале апреля, мы с младшим братом Мишей, дай Бог ему здоровья, под Курганом живёт, чистим в ограде, Петя Писарев верхом въехал в колхозный двор, бывший Налётовых, в нашу сторону направил коня… Дворы у нас были комплексные, один для лошадей, второй, со стайкой, для коров. В ограде в зимнее время стоял скот дойный и рабочие лошади, а молодняк на заимке. У нас была заимка в пади Заалтыш, это километрах в двадцати от Драгоценки…
В ограде с Мишей чистим… Работы для пацанов всегда хватало… Только рабочих лошадей у отца в хозяйстве до двадцати доходило. Двор здоровенный… Усадьбы у всех по гектару и больше. Оно и не надо таких площадей, да на дармовщинку почему не нарезать – налоги не платили. Лишь после сорок пятого ввели китайцы пошлину – и то поначалу незначительную. На усадьбе красная изба с кладовкой, отдельно домик – зимовье. Пол в красной избе деревянный, в зимовье – земляной. Там русская печь была приподнята над полом, а под ней курятник. В зимовье новорождённых телят в морозы держали, ягнят. Стоял большой сепаратор. Коровы не молочного направления, но всё равно молока от сорока-пятидесяти голов набиралось порядочно. При японцах появилось электричество. На паровой мельнице установили движок, столбы поставили, провода протянули, электричество появилось в Драгоценке… У нас и в зимовье лампочка была. На усадьбе также стоял амбар, сенник, баня (по-чёрному), огород тут же.
В зимовье вплотную к русской печке стояла деревянная кровать, называли её голбец. «На голбце отдыхал». У печки, как полодено полати. В детстве я слаб на горло был, часто прихватывала жестокая ангина. Как горло заложит, мама загоняет на полати. Однажды угораздило на Пасху заболеть. До слёз обидно: все в бабки играют, на качелях качаются – специально строили огромные качели, – а я на полатях реву. Мама, Царствие ей Небесное, успокаивает: «Павлик, у тебя вся жизнь впереди, наиграешься ещё».
Навоз, перемешанный с соломой, скапливался в ограде быстро, а как сантиметров в десять слой наберётся, надо вывозить на задворки… И вот грузишь, грузишь его на сани… А всё одно что-то оставалось, перегнивало… Нижние жердины заплота уходили в землю. Приходилось наращивать заплоты. С годами чуть не на метр поднималась ограда.
И получалось идеальное место для неформальных спортивных соревнований. На школьном стадионе проводились районные олимпиады, со всех деревень Трёхречья собиралась молодёжь. Парни, девушки… Играли в волейбол, бегали, прыгали. Мы, пацанва, насмотримся, наболеемся, а как разъедется олимпиада, устраиваем свою – улица на улицу. Мини-стадион разворачивали в ограде для скота, перегной – лучше не надо подушка для прыжков в длину, высоту. Взрыхлишь, и площадка готова. Умудрялись даже с шестом прыгать. Для этого выбиралась жердь лёгкая и прочная… Я легко с таким пружинящим снарядом полтора своего роста брал…
На моей памяти перегной стали использовать в качестве топлива. Вблизи Драгоценки все берёзы в падях вырубили, ездить по дрова приходилось вёрст за двадцать-тридцать. Дополнительным топливом стали применять аргал, так на тунгусский манер назывался кизяк. Перегной по весне, пока смёрзшийся, отец рубил на кирпичи, мы, дети, складывали их в штабель с отверстиями для просушки, за лето он естественным образом высыхал и прекрасно горел…
В тот раз чистим с Михаилом в ограде, сани нагружаем, Петя Писарев появляется на гнедом жеребце Буране, на водопой его гонял, на ключ в Кокушинскую падь, заодно променаж сделал, жеребец лоснился от пота. У Пети был старший брат Георгий по прозвищу Патришонок. Тогда я не задумывался что и почему – Патришонок и Патришонок. Через много лет узнал, что он мой двоюродный брат. Петина мать нагуляла его в девках с моим дядей по маминой линии – Иваном Петровичем Патриным. Астаха Писарев взял её с чужим ребёнком.
У Астахи была кудлатая голова, и улыбался всегда… Лицо круглое и как солнышко. Светлый человек… С кем из взрослых любил здороваться, так с ним. С ограды увижу – идёт, я скорее за ворота и навстречу шагаю, будто куда-то по делам направился… Ты малец, но он поздоровается с тобой, как со взрослым. Ни тени снисходительности. И ты себя чувствуешь настоящим парнем.
С Петькой Писаревым мы даже одно время за одной партой сидели. И вот он на Буране верхом заезжает… Отменный был у Налётовых бегунец. Высокий, белые носочки на передних ногах. Шёл первый колхозный год, ещё не успели разбазарить коллективные хозяева табун Ивана Михайловича. Надо отдать должное, Петя был неплохой наездник, с любовью относился к лошадям. Бегунца к заплоту направил, меня окликнул:
– Ну что, Павлик, как там ваш Рыжка?
– Отлично! – говорю. Но тон Павлика мне не понравился.
У отца в то время подрастал бегунец – рыжий, горячий, грива на две стороны, отец ему пророчил хорошее будущее: «Не один приз, Павлик, возьмём с Рыжкой!» Рыжка и сам рвался в бой. Любил, когда я его в галоп пускал.
Петя спешился, с хитрецой бросил:
– Скоро ваш Рыжка будет в колхозной конюшне!
Сердце моё ёкнуло, но промолчал. А отцу передал Петины слова. Нас по схеме коллективизации должны были раскулачить во второй волне. После первой планировалась масштабная следующая. Отец не стал её дожидаться, не афишируя свои намерения, поехал с Рыжкой в Хайлар и продал…
Поплакал я тайком от родителей, жалко было бегунца до горьких слёз, ведь так мечтал, видел себя, как на скачках первым лечу на Рыжке к финишу на виду у всей Драгоценки…
Матерью Рыжки была Косолапка. У отца как один бегунец выходил из строя, на подходе обязательно другой был. В табуне всегда две-три матки… Родилась Косолапка в Никольские морозы. У землячки Марины Чайкиной в стихах о Трёхречье есть слова:
Край и дик, и суров, а трескучей зимою
Голубей на лету подсекает мороз.
На Николу морозы под пятьдесят градусов – обычное дело. Отец утром пошёл во двор сена скотине дать, смотрит – жеребёнок трясётся от холода. Часа три уже как народился. Отец подхватил его и в зимовье. В угол для новорождённых телят поставил… Кобылка была. Печь натопил… Долго возился с ней. Какими-то отварами поил, чуть не спал рядом, бегал по ночам смотреть, пока не отошла… И выходил… Но простуда взяла своё – ноги искривились. Почему и назвали Косолапкой.
В рабочие лошади она с таким увечьем не годилась, в хомуте и под седлом никогда не ходила – организм работой не изнашивался – поэтому давала крепкое потомство. Самое интересное, а в нашей округе было изрядно волков, Косолапка рожала исключительно дома. Беременная ходила в табуне, но не потеряла ни одного жеребёнка. Чувствуя приближение родов, из табуна шла домой и рожала под защитой хозяина. Чувство благодарности к нему хранила всю жизнь. И ни одного года не пропустила, аккуратно давала приплод… С десяток отменных жеребят принесла.
Колхоз просуществовал в Драгоценке года два. Всё профукали колхознички, пропили, пустили по ветру… В последние колхозные месяцы неприкаянно бродил по Драгоценке однорогий колхозный бык. В насмешку его звали Колхозник: «Гляди-ка, Колхозник по миру пошёл, жрать опять хочет». Отец в подпитии, язык развяжется, подделываясь под китайца, повторял:
– Кому нара – хорошо, кому низа – плохо.
Мама ворчала:
– Доболтаешься, будет тебе «комунара»! Будет и «нара», и «низа» под нарами – посадят в кутузку!
А младшая сестрёнка Галя (кто уж её научил?), маршируя, декламировала, много раз повторяя:
– Сталин, Ленин Мао Цзэдун – вся компания тун-тун!
Громко, с выражением. Тун-тун по-китайски – вместе.
Русские колхозы в Китае быстро разорились, и было принято решение, конечно, при участии советского консульства, а значит, Москвы: прекратить дуроту. Возвращать раскулаченным было нечего – ни скота, ни сельхозтехники, одни строения. Тётушка Соломонида с Иваном Михайловичем вернулись в свой дом. Иван Михайлович его несколько месяцев ремонтировал. А через год Хрущёв подписал в Пекине соглашение, и мы двинулись в Советский Союз.
Никак не могла советская власть примириться – где-то русские живут по другим законам, китайцы подыгрывали – всячески вредили. Дрова заготавливать собрался – бери у китайцев разрешение, а те всячески волокитили, ставили рогатки… Или надо пахать, сеять, а на выезде из посёлка пост. Китаянка и русская выезжающих едва не обыскивают, чтоб не провезли спички. Будто бы в целях пожарной безопасности. Но как обойтись без спичек в поле, на сенокосе? Как варить?..
И всё равно нас технически с подачи советского консульства раскулачили. В пятьдесят четвёртом, уезжая в Советский Союз, хозяйство за бесценок и мы, и все русские сдавали китайцам. Отец, можно сказать, подарил им только крупного рогатого скота сто голов, лошадей – пятнадцать. Строения шли почти задаром. Пекин прислал с юга китайцев обживать Трёхречье. Им достался наш дом. Единственно, что продали по хорошей цене – бегунца Карьку, за семь миллионов юаней. Простая кобылица шла за какие-то сотни юаней. И обменный курс установили в Союзе неравнозначный. Стадо крупного рогатого скота сдали, а в Союзе смогли купить одну коровёнку. Кое-какие вещи, конечно, привезли. Отличную кожаную куртку перед отъездом купили. С меховым отстёгивающимся подкладом, на замке, меховой воротник. Ганя освободился из лагеря, и мама ему подарила. Шикарная по тем временам вещь. Храню фотографию – Ганя ездил в пятьдесят восьмом в Кисловодск и там сфотографировался в этой куртке…
Моё поле
Как казачонок садится на лошадь? Думаете, подводит к крыльцу или какой-нибудь колоде и оттуда попадает на спину коню. Можно и так. А если казачонок в поле – ни крыльца, ни колоды поблизости и подсадить некому? Два варианта решения проблемы, в зависимости под седлом конь или нет. В первом случае проще – хватайся за стремена, а дальше, где зацепишься, где подтянешься… Используя силёнку в руках, ловкость и гибкость, как паучок, взбираешься… Ситуация при отсутствии седла. Тогда обвиваешь левой ногой переднюю ногу лошади, левой рукой хватаешься за гриву, подтягиваешься, правой рукой обхватываешь шею, закидываешь правую ногу и… ты уже настоящий казак… Бьёшь пятками по бокам лошади – вперёд…
В Трёхречье земля плодороднейшая – чернозём. И столько этого богатства, пшеницу на одном месте всего три раза сеяли: залог (целина), перелог и третий хлеб. После чего сеяли овёс, гречиху или оставляли землю отдыхать, появлялись залежи. Климат исключительный, засушливый год – редкость. Рай для крестьянина. Отец засевал десятин десять-двенадцать пшеницей.
Мне довелось пройти все этапы сельхозработ. Начинал в шесть лет с пристяжного. Пахали на быках, дышловая упряжь, две пары впряжены, а на постромках впереди лошадь, в седле казачонок – направляет быков строго по борозде. Впервые за старшего (уже не пристяжного) пахал в пятьдесят третьем. Отец выбрал для залога падь Лабцагор. Пахали вчетвером. Кроме меня Миша, родной младший брат, и двоюродные Саша с Алексеем, дети тётушки Харитиньи. Саша сейчас в Германии. Женился в Казахстане на немке. Тридцать лет с ним не виделись. Как-то звонит, спрашиваю:
– Саша, помнишь, как залог пахали?
– Такое, брат, не забывается.
Он сейчас, как заложник в Германии, ему съездить в Россию – это года три копить, во всём себе отказывая. Алексей живёт в Кургане. Клин, что мы поднимали, десятин пять. Приличный кусок… Десятина – это гектар с лишком…
Падь упиралась устьем в речку Барджакон, или Барджаконку. В том месте пади шли чередой, выходя к воде. Склоны сопок пологие, поросшие ургуйчиками. Один склон мы частично распахивали, борозда забирала вверх…
Отец нас привёз, объяснил, что к чему, и уехал, варись в собственном соку, не маленький уже – четырнадцать лет. У нас была будка, деревянный фургончик на колёсах. Жилая площадь три-четыре квадратных метра. В самый раз переночевать, не боясь ядовитых змей. Пищу готовили на костре, используя трёхногий каган… Воду брали с Барджаконки. У китайцев в бакалейках продавалась прекрасная лапша в бумажных пакетиках, мы называли её крупчаткой. Пополам переломишь и суп-лапша… Мясо – или баранина, или вяленая свинина…
Первый уповод (первая половина дня) отпашешь… Поднимались рано, до восхода солнца, ни жары, ни паутов – этих зловредных мучителей. Земля в предутреннем покое, последние росные часы, восток светлеет, ночь отступает. Тогда, само собой, почти не замечал красоты Трёхречья, казалось, так и должно быть. Пахали залог, не тронутую никем целину, до Петрова дня, чтобы следующей весной это поле дисками пройти и сеять. Сеялки были уже конные, у нас такая появилась в начале пятидесятых, но в памяти на всю жизнь осталась картина: отец с лукошком на груди идёт по полю… Раз за разом из-под его руки сверкающим на солнце веером зерно ложится на землю. Взмах – и вспыхнули золотые искры, взмах – и ещё один золотой веер летит к земле… Поле чёрной полосой тянется между сопок, отец делает шаг за шагом, а я, опережая события, представляю, как появятся первые всходы, земля покроется зелёным ковром, а потом пожелтеет и заколосится пшеница… Перед началом сева отец сказал короткое: «Господи, благослови», – перекрестился, ступил на поле, и вот он уже далеко-далеко ушёл от меня…
Лето при вспашке залога в самом зените, трава в полной силе… В падях ранней весной цвели ургуйчики (видимо, от тунгусов название) – белые, сиреневые, голубые. И сплошным разноцветным ковром. Предпочитали они плодородную почву, а цвели сразу как снег сойдёт. Стебелёк сантиметров пятнадцать, и цветок не один в соцветии, много… Для овец – это было лакомство, на ура шли на ургуйчики. Перед тем, как отдать тунгусам отару на летний выпас, неделю или две мальчишки пасли овец в пади за деревней, выгонишь, они буквально с полчаса пощиплют ургуйчики и всё – наелись, ложатся. К вспашке залога ургуйчики, конечно, давным-давно отцветут, одни стебельки с листочками, и полно их в пади…
Плуг называли самоход, немецкий или английский. У обычного плуга есть чапыги, в этом нет никаких ручек, не надо идти за плугом, направлять его движение… Настроишь, а дальше сам движется. Рычаг опустишь, как в борозду вступят быки, лемех врежется в землю… А земля-то какая! Сидишь в пристяжных, оглянешься: тяжёлый пласт от плуга отваливается и маслянисто, жирно блестит… И борозда ровно идёт за быками…
Быки – скотина вредная. Утром ещё ничего, к концу первого уповода, когда солнце нещадно палит, пауты скотину облепят, сладу с ней никакого – до слёз доходило. Выпряжешь в тенёк увести, под дымокур, жару переждать, быки вместо благодарности хвост дугой и в Драгоценку. А это километров пятнадцать. Я на лошадь. Скачу и плачу от бессилия. Перед деревней слёзы вытру, казак ведь, мама выйдет к воротам: «Ну не быки у нас, а какие-то черти рогатые, прости меня Господи. Ничего, Павлик, постоят немного, отойдут да погонишь обратно, у отца тоже, случалось, убегали, такая дурная скотина…»
В пятьдесят четвёртом, на следующий год после моей первой самостоятельной вспашки залога, у основной массы крестьян-казаков руки опустились. Китайская власть держала чёткий курс на вытеснение русских. Драгоценка сидела на чемоданах. Зачем сеять? Мартышкин труд. Но отец из породы крестьян – война войной, а в поле выходи. Мой залог весной продисковал, разрыхлил и посеял. На целине, как правило, стопроцентный урожай. К Петрову дню пшеница в колос выходит. Мне посмотреть хочется. А в доме тарарам – сборы. «Это берём?» – «Нет?» – «Да ты что! Такое оставлять китайцам?!» – «Ну, бери-бери!» Но уже некуда. Возьмёшь одно – другое надо бросать. Родители ходят озабоченные: что ждёт на новом месте? Как там устроимся? Кое-как отца упросил съездить на моё поле. Поначалу ни за что не хотел:
– Некогда, Павлик, некогда! И зачем?
Потом понял: хочу попрощаться с полем. Запряг лошадь…
– Такая же пшеница уродилась в первый год в Драгоценке, – сказал, трогая колос. – Вовремя дожди прошли. И с твоего поля будет отменный урожай!
Я пошёл наискосок к сопке, разводя колосья, как воду. Кипели слёзы, до того было жалко оставлять всё это… И будто впервые увидел трёхреченское небо, бескрайнее, яркое, с застывшим в вышине облачком… Дальний зелёный склон сопки поднимался к небесной синеве… А поле (моё поле!) живым золотом расстилалось передо мной. Оно ещё вбирало в себя соки земли, напитывалось солнцем, ему больше месяца зреть, прежде чем пойдёт жнейка, а потом две или три пары быков потянут сноповяз, всегда удивлявший умной работой – подбирает жнивьё, оно подаётся в барабан, где комплектуется сноп, затем он поступает в снопонакопитель, который раз за разом выдаёт партию в пять-шесть снопов… И каждый крепко увязан льняной или конопляной нитью… Снопы составят в суслоны, и зерно, оставаясь в колосе, будет сохнуть, дозревать, доходить до нужной кондиции…
Я будто предавал это поле, первое и, как оказалось, последнее в моей жизни. Бросал его на произвол судьбы, отдавал на поругание китайцам. Поднимая залог, мечтал: повезут пшеницу, выращенную на этой земле, на мельницу, потом мама будет печь хлеб из муки нового урожая. Вот она деревянной лопатой достанет последнюю булку из печи, поставит на стол рядом с другими, перекрестит и скажет: «Ну, отец, уже и Павлик у нас совсем взрослым стал…»
Никогда после этого не пахал… А снопы по сей день могу вязать. Руки помнят…
Как воды пить в жару
В конце июля 1981 года мы поехали с отцом на его родину, в Читинскую область. В посёлке Кузнецово остановились у родственника по маминой линии – Алексея Банщикова. Банщиковых много было и в Кузнецово, и в Трёхречье. Алексей в Ильин день – второго августа – устроил нам выезд на природу. Барана заколол… А водки в магазине нет. Искать её поехали на уазике в ближайшие сёла, что вниз по реке Газимур. В один магазин заехали – нет, во второй – нет… И только в посёлке Красноярово оказался столь необходимый к барану продукт. Благодарю Бога, что так получилось, ведь я побывал в станице, где мой дед Фёдор Иванович три срока был атаманом. Отец в последний раз ездил в Красноярово в семилетнем возрасте, когда старшие братья взяли его на строевой смотр.

