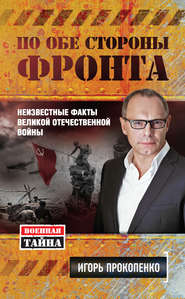
Полная версия:
По обе стороны фронта. Неизвестные факты Великой Отечественной войны
Вспоминает Надежда Троян, в 1943 году – боец партизанского отряда: «Жизнь у оккупантов была неспокойной. Настоящих подпольщиков и настоящих партизан поймать было не так просто, поэтому они просто сгоняли куда-то народ, закрывали в помещении, обливали бензином, зажигали. Когда народ разбегался, расстреливали. Так, как это произошло в Хатыни».
В Хатынь, маленькую деревеньку неподалеку от Минска, карательный батальон СС нагрянул ранним утром в марте 1943-го. Из 149 женщин, детей и стариков уцелел лишь один человек.
Генеральный комиссар федерального округа Беларусь Кубе – один из самых кровавых наместников Берлина на захваченных территориях. Задание Сталина на ликвидацию Кубе получили все действующие в районе Минска партизанские командиры, а также спецгруппы НКВД и ГРУ. Один за другим на официальных мероприятиях с участием гауляйтера звучат взрывы. Но Кубе как заговорен. Смертельной ловушкой станет для него собственная спальня с портретом фюрера над кроватью.
Накануне операции подпольщица Мария Осипова доставит к его дому взрывное устройство и передаст его красивой девушке, горничной из обслуги рейхскомиссара Елене Мазаник.
Рассказывает Мария Осипова: «Дело было поручено мне. В Минске надо было найти подступы к особняку этого Кубе. Я начертила план особняка, все комнаты, где что расположено, где спальня, где кабинет. И остановились вот на таком варианте: в постель Кубе должна быть положена мина с часовым механизмом».
В ночь на 22 сентября 1943 года Кубе погиб от взрыва мины. Убийство генерального комиссара Белоруссии заставило Берлин ужаснуться. Немецкое информационное бюро сообщило, что Кубе погиб от рук большевистских агентов. Из Москвы ответ на вопрос, кто убил Кубе, прозвучал из уст Ильи Эренбурга: «Его убил народ. И вся наша родина прославляет неизвестного мстителя».
Траурная церемония из Минска транслировалась по радио. Затем гроб с останками Кубе доставили на самолете в Германию, где на кладбище Ланквиц состоялись пышные похороны. Правда, фюрер на прощании и похоронах не присутствовал. Теперь в столице рейха траурные мероприятия проводились все чаще.
Но есть еще одна правда военной поры. Теракты подпольщиков, как правило, оборачивались жестокими репрессиями оккупационных властей против населения. Тихими героями этой войны становились ее жертвы.
Статистика потерь, которые немцы получили в своем тылу, позволяет представить масштаб и цену противостояния. В боях пал каждый седьмой партизан и подпольщик. Примерно 7 000 000 мирных граждан погибли в результате бомбежек, артобстрелов и преднамеренного истребления.
Партизаны за годы войны уничтожили, ранили или захватили в плен более 1 000 000 неприятельских солдат и офицеров. В 1943–1944 годах действия партизан все в большей степени координировались с планами Генштаба Красной армии.
В 1941 году в России немцы быстро поняли, что столкнулись с совсем другой войной, нежели это было в Европе. Например, русские точно знали, что офицеры носят коричневые ремни, а солдаты – черные. Снайперы Красной армии и партизаны убивали офицеров одного за другим.
Говорит Петр Брейко, лейтенант Красной армии, командир полка партизанского соединения Сидора Ковпака: «Я за войну расстрелял три полнокровных дивизии немцев. Больше 31 000 человек. Потеряв всего четырех человек. Всего.
Расстреливал полками. Расстреливал за 15 минут. Причем у меня в засаде не участвовало никогда больше одной роты. Причем расстреливал только в походной колонне. Немцы даже не успевали сделать ни одного ответного выстрела. Они просто умирали».
Махина войны набрала такие обороты, что ее, казалось, не остановить. Однако летом 1943-го на Восточном фронте назревали события, которым суждено было переменить ход войны.
Линия фронта протянулась от Баренцева до Азовского моря, в районе Курска огромным выступом протяженностью 550 километров угрожающе вдавилась в расположение немецких войск. Это и есть та самая Курская дуга, где лоб в лоб должны были столкнуться главные наступательные силы вермахта и Красной армии. Почти 2 000 000 солдат, тысячи орудий, самолетов и танков изготовились на направлении главного удара в напряженном ожидании схватки.

Немецкий танк «Пантера»
Генералу армии Ватутину, как уже бывало в 1941 и 1942 годах, предстояло сразиться с фельдмаршалом Манштейном. Танкам «Т-34» немцы противопоставили опыт, новейшие «Тигры» и «Пантеры» и противотанковые орудия.
С танками «Т-34» гитлеровцы уже были знакомы. С заранее подготовленных позиций им удавалось отражать атаки русских танкистов. У «Т-34» был один недостаток: когда немцы выбивали командирский танк, все остальные оставались без связи. Кроме того, чтобы остановить танки, немцы использовали 88-миллиметровые зенитные орудия, которые легко пробивали броню «тридцатьчетверок».
А вот наша 76-миллиметровая пушка, стоявшая тогда на танках, не пробивала броню немцев. Поэтому танкистам было необходимо на максимальной передаче ворваться в боевые порядки врага и стрелять по бортам.
Экипажи, первыми шедшие в атаку, по сути, становились смертниками. К исходу второго дня боев 2-й танковый корпус СС получил приказ захватить Прохоровку и развивать наступление на Курск.

«Т-34» – гордость советского танкостроения
12 июля на Прохоровском поле разгорелась настоящая танковая сеча. До позднего вечера слышался несмолкаемый гул моторов и лязг гусениц. То и дело танковые башни взлетали в воздух от прямых попаданий, их отбрасывало буквально на десятки метров. Из-за дыма и гари уже невозможно было отличить своих от чужих. Горели сотни танков и самоходных орудий. Прохоровское поле превратилось в гигантское кладбище бронетехники.
17 июля немцы начали отступление. Почему? Дело в том, что мы сумели за пять дней из 500 подбитых танков вернуть в строй 250 машин. А немцы из потерянных 400 – ни одного. Для ремонта немецкие танки грузили на платформы и отправляли в Германию, на заводы.
Вспоминает Герд Шнайдер: «Когда мой отец, генерал Шнайдер, был еще в Курске, он получил приказ Гитлера удерживать город до последнего. Однако ему было ясно: если 4-я танковая дивизия останется в Курске, она погибнет. Тогда он приказал своим войскам покинуть город, а сам со штабом остался, чтобы иметь возможность докладывать, что он все еще в Курске. Он оставил город в последний момент».
50 дней сражений на Курской дуге окончательно изменили ход войны. На Восточном фронте германская армия теперь будет только отступать. Однако радость победы одних и горечь поражения других немилосердно уравняются по обе стороны фронта сотнями тысяч похоронок и эшелонами раненых в невиданных доселе количествах. Казалось, что уже нет слез оплакать погибших и сил спасти пострадавших. Но это только казалось.
В эту войну в отличие от прошлых одним из основных резервов пополнения действующих армий стали вылеченные раненые. Военные медики под огнем, рискуя жизнью, выносили их с поля боя, оперировали под артобстрелами и бомбежками.
Лейтенант Карл Клауберг был ранен трижды. В 1942-м из-под Сталинграда его эвакуировали в тыловой госпиталь в Германии: «После операции я очнулся в санитарном поезде. Стонал от боли. Вдруг кто-то сказал: «Замолчите. Вы офицер и должны стойко переносить боль». Я ответил: «Откуда вам знать, что такое боль?» Все вокруг вдруг зашикали на меня: «Замолчи, ведь это генерал Зауэрбрух». Генерал оказался самым знаменитым немецким хирургом».
Вспоминает Мария Гусева, старший сержант медицинской службы в медэскадроне кавалерийской дивизии: «Раненый поступает. Когда его с машины снимаешь, жгут наложен прямо поверх шинели. А что у него там делается под этим рукавом? Не то сквозное ранение, не то там болтается кость. Несешь его, а у него кровь струйкой капает. И вот эта кровь, пресыщение кровью, просто одурманивало. Не знаешь, куда деваться от нее. Прямо голова идет кругом».
Военно-санитарные поезда под бомбежками увозили массы раненых подальше от фронта.
Челябинск, как и многие другие города, в дни войны превратился в город милосердия. В здании школы размещался эвакогоспиталь № 1722. К началу войны госпитали Красной армии были рассчитаны на 35 500 мест. По плану мобилизации медицина в тылу должна была готовиться к десятикратному увеличению числа раненых. Однако реальный масштаб эвакуации пострадавших превзошел все расчеты. Только в тыловых госпиталях количество коек пришлось довести почти до миллиона. Здесь и на фронте спасением раненых и восстановлением их здоровья были заняты 700 000 медиков.
Рассказывает Наталья Тюрина, хирург челябинского эвакогоспиталя № 1722: «Чаще всего из госпиталя раненых выписывали не по одному. Поправляется раненый, собирается группа. И тогда мы были очень горды собой. Было такое чувство удовлетворения, что вот, мы смогли их спасти, и жалко было откровенно, что они идут опять на фронт».
Бывшие пациенты ехали на передовую, снова шли в бой и надеялись, что два раза не умирать. В военной статистике их сухо именовали санитарными потерями. За всю войну таких было примерно 13 000 000. Более 10 000 000 из них медикам удалось вернуть в строй. Они выиграют войну. Но до этого еще надо дожить.
Еще накануне сражения под Курском Гитлер приказал строить мост через Керченский пролив. Он не оставлял надежды прорваться на Ближний и Средний Восток через Кавказ. Кавказский фактор стал доминировать в стратегии фюрера после поражения под Москвой и провала плана молниеносной войны.

Немецкие солдаты в горах Кавказа
Наступление на Кавказе началось в июле 1942-го. Знаменитые альпийские стрелки, истинные хозяева гор, позируют перед кинокамерами на склонах Кавказа, в двух шагах от смерти. На горных тропах развернулась жесточайшая схватка альпинистов двух армий. Преодолев перевалы, дивизия «Эдельвейс» должна была выйти в район Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. Главная задача – во что бы то ни стало овладеть советскими нефтяными промыслами. Немецкие войска заняли Ставрополь, Армавир, Краснодар, Майкоп, Моздок. Гитлеру даже преподнесли кондитерское чудо – карту Кавказа из крема и шоколада. Цукат со свастикой должен был знаменовать скорую победу.
Однако триумф не состоялся. Овладеть перевалами Главного Кавказского хребта и прорваться в Закавказье не удалось. В 1943-м советские войска нанесли крупное поражение группе армий «А» и освободили оккупированные ранее территории Северного Кавказа.
У Сталина имеется свой план относительно той части Кавказа, которая чуть было не досталась Гитлеру. НКВД докладывает о нарастании здесь антисоветского сопротивления, разжигаемого германской разведкой. Решением проблемы была избрана депортация – репрессии против отдельных национальных групп. На Северный Кавказ устремились составы с бойцами НКВД.
Халиту Баутдинову было 15, и он хорошо помнит те события: «Накануне 23 февраля, 22-го числа, нас предупредили, чтобы ни одна душа из своих комнат не вышла на улицу. Говорили, что будут маневры. Ну, мы поверили. Маневры так маневры. Что нам это? Куда выйти, чего выйти. Мы по своим, извините за выражение, нуждам боялись выйти. Вдруг чего-нибудь. А вечером уже были солдаты в боевой готовности, готовности номер один».
Первыми по решению ГКО в декабре 1943 года депортации подверглись карачаевцы. А в феврале 1944-го – балкарцы, ингуши, чеченцы.
Вспоминает спецпереселенец Гирги Бакаев – в 1944 году ему было 14: «23 февраля, я помню прекрасно, утром еще, часика в четыре примерно, начали стучать в общую дверь. Я встал, вышел и вижу, что там один офицер и два солдата, уже с автоматами. Они говорят: «Давай, вставай, одевайся. Сейчас надо сходить на митинг. Там праздничный митинг, сегодня праздник, 23-е число, надо участвовать там».
Так начиналась операция по депортации чеченцев и ингушей под кодовым названием «Чечевица». В ней участвуют свыше 150 000 сотрудников, а также солдат и офицеров войск НКВД. Всех местных жителей, включая женщин, стариков и детей, с небольшим скарбом, на грузовиках и пешком, под конвоем гнали на станции, грузили в эшелоны и отправляли в Казахстан и Киргизию в ссылку. Дорога была тяжелой – люди массово умирали в пути.
Рассказывает Гирги Бакаев: «Всю дорогу мы оставляли трупы по обочине железной дороги. Вот так мы ехали. На двух-трех станциях нам дали по две-три буханки хлеба. Люди голодали, болели».
В общей сложности в изгнании оказались около 500 000 чеченцев и ингушей. За образцовое выполнение задания руководителям НКВД вручены боевые ордена.
Мата Радуев воевал под Москвой и Сталинградом. С 1944 года – спецпереселенец. Вот что он рассказывает: «В Ростове на вокзале я увидел очень много людей с чемоданами. И я спросил одну женщину, куда все едут? Она ответила, что сейчас все едут на Кавказ. Там очень много пустующих домов.
Я ехал в Грозный. Когда пересекали границу, я увидел, как военные из Чечни угоняли огромные стада коров и овец».
Через две недели после начала операции «Чечевица» Чечено-Ингушская республика упраздняется. Только через 20 лет люди смогут вернуться домой.
А война между тем катилась на запад. В марте 1944-го передовые части соединений маршала Конева вышли на государственную границу СССР, долгожданную и трижды желанную, как писала тогда газета «Правда», 33 месяца назад попранную врагом.
Упорная схватка развернулась на Балтийском побережье. 15 октября советские войска, ведя жестокие уличные бои, вошли в столицу Латвии. Хроника запечатлела рижан, приветствующих Красную армию. В эти минуты люди вряд ли глубоко задумывались о том, какой окажется завтра вернувшаяся советская власть. Они просто надеялись, что мир будет лучше войны.
Между тем еще несколько дней назад спешно отступавшие немцы пугали жителей Риги приходом большевиков и грядущими ужасами. Мирному населению предписывалось отправляться в Германию. В городе устраивались облавы.
Вспоминает Борис Инфантьев, в 1944 году студент Рижского университета: «В подворотне стояли два немца с собакой и всех, кто из дома выходил, сразу хватали и тащили на пароход. А мы с отцом сидели и смотрели, как немцы нас поджидают. Как только мы выйдем, сразу нас схватят и отведут на этот самый пароход и увезут в Германию».
Рассказывает Лотер Фольбрехт, в 1944 году житель Берлина: «Бомбежки Берлина участились. Мне тогда было 13 лет, и я состоял в «Гитлерюгенде». На политзанятиях мы обсуждали положение на фронте и в войсках. Мы также помогали пострадавшим от налетов. Женщин и детей постепенно эвакуировали из Берлина из-за воздушных налетов. Город бомбили каждый день. Я помню, дошло до того, что в нашем районе почти не осталось молодежи».
В 1944-м немецкая столица жила тревожным ожиданием. Уже нет эйфории. Именно в этот год германская промышленность достигает пика производительности. Ни один немец, заявил Гитлер, не будет жить на территории, занятой противником. В Берлине учащаются аресты неблагонадежных. Объявлена тотальная мобилизация. Несмотря на бомбежки, которые превратили в руины почти половину города, берлинцам как-то удается переносить такой поворот фортуны.
Теперь берлинская повседневность – улицы, изрытые воронками, остовы сгоревших домов, очереди. Перебои с транспортом, все время приходится спешить, чтобы проскочить между налетами. Части Красной армии – в 500 километрах от столицы Германии.
Глава 4
Недетские игры
Летом 1943 года под Курском решалась судьба Второй мировой войны.
К июлю советское и немецкое командования завезли на относительно небольшой участок фронта сотни эшелонов боеприпасов и горючего. C каждой стороны изготовились к бою около 2 000 000 человек, тысячи танков, самолетов, десятки тысяч орудий. Прифронтовая земля покрылась сотнями гектаров минных полей. Утром 5 июля 1943 года мощная артиллерийская подготовка возвестила о начале невиданной по кровопролитию битвы.
За две недели боев противники обрушили друг на друга миллионы снарядов, бомб и мин. Земля смешалась с железом.
Красная армия выстояла и погнала нацистов в их логово. Это был перелом в войне. На освобожденных территориях восстанавливалась мирная жизнь.
В это время 8–10-летних мальчишек-сирот стали набирать в суворовские училища. Тех, кому больше 16, мобилизовали в армию – потому что победа под Курском досталась дорогой ценой. А мальчишкам от 14 до 15 лет выпало заботиться о своих семьях. Но они бредили фронтом и не давали прохода командирам воинских частей. Вооружившись до зубов трофейными пулеметами и винтовками, просились на войну. У этих пацанов за плечами были почти полтора года нацистской оккупации. Они не понаслышке знали о зверствах гитлеровцев и теперь горели желанием бить фашистов.
Рассказывает Алексей Мазуров – участник работ по разминированию территории Курской области в 1944–1945 годах:
«На фронт я начал проситься, как только пришли наши солдаты. Когда фронт шел, очень много обозов проходило мимо. Я им говорю: я и лошадью управляю, возьмите меня. Мне сказали – нет. Вас еще рано брать».
Алексею Мазурову было 13 лет, когда он впервые увидел немецких солдат. Гитлеровцы заняли его родное село. Почти год Алексей периодически прятался в скирдах сена, погребах или на чердаках, чтобы не попадаться на глаза немцам, угонявшим жителей на работы в Германию.
Красная армия уходила все дальше на запад. А на местах недавних боев оставалась земля, нашпигованная смертоносным металлом. Следом за фронтом шли трофейные и саперные команды. Они хоронили погибших, обезвреживали на скорую руку оставшиеся мины, бомбы и снаряды. Но собственных сил им не хватало. Тогда военные призвали на подмогу местных жителей.
Из постановления Военного Совета Воронежского фронта о формировании вспомогательных трофейных рот: «Роты формировать из мужчин и женщин в возрасте от 16 лет. Допустить зачисление в роты подростков 14–15 лет, изъявивших добровольное желание… Обратить особое внимание на обеспечение их саперами-подрывниками – лицами, знакомыми с вооружением, боеприпасами, автомашинами».
Могли ли эти мальчишки представить, что после освобождения им достанется опасная работа саперов!
Небольшой поселок Поныри, расположенный севернее Курска на железнодорожной ветке Москва – Курск, полтора года находился под немецкой оккупацией. А летом 1943-го оказался в самом пекле сражения.
Здесь разверзся самый настоящий ад.
Когда в Поныри пришли нацисты, Михаилу Горяйнову было 13 лет. Увидев на стене фотографии Мишиных дядей в форме красных командиров, немцы избили бабушку и мать мальчика. А Михаилу не раз грозили расправой за мнимую связь с несуществующим подпольем.
В августе 1943-го Миша Горяйнов с двоюродным братом Сашкой отправились в Поныри узнать, цел ли их дом (перед Курским сражением всех жителей Понырей в приказном порядке выселили в тыл на 10–15 километров). По дороге голодные мальчики встретили лейтенанта, который неожиданно предложил им немного поработать. Не задаром.
Вспоминает Михаил Горяйнов – участник работ по разминированию территории Курской области в 1944–1945 годах: «С какого ты года? Я говорю: с 28-го. А ты с какого? Брат мой двоюродный говорит: с 29-го. Работа работой, а мы же голодные. Мы полгода хлеба не видели. Ни картошки, ничего. Кто-то даст, мать ходит, побирается. А тут обещают: кормить будем вдоволь вместе с солдатами. Ну тогда мы согласились».
Лейтенант, предложивший братьям поработать, оказался командиром трофейной команды. А возрастом ребят интересовался не из праздного любопытства – хотел убедиться, что мальчишкам уже есть 14 лет.
Так ребята оказались в команде, которая собирала оружие, хоронила погибших. Мальчишкам, конечно, уже приходилось видеть мертвых, но после недавних боев картина была ужасная. Как выдержали, Михаил Горяйнов удивляется до сих пор: «Запах на 50 метров, а если ветер еще навстречу… Слышен был запах. И вот к такому трупу надо подходить мне и искать все это. В окопе лежит – землей присыпал, царствие небесное. Окопа нет – рядом окоп, метра два-три. У нас багор был пожарный. Багром берешь за обмотку и туда. Похоронили. Если нет этого ничего – воронка большая. Воронку и сделали культурно. Туда положили, сколько уместится».
Чем дальше, тем больше этой команде приходилось заниматься разминированием. Вокруг было чудовищное количество неразорвавшихся снарядов и мин. Проверяли дорогу Поныри – Малоархангельск и 50-метровую полосу по обе ее стороны. В команде были профессионалы-саперы, но обезвреживанием пришлось заняться и мальчишкам: работы было по горло. Как обращаться со смертоносным железом, их никто особо не учил. Так, объяснили в двух словах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 9 форматов

