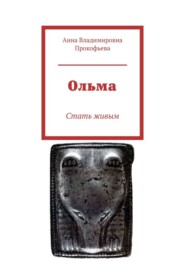скачать книгу бесплатно
Ольма. Стать живым
Анна Владимировна Прокофьева
Действие книги происходит на широких просторах северо-восточной Руси, где причудливо переплетаются действительность и мифы финно-угорских народов. Два друга – молодой охотник и медведь-оборотень, взрослеют, проходят испытания, чтобы стать лучше и сильнее в мире, который окружает их.
Ольма
Стать живым
Анна Владимировна Прокофьева
© Анна Владимировна Прокофьева, 2022
ISBN 978-5-0059-0179-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Как только она появилась на свет, она сразу же услышала свое имя – Неёма. Ей его мать дала, когда после рождения она взбиралась по густой теплой шерсти маминого бока на большую мохнатую грудь вместе с братом, который тоже получил имя – Неёла. Ничего не было видно, веки новорожденных медвежат были плотно сомкнуты, поэтому было темно и только вокруг витали запахи маминой шубы, сырой земли, сухих листьев и сладкого медвежьего молока, к которому стремились новорожденные медвежата. А медведица-мать ласково урчала на свой медвежий манер: «Не-йо-маа, Не-йо-лаа…»
Давно это было, много-много лун и солнц назад, а сейчас бархат её темных ноздрей трепетал, когда чуткий нос втягивал запахи дремучего тайбола. Здесь, внизу, где до половины лета лежат в кургах и лядинах снега, вкусно тянуло холодной прелой листвой берёз, затерявшихся в могучем и древнем кожере. Под тяжестью сильных лап Неёмы выступала темная вода, пропитывающая мягкий нежный ковер лесных мшар. Там, ниже, торфяное болото, но ей туда не надо. Повыше она стремилась, туда, где розовостволые сосны взмывали в небо, щекоча колючими зелеными щетками ветвей редкие низкие облака в выцветающем жарком небе. Там, где у подножий истекающих смолой сосен, тянул веточки ввысь нежный прозрачный подлесок, ждали ее заросли ароматной и сладкой малины. Медвежьи карие глаза с поволокой жмурились от предвкушения сладкого густого сока, что брызжет из лопающихся на языке малиновых ягод.
Пока она пробиралась вверх по склону, она вспоминала, как еще совсем недавно, неуклюжим медвежонком карабкалась по узловатым корням и крутым взгоркам вслед за матерью, которая вела их с таким же по-детски неуклюжим братом в их первый малинник. Тогда тоже была макушка лета. Знойно, душно, как в стоялом бочаге, но только вместо кислого духа забродившей воды, густой воздух лоснился сладким потом и медвяно-малиновый запах можно было отрывать лапой и класть на розовый влажный язык. Кроваво-красные тяжелые капли малины пригибали тонкие ветки кустов почти к самой земле. А высоко, на верхних, тянущихся к свету побегах, белели неяркие, еле заметные цветки. Среди них деловито жужжали трудолюбивые полосатые макши, собирая малиновую жару в зобик. Из этой ароматной сладости они потом сварят и разольют по сотам янтарный тягучий мёд. А мама-медведица неспешно шла впереди по протоптанной ею тропинке и медвежата бестолково путались у нее в лапах, играя друг с другом и с солнечными лучами, запутавшимися в густой траве лесных прогалин.
Молодая медведица погрузившись в воспоминания и сладко зажмурилась: «Мёд! Лакомо!». Размеренно шагая вверх по своей давно натоптанной тропе, она снова вспоминала свое беззаботное детство и добрую большую мать, чей мягкий бок и сильные ласковые лапы всегда были рядом.
Её мать всегда была для нее загадкой. Частые отлучки матери с лежбища особо не привлекали внимание медвежат, но Неёма всегда тосковала, когда большая медведица надолго оставляла их одних с братом Неёлой. Но мама-медведица всегда возвращалась, чтоб принести потом на шерсти сладковато-пряный запах побывавшего в огне мяса, а в зубах узелок с теплым ноздреватым и таким душистым комком чего-то пахнущего едой, но на привычную еду не похожего. И Неёма с наслаждением вгрызалась молодыми зубками в хрустящую корочку пахучего кругляша, чтоб добраться до вкусной и мягкой сердцевины. Неёма думала что, наверное, это были какие-то мягкие орехи, которые мать приносила из мест, где не пахло лесом… А братец отказывался от угощения, недовольно фыркал и отворачивался, ему не нравился запах дыма и огня.
Однажды мать снова вернулась, неся в зубах тот самый мягкий орех из далеких мест, где не пахнет лесом. Неёма вдвоем с матерью с удовольствием полакомились белой мякотью и хрустящей скорлупой. Неёла же по-прежнему отказался от нелесного ореха. Поэтому, когда небесное светило уже яро припекало густую шкуру на спине, медведи все вместе отправились в ближайший малинник. И брат – беспокойный Неёла, который был крупнее и проворнее, к тому же голоднее ее, увлек сестру за собой. Толкая плечом и смешно подкидывая зад, отскакивал в сторону. И она, приняв его игру и переваливаясь на коротких крепких лапках, побежала вслед за ним, все дальше и дальше от мамы-медведицы, под сень высоких, в густых зеленых шапках, деревьев. Шагнула в отбрасываемую ими густую тень и словно окунулась в прохладную изумрудную воду. На легком ветерке еле-еле шевелились стебли лесных трав и в этом темном воздушном омуте скользил одинокий, оторвавшийся от ветки листок. Тогда, задрав лобастую круглоухую голову вверх, она восторженно открыла пасть от удивления, увидев огромную ярко-зелёную кружевную шапку старой липы, которой громадное дерево укрывало от летнего зноя тенистую поляну. Мощные узловатые ветви держали на крепких своих плечах узорчатую липовую листву и густые душистые липовые цветки. Липовый же цвет маленькой медведице издалека слышался свежим медово-зелёным благовонием, ненавязчивым и нежным и, чем ближе она подходила, тем сильнее и ярче он становился и насыщался пьянящими сладкими оттенками. Уже у самых толстых корней она почуяла выстоявшийся сладостно-сухой запах нагретой летней жарой коры…
Непоседливый брат уже карабкался вверх по могучему стволу лесной красавицы и скрылся в резной листве, лишь только шорох листьев отмечал его путь в густой кроне. Пока Неёла шуршал где-то далеко вверху, маленькая медведица завороженно наблюдала как большие мохнатые и желтые-полосатые макши неподвижно висели в золотистом воздухе и вдруг отлетали, светлея в тени и темнея на солнце. Завороженная этим танцем Неёма вдруг подпрыгнула на всех четырех лапах от громкого треска. Бурый, пушистый комок, облепленный зелеными листьями и, окруженный жужжащим облаком, скатывался вниз, мягко ударяясь о сучки и ветки и издавая короткие кряхтки…
Тогда она впервые попробовала сладкий мёд, пряный и золотой, слизывая его капли с густой шубы Неёлы. А полосатые мокши вились вокруг его распухшего носа… Как же это было давно… Весны две уже минуло…
Много дней прошло с той поры, когда она была маленьким неуклюжим медвежонком. Воспоминания побередили медвежью душу и растаяли легким облачком. Шумно вздохнув, медведица-переярка выбралась из влажной низины к розоватым стволам сосен. В дрожащем знойном воздухе одуряюще и сладко пахло. Малиновые капли ягод плотно усыпали зеленые гибкие ветки. Неёма поспешила к сочно пахнущим кустам, чтоб полакомиться, росшей на светлом ернике сладостью. Малинник укутал щиколотки стройных сосен кустистым подлеском. В тяжелом духмяном мареве так же, как два года назад, так и сотни лет до этого, вились трудолюбивые макши… Яркие и вкусные ягоды исчезали в пасти Неёмы, сладкий сок тёк по твердой темной коже медвежьих ладоней, когда она когтями лап, словно редким гребнем чесала ветки малины. А густой мех на морде уже давно весь слипся от кроваво-красной малиновой патоки. И как в далеком детстве Неёма урчала от удовольствия: «Ер-ер-ер-ер…»
Вот уже целый солнечный ий она была одна. Мать ушла во время прошлогоднего гона к ярому чужому беру. Беспокойный брат тоже однажды исчез вслед за ней. Видимо, отправился на поиски новых, собственных угодий. Она же осталась на прежнем месте, где знала все тропки, урочища и буреломы. С тех пор и потянулась ее размеренная и одинокая жизнь: после спячки яркая весна и густое лето, занятое заботами, когда с весны до осени нужно жировать для нового зимнего сна…
Но этой весной, когда весь лес цвел и благоухал молодыми травами, пел на разные птичьи голоса, она стала ощущать смутное беспокойство и какое-то непонятное томление, просыпающееся глубоко во чреве, под слоем сильных мышц и густым бурым мехом… Она пьянела от зеленой волны леса, накрывающей ее тень, размывающей сладкий щекоток то ли от меда, то ли от аромата цветов, прилипший на краешек бархатного носа и кожу нежной губы.
Это же самое беспокойство и сейчас в жаркий летний зной заставило ее отвлечься от лакомства. Обуреваемая непонятной тоской, накатившей неожиданно, словно короткий летний дождь, она задрала морду к небу, проглядывавшему сквозь пушистые ветви сосен. И верхним чутьем уловила чужой, будоражащий запах, который тонкой нитью, почти паутинкой тянулся с дальнего края полянки. Этот запах, прочно обосновался в ее носу, испачканному сладким клейким соком. Прилип к нему и, будто мощной лапой мягко, но сильно вытолкнул Неёму из густых объятий малинника. Прозрачная паутинка чужого духа становилась плотнее, насыщеннее с каждым шагом и, в конце концов, привела ее к ободранной сосне, где из глубоких царапин в стволе вытекала янтарная душистая смола. Но привычный аромат живицы перекрывал и подминал под себя более сильный, более густой дух крупного лесного зверя, дух чужого медведя, дух сильного и зрелого самца. Глухое рокотание заворочалось в ее горле, становясь все громче, стремясь ввысь к голубому знойному небу, оно тянуло ее всю вверх, заставляя напрягать мышцы. «Чужак! Прочь!» – проревела и, резко выпрямившись на задних лапах, молодая медведица мощным ударом крепких когтей перечеркнула чужие пахучие метки, оставив на голом ободранном сосновом стволе малиновые пятна ягодного сока. Внезапно проснувшаяся ярость хозяйки угодий медленно затухала, уступая непонятному звучанию чувств внутри… Медвежий рык становился все тише и мягче и, успокоившись, она снова грузно опустилась на все четыре конечности, и шелковистый мех серебристо-бурой волной прокатился от густой холки к мягкому хвосту. Рыкнув снова, но уже, так, для порядка, Неёма отправилась в обратный путь, к уютному выворотню, где она проводила короткие летние ночи.
Это логовище уже давно было ею обжито. Корни огромной ели когда-то давно подмыло весенними ручьями и она, ель, не выдержав веса темно-зеленых тяжёлых лап, рухнула под ноги своим лесным собратьям. И в тот момент еловые корни, крепко цепляющиеся за землю, вывернули целый пласт лесной почвы, обнажив светлый мягкий песок, скрывавшийся ранее под многолетними слоями перепревших палых листьев. Много времени прошло с тех пор и подсохшее корявое корневище старой ели успело покрыться пушистым изумрудным ковром мха, нависая плотным левашем над образовавшейся ямой. Песок на дне перемешался с прошлогодними листьями и пучками сухой травы и был мягок и сух. Неёма обманчиво неуклюже соскользнула в свое логовище, снова всколыхнув шкуру блестящей волной пушистого меха, и стала устраиваться на ночь. Сон не шёл. Шумно вздыхала, тихо порыкивала, вспоминая чужой запах, обнаруженный на краю малинника, будто бы он, этот самый запах, до сих пор прилипший к бархатным ноздрям, тревожил, и мешал спать. Медведица перевернулась на спину и сложив лапы на широкой груди посмотрела вверх. Там, за высокими ветвями, густой листвой и тяжелой хвоей, виднелось в проглядах темнеющее небо. Зажигались первые звезды и широкой полосой разлилась на темно-синем полотне неба млечная река. Неёме было жаль разлитого небесного молока, и она всегда, когда видела его, хотела лизнуть хоть краешек, попробовать, хоть капельку… Как в детстве, в теплой берлоге, когда она лежала на широкой и мягкой груди матери-медведицы, и слизывала жирные сладкие капли медвежьего молока, которые дрожа скатывались из материных сосков по жестким волоскам медвежьей шубы… И теперь, весь небосклон представлялся ей большой Маска-авой, а звезды – блестящими каплями молока на густой темно-синей небесной шкуре… Неёма вытянула лапу вверх в несбыточной надежде смахнуть на язык несколько капель небесного молока, и в призрачном свете звезд густая шерсть на широкой медвежьей лапе истаяла на мгновение и вместо острых и крепких ногтей стали видны длинные тонкие пальцы, обтянутые нежной и светлой кожей с прозрачными пластинками ногтей. Неёма не удивилась, она давно привыкла к тому, что в полнолуние она переставала пахнуть зверем и иногда в свете полной луны густая шерсть становилась будто бы прозрачной, и сквозь нее просвечивал призрачный свет полной луны, играя и серебрясь на белых пальцах… Потом наваждение пропадало и обыденное возвращалось вновь – и густой мех, и когтистые сильные лапы.
Утро в лесу наступило быстро и неожиданно. Казалось, что темное небесное покрывало еще укрывает дремучий кожер. Но перед самым рассветом множество звездных капель холодной росой упало на землю, украсив сверкающими лалами, смарагдами, да яхонтами густую траву и мягкий ковер мха, листву деревьев и кустов, густую хвою елей. Даже пышная шуба Неёмы в сей миг переливалась дорогим, сияющим в утреннем воздухе, убранством. В лесу среди ёлок было еще сумрачно и просыпающуюся медведицу окутывал холодный запах сырости. Колючие лапы елей слегка шевелились в рассветном воздухе. Ночной туман медленно уползал в низины. Полуночные цветы и обитатели чащи прятались в густую тень в предчувствие рассвета. Не открывая глаз, хозяйка урочища прислушалась к пению птиц, просыпающихся высоко в кронах деревьев. Песня птичья начиналась тихими, еле слышными, скрипучими звуками и продолжалась звонким громким журчанием трелей, будто звездные ночные капли не упали росой, а колокольцами звенят-перезваниваются высоко в ветвях. Медведица узнала зарянку, ту, что своим пением будила летнюю чащу все то время, что себя помнила Неёма. Заалело небо, из-под темной ночной шубы выпростав малиновое платье рассвета. И проснулось солнце, тонкими острыми лучиками, словно горячими стрелами, пронизывая хмурый лес. Неёма будто плыла в золотом потоке и слушала голоса птиц. Запахи и звуки леса доносились до неё – сырой запах перепревших листьев, запах хвои и смолистой живицы, стук редких капель росы, скатывающийся с листвы.
С каждым мгновением воздух все сильнее нагревался летним солнышком и тёплый дух лета плыл над лядиной. И когда задувал ветерок, он приносил аромат длинных сосновых игл, медленно колышущихся на ветвях. Стволы деревьев окружали низину со всех сторон, но от этого здесь не казалось тесно. Постепенно расслабленный покой Неёмы снова стал назойливо беспокоить все тот же, еле заметный чужеродный запах. Чужой, но такой влекущий… Беспокойное любопытство погнало её из логова и повело за собой в светлый пунчор, в сторону малинника.
Снова смутное беспокойство тревожило ее медвежий ум. Неёме казалось, что её свой собственный запах изменился и, такие ранее привычные испарения чащи раздражали ее, мешали и приводили в ярость. Дразнили своим присутствием даже безобидные мелкие зайцы и вездесущие лесные мыши, что населяли ее угодья, оставляя после себя пахучие катышки помета в траве… А незнакомый чужой манящий запах вел ее, подгонял, заставлял почти бежать. Широкая грудь вздымалась от бега, сильные мышцы спины перекатывались под бурой шкурой и мягко ступали медвежьи пятки по знакомой тропе, а чуткий нос отмечал присутствие поблизости другого зверя. Зверя опасного и влекущего к себе одновременно. Еще не видя ничего сквозь заросли малины, Неёма уловила чуткими ушами шумное чужое дыхание, чьи-то глухие шаги слышались на вытоптанных ею тропках и гулкое шкрябанье когтистых лап по лесной земле и треск разрываемой сосновой коры резало слух. Густой подлесок заканчивался. Сквозь густую сеть молодых ветвей шиповника она увидела чужака. Он стоял к ней спиной, подняв морду вверх, нюхал метки, оставленные ею вчера на ободранном стволе сосны. Темная, почти черная шерсть его переливалась густым матовым шелком в солнечном свете. Мех на его широких плечах и мощной холке, при каждом движении, медленно перекатывался, будто луговые травы под летним ветром. Этот чужак манил ее, манил сильнее сладкой малины и душистого меда. Она вытянулась мордой в сторону чужака, а задние лапы стали медленно, будто сами по себе, топтаться в густой траве, заставляя травяные стебли брызгать зеленым духмяным соком. Чу! Он услышал ее и замер. Чуть погодя, медленно и сторожко, повернул крупную голову и его темные глаза, спрятанные глубоко под мохнатыми бровями, поймали взглядом Неёмины очертания, еле угадывающиеся в зарослях малинника. Ноздри широкого чуткого носа шумно расширились, вдыхая ее запах. И тонкие травинки, дотянувшиеся от самой земли до его темной морды, зашевелились от его дыхания. А в это время, разозленная своими путанным и смутным откликом на присутствие в урочище чужака, Неёма клокотала яростью, пока еще сдерживаемой, но вот-вот, готовящейся вырваться наружу. Она выскочила из зарослей в облаке мелких сорванных листьев, и уже собиралась махнуть в сторону чёрного бера лапой, а после напугать чужака громким рыком, но в этот же момент он медленно поднялся на задние лапы, представая перед молодой берышней во всей своей красе. Мощное его тело покоилось на крепких задних лапах, мех блестел на солнце, а сдерживаемый ответный рык, бурлил звериным рыком глубоко в горле. Его большая тень заслонила собой знойное солнце и Неёма поняла, что если захотел бы он заявить о себе в полную силу, ей тотчас же пришлось бы убраться из давно обжитых ею угодий. Ведь он был гораздо крупнее и сильнее ее. Но сейчас она не желала уходить, а совсем наоборот, хотела остаться и подчиниться. Замотав мохнатой башкой от всех этих ощущений, медведица, шумно дыша, замерла. Страшный и черный, как ёлс, могучий конда сам искал с нею встречи и не хотел ни прогонять её, ни сам уходить. Всей тушей опустившись на передние лапы, Шом-ёлс сделал несколько медленных шагов к молодой медведице. Он молчал и только ноздри его трепетали, чуя желанный запах самки. Она же стояла, не двигаясь, и вся ее медвежья душа дрожала от непонятного желания и необъяснимой жажды. Чёрный бер придвинулся еще ближе, будто перетек большой тяжелой тёмной каплей, их ноздри соприкоснулись и дыхание перемешалось. Влажным бархатом губ скользнув вдоль морды Неёмы, Шом-ёлс положил ей свою тяжелую голову на плечо. Она закрыла глаза и вдохнула запах его густой шерсти, который уже не казался ей таким уж враждебным и чужим – от него пахло далеким пихтовым лесом и сладкой черникой. Пришелец ожёг сквозь густой толстый мех её шею своим горячим дыханием и отстранился. Так же нарочито медленно и осторожно двигаясь вкруг медведицы он обошел замершую Неёму. Даже тогда, когда он, раскинув широко в стороны мощные когтистые передние лапы, встал позади нее, она не тронулась с места, лишь слегка повернула голову, любуясь его силой и мощью. Словно темная грозовая туча он навис над медведицей и громким рыком заявил о своих правах. Этот рокочущий выдох медвежьей силы совсем не испугал ее. А, наоборот, Неёма, попятившись, придвинулась к нему и тогда Шом-ёлс опустился ей на спину, крепко обняв передними лапами. Медведица присела на бабки под тяжестью туши черного бера, затуманившимся взором взглянула через плечо и увидела, как медведь, прихватив ее за густую холку острыми зубами, подгреб к себе еще ближе, еще теснее…
Через несколько дней она смотрела вослед, как пришлый матерый зверь уходил прочь из ее урочища. Темная его спина исчезала в лесной чаще, медленно растворяясь в густой зелени светлого ерника. Она снова была сама себе хозяйка, но уже не была одна – внутри теплилась зародившаяся частичка новой жизни…
***
Закончилось жаркое густое лето, пришла яркая, богатая плодами, но так неожиданно быстро состарившаяся осень. Краток был миг буйства осенних красок. И так же, как и из века в век, осени вновь пришлось обрядиться в грязно-бурые вдовьи одежды из умирающих листьев, и горестно плакать по ушедшему лету вместе с холодными ветрами путаясь высоко в ветвях деревьев. От этих печальных песен серые мутные глаза небес рыдали непрекращающимися дождями, ветра срывали последнее разноцветье листьев и бросали в вязкую грязь под ноги вечнозеленых елей и сосен. А лесные урочища и чащобы, постепенно проваливаясь в глубокий сон, ждали румяную и злую зиму-молодуху, чтоб та завьюжила и закружила снегом и укрыла их пушистым белым покрывалом до весны.
Под толстою шубою снега, в теплом уютном логовище, уснула и Неёма. За темными занавесями век плыли зеленые пятна летних дней, и размеренное дыхание мерно поднимало грудь медведицы, когда она, свернувшись огромным бурым комком, сберегала внутри себя то, ради чего была рождена на свет.
Ночи становились все длиннее и морозней, а короткими белесыми днями за мутной пеленой вьюг и метелей иногда показывалось уставшее зимнее солнце. Полосатый слоистый сугроб, укрывавший берлогу Неёмы, хранил от морозов и ветров уснувшие до весны запахи, ощущения и мысли. Однажды эта вязкая патока сна прервалась. У медведицы родился сын, первенец, заявивший о себе еле слышным писком.
Говорят, медведица после рождения тщательно вылизывает своего медвежонка, чтобы слепить из него настоящего медведя и придать ему правильную форму. Маленький бер, только что появившийся на свет в теплой берлоге, тоже испытывал на себе окончательные муки сотворения из него будущего хозяина леса. Но, видимо, молодая мать слишком сильно старалась, в надежде, что сын станет самым лучшим и сильным, когда вырастет, поэтому мерные движения ее мягкого языка в некоторых местах сняли темную шёрстку с новорожденного тельца до розовой блестящей кожи. Но медведица, по-прежнему, продолжала вылизывать малыша дальше, пока, опомнившись, вдруг, увидела, что натворила – между ее сильных широких лап с острыми когтями лежал голый розовый пищащий комок. Шерсть, конечно, позже отросла вновь, но иногда, время от времени маленький медвежонок терял свой роскошный мех и превращался в голокожее существо, очень напоминающее тех двуногих, что жили за дальним лесом…
***
Зима, окутавшая белыми тяжелыми нарядами деревья и кусты дремучего сузёма, после того, как солнышко повернулось к лету и прибавило дни в росте, начала постепенно дряхлеть, с тоской ожидая звонкую весну. Солнце давно перевалило через тяжкий ледяной рубеж зимней верхушки и все чаще появлялось на небе с каждым днем все выше и дольше.
И, вот, уже ранней весной, когда лес пока еще и не думал просыпаться, лишь снег только-только начинал убывать на южных открытых склонах холмов, пришла пора медвежьего промысла.
Как было и заведено из поколения в поколение – все мужики из бола, сбираясь на бера, омылись в парной, надели чистую одёжу и подпоясались новыми, вышитыми руками жен и матерей, кушаками.
В тот раз угощал всех перед охотой Вараш. Это он, глазастый и чуткий, нашел нынче берлогу лесного хозяина. По обычаю, нашедший и созывал охотников и угощал всех перед промыслом. Ольму тогда тоже позвали. В первый раз. Хоть и молод был, да силен! За глаза сородичи часто не раз его Берычем величали. Такой же могучий, злой, вспыльчивый, да и яростный, как медведь. Плечи широкие, руки крепкие. Неохватные стволы сам-один мог к веси дотащить.
Вкусив угощения и запив его стоялой пуре, мужики подхватили за углы настольник со снедью и зашагали в сторону леса. Забубнили негромко и лес наполнило негромкое гудение мужских голосов. Каждый под нос повторял древний заговор, чтоб охота удачною была. Вот и Ольма проговаривал вполголоса заветные слова: «Встану я, Ольма, раным на рано, умоюсь ни бело, ни черно, утрусь ни сухо, ни мокро. Пойду я, Ольма, из перта дверями, из двора воротами, пойду во чисто поле, в широко раздолье, в зеленой тимер, в темный сузём, и стану я лид да клепь ставить на бурых и на ярых зверей. Как же катятся ключи, притоки во единый ключ, так бы катились и бежали всякие мои драгоценные звери: могучие черные медведи, назад бы они не ворочались, а к чужим бы не бегали. Во веки веков». Бормотал себе под нос заговор, а перед глазами смеющееся лицо Томши стояло. Забавные веснушки на переносице, курносый носик и большие голубые глаза. Самая красивая девка на селище. И она его. Потому что он самый сильный и самый умелый и все самое лучшее должно доставаться ему. «А вот как медведя сам-один завалю, так все узнают, что сильнее меня нет на всем белом свете! – мечталось ему. – И тогда Куяна подвину! Мое старшинство по праву! Батя главный был и мне главным быть, тогда не только Томша, тогда вообще все девки мои будут! А не только Синеглазая Томша! Хотя лучше девки и не сыскать – все при ней…» Мечтательно улыбнувшись, осознал, что девку вспомнил и как горячей волной окатило испугом. Ведь издавна известно, что на промысле ни бабу, ни девку ни словом, ни мыслью вспоминать нельзя – неудача будет. Вздрогнул, зачурал шепотом, отмахнулся от неудачи, авось пронесет. И крепко сжимая заостренную на огне рогатину захрустел по зимней тропке дальше.
Дошли. Встали на краю маленькой опушки, опустили настольник с ествой на наст и продолжили трапезу, стараясь сильно не шуметь и с опаской поглядывая на противоположный край. Там под старым еловым выворотнем, застыв снежным бугром, через малый продух дышала паром берлога. Ольма подрагивал от возбуждения, перемешанного со страхом: «А вдруг, как не завалю? Вдруг, кто под руку сунется? Не-ет! Там мой маска! Мой первый медведь! Мой!» – стучало в висках, пока мужики нарочито степенно заканчивали брашно. Оглодки с поклоном раскидали округ под кусты и медленно и сторожко двинулись к берлоге, настропалив рогатины и ножи. Вараш перехватил свое копье и сунул его в продух, пошевелил им там, потыкал, прислушался – тишина. Только пар малым облачком вылетал в морозный воздух. Мужики застыли. А молодой охотник задорился, вытаптывал снег под ногами, невольно переступая ногами, тихо взрыкивал, разжигая свою ярость. Ему не терпелось поскорее вступить в бой со страшным зверем и победить. Победить самому и чтоб никто не смел сказать, что он неумеха и кулема. Ведь он сам так называл слабаков и смеялся над теми, кто был хуже него. Сердце билось неистово, кровь бежала по жилам, ноздри раздувались, зубы скалились, а руки тряслись от собственной горячности и он до скрипа сжимал деревко своего оружия, застыв натянутой струной.
Вараш опять запустил рогатину внутрь, оттуда наконец-то послышался недовольный рык потревоженного зверя. И тут же Ольме застила, вдруг, глаза красная пелена неистовства и он, ответив лесному хозяину таким же рёвом, прыгнул к продуху, отталкивая Вараша в сторону. Крыша берлоги, державшая до этого легконогого и мелкого Вараша, под крупным и тяжелым Ольмой провалилась. В сей же с этим миг могучий зверь распрямился. Широкий взмах лапой – и тело Ольмы отлетело в сторону, ударившись с еле слышимым хряском о ствол старой ёлки. Он упал в сугроб в стороне и затих. Медленно проваливаясь в темноту боли и забытья, неудавшийся зверобой слышал, словно через толстую перину яростные крики мужиков и рев зверя, а потом и его предсмертный хрип. «Завалили…”, – подумал Ольма и потерял сознание.
Когда шум жестокой ловитвы утих, боловские охотники поняли, что запромыслили млечную медведицу – из сосцов ещё текло молоко, а в глубине берлоги что-то возилось и попискивало. Когда юркий Вараш спустился вниз, на пышной подстилке из мха и сухой травы охотник с удивлением обнаружил голого розовощекого младенца, который сучил ручками и ножками и с надрывом пищал.
– Мужики! Кидайте настольник, тут младеня! Заверну хоть от мороза!
Запеленав беспокойного младенца в вышитое льняное полотно и сунув сверток за пазуху, Вараш легкой птицей взметнулся из логовища наверх. Мужики сгрудились вокруг, надсадно дыша после боя со зверем, и вопрошающе глядели на Вараша, выдыхая парки в сиреневый сумрак еловой тени.
– Нечисто тут, – задумчиво выдохнул Вараш, – Неподобица какая-то! В медвежьей берлоге младень-сосун, да в конце зимы, да еще и живой! Чудно! Я так, мужики, мерекаю и вы в том свидетели – надо сего сосунка Кондыю показать, арвую нашему. Он наш суро, он и решит, что делать. И медвежью тушу не испоганьте, мало ли чё? В бол отнесем, пусть и ее Кондый глянет.
– Вараш, а что с Ольмой-то делать? – спросил кто-то из мужей, похоже, это был сердобольный Ваган. – Дышит еще, только бледён больно, но кровишши нигде не видать…
– Ой, горе, горюшко! – вздохнул Вараш, комкая в сильной рукой кунью шапку, – Не повезло парню! Не иначе становину надломил. И его берем, не бросать же… Творите волокуши, потащим и его к арвую тож…
***
Пришел в себя Ольма на взлобке посреди селища. Лежал на утоптанном снегу рядом с тушей лесной хозяйки. Неподалеку стоял Вараш с каким-то кульком в руках. Буй рода говорил, что из-за дурости одного, которому вожжа под хвост попала, не должны лить горюхи остальные, да голодом сидеть без добычи. До лета далеко, запасы осенние уж на подходе. Кто с калекой естьвой поделиться? Увечный обществу не нужен и что его, такого большого прожору их селищу не прокормить. Его слушали все и молчали и не противились – зима она такая, лишних да слабых не любит. Сейчас калеке кусок отдашь, опосля сам без куска останешься.
Только мамкины всхлипы узнавал Ольма на слух. Жена бывшего буя боялась идти против общества, которым руководил нынешний буй Куян. Скор он был на расправу и суров, и весь бол держал в ежовых рукавицах. Куян закончил драть жёрло и занес копье в широком замахе, целясь калеке в грудь – солнечные холодные блики сверкнули на бронзовом наконечнике… Но острому жалу преградили дорогу и к искалеченному неудачливому охотнику бросилась Томша, прикрыв собою Ольму… «Любит!» – окатило Ольму радостью. А к народному сборищу поспешал, опираясь на причудливый резной посох, суро Кондый, сопровождаемый Ваганом.
– Стой, Куян! Стойте, люди! Не ошибитесь в словах и делах! Водимый Куяном бол прислушайся! – Его громкий голос раскатился по всему селению. – Посейчас Ваган мне поведал, что акромя увечного Ольмы с ловитвы еще кой-чего принесли. И на это диво мне глянуть следует! – сказал, как припечатал, стукнув посохом в мерзлую землю толковища.
– Охолонь, Кондый! – прорычал вождь Куян. – Не мешай мой суд! Ольму – к предкам, младенчика – вона, кормящей Еласке! А с добытого медведя шкуру снять, а мясо в погреба! Я сказал! – рявкнул хмурый Куян.
– Сам-от, Куянище, не ведаешь, где спешка хороша, что ль? Давно ль сам таким горячим бывал? Сам-от в молодых летах творил, что хошь – оборотнем не перешибешь! – усмехнулся седой арвуй и глянул на постанывающего от боли Ольму распростертого на холодном снегу, которого красавица Томша пыталась укрыть телом своим и руками, словно птица широкими крыльями. – Есть ли еще защитники у увечного? Кто готов взять его на поруки? -громко спросил волхв, обводя взглядом лица першептывающихся жителей куянового бола.
– Я за него! – шагнула вперед мать незадачливого охотника, рыжая Санда. Слезы ее враз высохли и не было уже страха в глазах, за возможную осуду, когда вышла на защиту сына. – Он кровь моя и мужа моего кровь! Ужели забыл, Куян, – повернулась она к вожаку, – Кто до тебя бол водил? Отец Ольмин и муж мой – Шоген! Неужто последыша моего к предкам отправишь? Выхожу сам, недоедать буду, а выхожу!
– И я за него, – негромко, но твердо сказал Ваган. – Хороший, ведь парень, хоть и бездумный, да скидох знатный. Сжальтеся, люди! А если вы в такое кареводье попадете? Кто за вас выйдет-то? – развел руками сердобольный мужик, обращаясь ко всем жителям селища сразу.
– Видишь, буй, три души за одну вышли! – воскликнул Кондый.
Задумался старшой селища – словно тучи грозовые нависли хмурые брови. Острый наконечник копья опустился к земле. Недолго помыслив, принял решение и, сверкнув грозными очами, сказал:
– Хорошо, люди! Принимаю вашу защиту для этого кулёмы. Может, три ваших удачи его одну глупую неудачу перекроют и исправят увечного. Но забота о нем на вас и ни на ком более. Я сказал – вы услышали.
Арвуй-суро, опираясь на посох, подошел к Варашу и сухими узловатыми пальцами приподнял край скатерти. Из свертка на него уставились темные, почти черные глазки младенца. Лики селищенских только что родившихся чад помнились Кондыю круглыми, высоколобыми и плоскими. А этот зыркал настороженно из-под нависающих бровок, покрытых густым бурым пушком. Носик и широкие скулы вместе с крепкой нижней челюстью чуть выдавались вперед. Да и волосенки черны были и густы, спускаясь с затылка прямо по хребту. Запустив руку глубже в сверток и проведя мозолистым пальцем по спинке младеня, пока тот возмущался громким криком от чужих холодных пальцев, Кондый обнаружил небольшой хвостик, так же как и бровки покрытый достаточно густым на ощупь пушком. Теперь задумался надолго и арвуй. Опираясь на крепкий посох обеими руками, суро застыл. «За кромку смотрит!..» Поплыли шепотки над толпой.
– Буй Куян! Невместно сие дитя Еласке отдавать! Как бы беды не вышло… – сказал гулко и пожевал губами сёдко. Задумчиво теребя конец своей белой бороды, повторил. – Как бы беды не вышло, потому как не человек он! Медвежий перевертыш. – И снова стукнул посох в мерзлую землю.
Народ, столпившийся на площади, ахнул и непроизвольно качнулся одной волной подальше от этой неподобы. Рука Куяна рассеянно потянулась к затылку:
– Так что же, придется теперь младеню живота лишать? – растерянно прогудел он.
Ваган обеспокоенно вертел головой, переводя взгляд то на вождя, то на арвуя:
– Дите ведь, хоть и не наше, а дите! Щенят неразумных не изводим, вон, в околице бегают, а эту мелочь на смерть?!
Народ зароптал и шепотки стали перерастать в громкий гул людских голосов – тех, кто за и тех, кто против найденыша. Куян вскинул копье вверх и ропот утих.
– Хорош сполохать, люди! А то, вона, полны шапки волосьев, как спужались. Мелок ешшо оборотыш, чтоб от него шарахаться. Мы посейчас мудрого Кондыя спросим. Может, что дельное присоветует?
Кондый поднял голову прервав разглядывание младенца, который гукая уже пытался поймать палец и засунуть его в рот. Арвуй клонил голову к плечу, будто старая птица, медленно произнес:
– В этом деле подсобит нам… – и многозначительно замолчал. После поднял свой посох и, указуя навершием на тушу медведицы, продолжил, – А вот она и подсобит и на все кумеки ответит! Нут-ка, охотнички славные, кто смел? Возьмите ножик острый да грудь-то мишке и откройте!
Над лобью снова повисла тишина. Даже Ольма, который давил в груди болезненный стон, поднялся на локтях, чтоб увидеть то, что дальше случится. Вздохнул тяжко Вараш и, как самый главный зачинщик этой нескладной и неудавшейся охоты, вынул из кожаных ножен на поясе тяжелый железный нож и подошел к неподвижной медведице. Протянул руку к ближнему своему товарищу-охотнику и тот без разговоров высыпал ему в ладонь запасенные ранее поломанные сучки. Вараш аккуратно разложил все семь сучочков на медвежьей груди и принялся за работу. Сверкнуло острое лезвие в белесом свете зимнего солнца, затем хрустнул сучок и Вараш громко объявил:
– Это мы первую пуговку расстегнули! – Охотники дружно хлопнули в ладоши и громко вскрикнули. Снова сверкнул нож, делая следующий надрез в густой медвежьей шубе, хрустнул новый сучок, ударили крепкие мужские ладони друг о друга, вскрикнули громко мужчины.
– Это мы вторую пуговку расстегнули! – И так до конца, пока не кончились все заготовленные сучки и не распалась густая шкура на груди лесного зверя, как створки перловицы… И тотчас же охотник с криком отпрянул, словно обжегся. Среди распахнутой звериной шубы красовалось молодое девичье тело с нежными розовыми сосцами полной груди и прозрачной, сверкающей, будто украшенная тонкими снежинками, бледной кожей. Вараш бессильно опустил руки и тяжелый нож, разбрызгивая редкие красные капли, упал на снег. Народ снова громко ахнул, ошарашенный страшными тайнами этого дня.
– Как то понять можно?! – в сердцах крикнул Вараш. – Боги, это дева?! В шубе по лесу ходила, да в берлоге жила? Убили, выходит, живого человека-девицу без роду-племени. За то прямо тут всем нам каяться надо!!! – Воскликнул суровый охотник и непрошенные слезы застили его растерявшийся взгляд.
– Нет, люди! – Вскричал Кондый. – И она не человек! Не бойтесь, не виновны вы перед предками! не человека вы убили, а зверя лесного. Среди мёд ведающих зверей нынешних еще попадаются прежние, хоть и мало их осталось, полузвери, полулюди. Жители древней Бермы. И пращуры у нас с ними общие. Но в стародавние времена каждый выбрал свою дорогу жизни… Мы пошли своим путем, а они остались прежними, дикими. Только если ранее могли они перекидываться в людей, то сейчас забыли, как это делается, но внутри все еще остались похожими на нас. Так что зверь она, хоть и необычный, но зверь. Консыг-Куба имя ей древнее. А тех, кто подобен нам и имеет имя, есть нельзя, поскольку не принесет ее мясо пользы. Отдать ее матери-земле и отцу-лесу следует. Откуда пришла, туда пусть и уходит. И прощения должно у нее попросить, как и положено. Помянуть и задобрить. – Замолчал арвуй ненадолго и после строго произнес – Но чтоб впредь такого не случалось – всегда! Всегда чисты должны быть помыслы перед медвежьей охотой, не забывайте об этом!
После последних слов Кондыя Ольма понял, что это именно он своими мечтаниями о дроле своей Томше перед охотой, не подпустил удачу ко всему обществу…
– Найденыша я беру себе! – объявил Кондый. – В лесу, подальше от людских глаз будет он! И я справлюсь с его зверем, – чуть тише добавил старик. Арвуй взял у Вараша сверток с младенцем и побрел в лес, к своему урочищу, там, где священный Синь-камень хранил древние знания пращуров.
– Слышали ли вы Кондыя люди? – спросил Куян. – А, коли, слышали – выполняйте. И вскорости Вараш собирай новую охоту, бол должен быть сытым!
***
После сборища на селищенском взлобке мама Санда и сердобольный Ваган при помощи Томши принесли Ольму в отчий дом. Поперву окружили его суетой и заботой, зобались за ним нещадно. Все еще надеялись, что Ольма выздоровеет и всё-таки станет по-прежнему самым сильным и ловким охотником в боле. Много сочувствующих ему было, почитай в каждой семье. Жалели. Приходили, спрашивали Санду, помочь ли чем? Но больше приходили поглазеть, полюбопытствовать, здоровеет ли поранетый?.. Постепенно поток гостей стал иссякать, а потом и вовсе прекратился. Забыли о нем даже те, кто когда-то называл его своим другом. Только мамка ломалась за ним ухаживамши.
А Ольмины ноги таяли как снег по весне, становились все тоньше и прозрачнее. Ольма ходил под себя и дурной запах пропитал всю избу, казалось, насквозь. Даже несмотря на то, что мамка омывала его по два раза в день, он казался себе шанявым и воньким скорлатьем. И сейчас, взрослый парень, он был беспомощнее сосунка-ребятёнка.
Когда мать своими натруженными руками приводила его тело в порядок, он от бессилия кусал кулак и стонал сквозь зубы. Санда думала, что сыну больно и еще нежнее и еще заботливее ухаживала за ним. Ольма смотрел на мать, и удивлялся – никогда до этого так близко ее не видал. В густых рыжих косах Санды сын замечал серебряные нити, которые будто паутинки осенних паучков, застряли в ее волосах. Мамкины руки, которые он с титешного возраста помнил пухлыми и мягкими, стали узловатыми, кожа была постоянно красной от щелочи, которой мать омывала беспомощные чресла сына, чтоб истребить неприятный дух от его безвольного тела. И будто бы непосильный груз лег раньше времени на ее еще не такие уж и старые плечи – она сгорбилась, руки ее вытянулись до земли, а взгляд потух. И все чаще украдкой она тяжко вздыхала в своем углу в конце дня, думая, что Ольма спит и не слышит ее вздохов.
Наступило лето и Ольма понял, что уже никогда не сможет держать рогатину в руках, не сможет встать на ноги и принести в дом добычу из леса. В тот день, умаявшись в делах и заботах, мать споро уснула и ее мерное дыхание слышалось в темноте. Откинув шкуры, он оглядел свои истаявшие конечности, они уже давно не напоминали крепкие молодые ноги, а больше походили на тонкие птичьи лапки, нет, на тонкие сухие вицы, что можно было сломать легким движением пальцев. Густо пропахшая его испражнениями подстилка заставляла воротить нос всякого, кто подходил к его ложу. А он всякий раз краснел и злился от своей немощи. «Надо уходить! Неча у мамки на шее сидеть и смотреть в глаза тем, кто жалеть приходит! Утоплюсь!» Попытался было слезть с кровати, но завозился шумно и зашуршал шкурами. Мать заворочалась и завздыхала тяжело. Ольма замер, стараясь не дышать и дождавшись, когда мать снова успокоится, сторожко и тихо, с тихим стуком соскользнул на земляной пол. Обползая очаг, огороженный невысоким валом из камней, парень увидел поблизости забытый матерью широкий бронзовый нож. По въевшейся охотничьей привычке рука сама потянулась прихватить нож, выходя из дома. Усмехнулся горько, вспомнил, что не охотится собрался, а избавлять мир от своего бесполезного существования и пополз к выходу. Добрался до лестницы, вырытой прямо в земле и утоптанной до плотности камня, и, подтягиваясь по ступеням вверх, выбрался наружу. Выбираясь, раскорябал ладони о жесткое дерево порога – бесполезные ноги тащились сзади ненужным грузом. «Словно хвост ящера!», – подумал Ольма. – «А я ящер и есть! Ползаю и пресмыкаюсь! Прямая мне дорога под землю, туда, где все ящерицы и живут! Утоплюсь, в омут затянет, а может и выловит кто, да в землю зароет…» Сдирая в кровь локти, он полз в сторону реки в надежде прекратить собственные мучения.
Небо начало светлеть и на нем одна за другой погасли звезды, когда Ольма добрался до кромки воды. Просыпающееся солнце золотило метелки тростника, а над водой, извиваясь, медленно таяла туманная дымка. Ноющие руки лежали в воде, ссадины щипало. И Ольма заплакал, как когда-то давно в детстве – горько и безутешно. Но не от боли в ободранных руках, а от осознания своей беспомощности и никчемности. Здесь, на берегу лесной речки, его никто не мог услышать, и он отдался горю всей душой, захлебываясь слезами. Почти взрослый мужик беспомощно рыдал, загребая пальцами мокрый песок, а песок ускользал в струях воды, как все его несбывшиеся надежды.
Обессиленный от рыданий Ольма откинулся на спину, лежа прямо в воде. Грязная рубаха намокла и холодила тело, а ноги не чувствовали вовсе ничего. Уже совсем рассвело, птицы, просыпаясь, начали выводить свои песни. «Вот, зорянка, вот, зяблик, а, вот, и лесная горлица…» – слушал всхлипывающий Ольма и с тоской узнавал певуний. Все они высоко в ветвях, ближе к солнцу, как и он сам раньше был ближе к небу, когда ноги держали. Высокий да широкоплечий вставал он выше всех взрослых мужиков в селище – ростом-то удался в отца, которого за его силу и ум местные мужики выбрали главным. Но бати давно уж не стало, да и сам Ольма теперь уже не мог дотянуться до неба. И с ужасом представлял сейчас, как все те, кого он раньше унижал и над кем насмехался, будут нынче брезгливо смотреть на него калечного.
Мелкие лесные и луговые жители шуршали в траве. Торопились по своим делам и заботам. Все вокруг пело и дышало жизнью. Только он, распластанный, как ящерица, как раздавленная и высохшая лягушка, лежал у воды и чувствовал, что его наполовину неживое тело тянет его еще живой разум в подземный мир. Ночью, уходя из мамкиного дома он решил лишить себя жизни, но при свете дня вылезшая откуда-то из глубины души мерзкая волна страха затопила все такие ранее отважные и, как он думал, разумные мысли. Ольма понял, что ему не хватит сил уйти из жизни. Никому не нужный, искалеченный, когда-то несдержанный и вспыльчивый, а сейчас малодушный и струсивший, и испугавшийся смерти лежал на берегу лесной реки и смотрел в голубеющее небо, просвечивающее между густых ветвей деревьев. Он уже не ревел в голос, лишь слезы стыда и досады медленно скатывались из уголков глаз и так же медленно и беззвучно впитывались во влажный речной песок…
День прошел в мутной пелене сожалений, что напрасно он ушел из теплого и сытного мамкиного дома, и страха о том, как же он теперь будет здесь один, голодный, холодный и одинокий? Солнце село, наступила ночь, которую он провел у реки он в нарье среди густых прутьев вицелойника. Забрался в самую гущу и лежал на впивающихся в спину прутьях, отмахиваясь от комаров и дрожа, в промокшей насквозь от воды и росы рубахе. Позже, ближе к вечеру следующего дня, когда уставшее солнце катилось по небосклону вниз, он выбрался из зарослей погреться на солнечном берегу и проходящие мимо с промысла охотники под водительством Вараша заметили в траве выцветшую рубаху Ольмы. Остроглазый и остроязыкий Умдо увидел его первым:
– Хой! Мужики, гляньте, неужто там Ольма-немогута валяется, аки ящер у земли извивается?!
– Цыть, Умдо! Твой язык порой быстрее твоего копья! У тебя что ль совсем сердце лыком обросло? А ни-то колотушку от меня схватишь? – Оборвал того Вараш. – Парень, похоже сам ушел из бола, чтоб рыжая Санда не мучилась, ухаживая за ним. – произнёс охотник, вглядываясь из под руки туда, где лежал Ольма. – Неужто его шишко в омут толкает? – Забеспокоился Вараш. – Не по-божески это себя жизни лишать.
– А чего ему ешшо делать-то? Кому он нужен таперя? – Осклабился Умдо, припомнив обиды, чинимые ему когда-то более сильным Ольмой.
– Ты норку-то не гни, болтало! – рявкнул Вараш на Умдо, все-таки отвесив тому подзатыльник. И продолжил, обращаясь к остальным. – Други, хоть парню и не повезло, хоть он сам ушел из селища, но и на это воля все-таки нужна, посему требую к нему уважения. Надо помочь, а там уж, как духи решат, жить ему или к Ящеру уйти…
– Да он сам, как ящерица! Ольма-ящерка, – не удержался Умдо, за что тут же снова заслужил новый подзатыльник от Вараша.
Охотники нарубили лапника и на сухом взгорке у реки сложили низкий шалаш, натаскали хворосту, перетащили поближе ослабшего, но все еще тяжёлого парня, который от стыда прятал глаза и тяжко вздыхал. Охотники под строгим взглядом Вараша все делали споро и молча, никто не смел злословить, ибо каждый понимал, что мог тако же оказаться на месте незадачливого Ольмы и как поступил бы каждый из них в такой же доле только пращурам ведомо. Вараш молча вложил в ладонь лежащего в траве Ольмы кожаный мешочек с огнивом.
Закончили и собравшись двинулись в сторону веси, только сердобольный Ваган задержался. Оглядываясь на уходящих мужиков и украдкой, отцепив от пояса тушку кролика и небольшой нож, бросил в траву рядом с шалашом.
– Шкуру-от сам сдерешь, не забыл, поди, – глухо проговорил Ваган, и, пряча глаза, отвернулся, а после бегом отправился догонять охотников.
Уже потом, когда народ из бола узнал, что Ольма сам ушел в лес, мимо проходящие охотники украдкой оставляли ему еду. Так и потянулась одинокая жизнь калеки на берегу лесной реки. Ольма утром отползал к реке, где лежал подолгу по пояс в воде, чтобы смыть испражнения со своего измученного тела. Потом полз обратно к шалашу, по дороге срывая свежей травы для подстилки. Иногда прибегал Ошай – Томшин брат, приносил еду, что передавала для него мама Санда. И иногда приходила Томша… Правда с каждым днем, все реже и реже.
Томшу Ольма видел последний раз, когда около шалаша яркие ягоды переспевшей земляники разливали свой аромат на весь речной берег. Томша сидела на теплой земле и шевелила пальцами босых ног тонкие травинки. Крепкие белоснежные лодыжки белели из-под длинной льняной юбки. Было жарко. Томша смотрела на реку. На Ольму не смотрела вовсе. И молчала. Ольма ощущал, что это уже не его Томша. Он ясно чувствовал, что чужие мужские руки уже прикасались и к нежной коже Томшиных лодыжек, и к тонким ключицам, и к мерно подрагивающей жилке, которая, словно маленькая синичка билась на Томшиной шее. Тот, другой уже, наверное, не однажды путался пальцами в густых волосах девушки, когда-то бывшей его, только его… Как же одуряюще пахла Томшина кожа, там, где заканчивался воротник светлой льняной рубахи… Как бесконечно давно он сам зарывался носом в ее волосы и дышал ею, дышал и не мог надышаться… А теперь она сидела напротив и, не поворачивая к нему лица, что-то говорила. Он вслушивался и удивлялся, что так быстро она стала чужой. Она обещала навещать его все равно, даже после свадьбы, но он знал, что она больше не придет.
***
Тем временем в урочище арвуя подрастал найденыш. Тогда, ранней-ранней весной, когда на совете племени решали судьбу Ольмы и медвежьего младенца, старый и мудрый Кондый после всего отнес найденыша к себе в избушку, что стояла у самого капища, на краю болота, в мрачном и темном ельнике. Избушка волхва была выстроена на высоких и крепких пеньках, росших когда-то тесно ёлок. Издалека казалось, будто хижина стоит на толстых птичьих, а, может, и на ящериных лапах. В десяти шагах от избушки, почти на самой границе мохового болота, лежал древний Синь-камень с огромным медвежьим следом на широкой каменной спине. Камень был мягок и тёпл на ощупь и, как будто, дышал. Даже в самые холодные зимы можно было босиком стоять на нем, не боясь отморозить стопы. Вокруг камня были вкопаны самолично Кондыем деревянные чуры предков. Раньше, еще до прихода в эти места Кондыя местное племя чтило только Синь-камень, приносило ему дары и просило своих богов о милости. Но время шло и из других земель приходили другие боги с чужими именами. Тех, что принес с собой Кондый люди приняли, назвали их по своему, но не перестали чтить и священный Синь-камень. Вот и сейчас идолы вместе с суро хранили все земли окрест и живущих на них людей и, кто грозно, кто лукаво, а кто с любовью взирали на приходящих к ним людей. Дерево идолов успело почернеть от времени и непогоды. Но по-прежнему опасливо и ревниво сторожило покой своих чад.
Вот и тогда, когда он вернулся из веси с попискивающим свертком в руках, они смотрели на остановившегося перед ними волхва. Почти все смотрели равнодушно, только один словно вздохнул, подняв в воздух несколько каркающих черных птиц… «Волык-от своего признал, – хмыкнул в бороду Кондый. – пусть-пусть, пригляд мелкому будет…»
Последнее время, с каждым годом все чаще и чаще Кондыю казалось, что лестница, ведущая в жилище становилась все круче и выше и будто ступеней у нее добавлялось. Но это всего лишь казалось, ибо выносливостью, силой, да ловкостью мог потягаться с любым молодым охотником селища. Да и ростом превышал самых высоких на целую голову. Устал не телом, а душой. Жизнь была тиха и однообразна. А тут, вот, случилось!..
Вскарабкавшись наверх, старик откинул толстую медвежью шкуру, закрывающую вход и берегущую тепло. За время его отсутствия избушка еще не успела выстыть. Местные жилище пёрт называли, но он за все время проведенное на землях этого племени так и не привык изъясняться по-здешнему. Язык, который он знал от рождения причудливо смешивался со словами тех наречий, чьи земли он сумел посетить за многие лета его жизни. Так уж получалось, что он делился с людьми новыми словами, а те в обмен учили его своим. Вот и в этой земле, где он окончательно прижился, даже местные легенды и поверья стали переплетаться с теми сказками и былями, что он поведал тем, чьи души теперь хранил. Но! Избушка, она и в лесу избушка. Надо избу истопить, а то она вместо избушки просто сараем станет. Прислонив крепкий посох к стене и, положив сверток с младеней на лавку, арвуй склонился к выложенному камнями старому очагу и раздул огонь в тлеющих углях. Подбросил хвороста и огонь тут же весело, будто обрадовавшись, затрещал, вгрызаясь в дерево, и взамен за вкусное угощение начал с благодарностью отдавать свет и тепло.
– Гори, Тылым-Лил, гори, Агни, пляши, Знич, пой, Жиж, дори тепло и свет могучий Белен! Прогоняй чужую тень, ту тень, что плелась за мной весь день. – зашептал над огнем Кондый. – Теперь помоги – врага прогони. – Из плошки, что стояла над очагом Кондый взял щепотку порошка из лосиных копыт и бросил в огонь. – Уложи его под лося копыта, чтоб беда пришлая была разбита. – Огонь тут же ответил – взвился высоким ярким языком после слов Кондыя. Произнеся оберёжные слова, старый волхв склонился над затихшим младенцем, который внимательно наблюдал за стариком своими темными глазенками. Крепкие узловатые пальцы, ухватили края льняного полотна, в которое был завернут найденыш и, потянув в стороны, обнажили розовое тельце. Ладонями обхватив чадо, волхв перевернул того на живот. Ребенок тут же поднял голову, засучил ручками и ножками и с любопытством стал осматриваться. «По людским меркам жизнь в нём уж полгода как теплится» – хмыкнул Кондый. Шейка и плечи дитёнка покрывала густая темная шерстка, будто грива у лосенка-стригуна, волосенки кудрявились и в неровном свете очага переливались тёмно-бурой, почти черной шелковистой волной, спускаясь до самого копчика, к маленькому короткому хвостику.
– Ну, что чернявое лесное чадо, дарю тебе имя Упан и носи его, пока другое не заслужишь.
Малыш вякнул, перевернувшись снова на спинку, и, смешно задирая толстые ножки, с усилием прижал пухлый с ямочкой подбородок к груди, сел и требовательно вякнул еще раз.