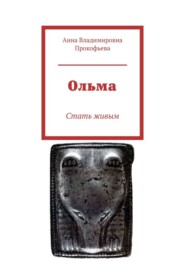скачать книгу бесплатно
– Ой, милай, не признал, чай? Я ж твоя прабабка, – улыбнулась, став враз похожей на сморщенное яблочко, старушка, – Зови меня Шокшо-ава… Хотя, раньше меня по-другому кликали… – хмыкнула бабушка. – А откуда? Да из тех ворот, что и весь народ. Только не так надо было спрашивать – откуда? Надо было спрашивать – почему? – хитро подмигнула бабулька и морщинки лучиками разбежались от добрых выцветших глаз.
– Почему же, мудрая бабушка Шокшо-ава, ты здесь? – вежливо спросил Ольма, ведь и отец, и мать учили его уважать старших.
– А потому, внучок, что Великая Мать Юман-ава отпустила меня из Духова Леса, чтоб я тебе весточку передала. Весточку от мужчин твоего рода, а особливо от твоего отца. Беспокойны они стали, не охотятся в своих кущах на зверей чудесных. Их, давно ушедших из Яви, дума гложет. Дума о том, что потомок их единственный духом пал! Пустил в душу злого паука, что тянет из него Дух Рода нашего. – загремел вдруг под сводами бабкин голос рыком медведицы, брови нахмурились, лик потемнел, а во рту будто алый язык меж клыков мелькнул… – Просили передать пращуры, – снова, как ни в чем не бывало спокойным голосом прошамкала ласково старушка, – что, ежели не сдюжишь супротив паука, погибнет Духов Лес твоего Рода, и все, кто там сейчас сгинут, будто и не были. И не станет будущего, и не станет прошлого. Только тенета серого паука все заплетут… Вот, так-то, милай! Ну, все, пойду я, ужо зовет меня Великая Мать обратно, дел ешшо полно, туда сходи, сюда сходи, то скажи, это выскажи… Пошла я… – и этак ворча, бабка вдруг взвилась роем черных пчел, который метнулся сквозь огонь жужжащей тучей прямо в лицо Ольме. Ольма заорал, закрываясь от острых жал руками и проснулся.
Его тело, его по-прежнему немощное тело, лежало в глубокой выемке большого камня, неподалеку от лесного колодца. Воздух под деревьями, нависающими над поляной, стал еще сумрачнее и гуще, а у лица назойливо вилась обычная черная муха… Ольма лежал, не шевелясь, даже не пытаясь отогнать приставучую когу. Произошедшее с ним настолько проникло в душу, что никак не отпускало в привычный мир окружающего темного леса. Вдруг, из этого сумрака, откуда-то сверху выплыло и стало опускаться на него белое пятно с темными провалами вместо глаз и узкой черной щелью рта, из которой знакомый мальчишечий голос сказал:
– Значит, пока я за тесалом бегал он тут разлегся и спит-почивает! Я свои ноженьки детские топчу, рученьки слабые надрываю, а он валяется!!! – выдал возмущенный Упан. – Вставай давай, солнце садится, а нам еще можжевеллину твою рубить.
Ольма досадливо встрепенулся, хотел было сесть, но поломаный хребет не дал, и Ольма просто перевалился кулем через край каменного ложа прямо к ногам Упана. Тот придерживал рукой прислоненное к колену каменное тесало, насаженное на длинную деревянную рукоять. «Из роговика тесало, хорошее, крепкое,» – машинально подумал Ольма. – «Только чего они все про паука какого-то бают, не пойму» – и задумчиво пополз в сторону можжевеловых зарослей.
– Погоди! – окликнул его мальчишка, – Погоди! Пока я за тесалом бегал, тут такое приключилось, не поверишь! Сейчас расскажу…
– Некогда нам разговоры разговаривать, – буркнул через плечо ползущий Ольма, – Сам сказал – солнце садится. Вот, добудем дерева, тогда и расскажешь.
Упан обиженно засопел, но справился с обидой и, не говоря ни слова, поволок тяжелое тесало вслед за Ольмой. В уже сгущающемся сумраке они подобрались к выбранным деревцам. И тут Ольма понял, что тяжелое каменное тесало ни он, ни мальчишка поднять не смогут. Он калека, а этот совсем мал и слаб, хоть и не по возрасту широк в плечах.
– Ну, и как мы с тобой, недоросль, будем можжевельник тесать? Мне в полный рост не встать, да, и ты мал ещё, вона, тащишь за собой тесало, ровно шогу в поле, через всю поляну борозду пропахал.
Упан остановился и хмуро зыркнул на Ольму, потом на можжевельник, потом на свои детские руки, сжимающие толстую деревянную рукоять.
– Я смогу, – тихо промолвил он.
– Да как ты сможешь-то, своими короткими детскими культяпками-то? – продолжал измываться Ольма. Злость в нем проснулась. Зашевелил лапками черный паук, душу оседлавший. – Глянь-ко на себя, малявка, от горшка два вершка, только по весне ходить научился. Бахвал, да пошехон! Верхошовина ты баламыжная! Наши пацаны сызмальства дареный нож таскают, бревна катают, а ты? Как ты свою силу ростишь?
– Давай, говори еще, ящерица, не останавливайся! – зло рыкнул мальчишка и шумно засопел. – Ори на меня!
Ольма даже замолк от метнувшейся от мальчишки вместе с обидными словами ярости.
– Ах, я ящерица?! А ты выкормыш медвежачий, недочеловек, недомедведь, никто ты, чужак, ублюдок звериный, тварь! Нет, не тварь, ты несотворенный и без образный, черный, нежить, нечисть лесная, йолс! Что ты мне сделаешь, клоп красноглазый?! – почти срываясь на визг, брызгал слюной увечный. Выливал, вымещал бессилье своего тела, обиду жгучую обрушивал на плечи мальчишки, по сути, такого же брошенного и одинокого, как и он сам. Упана уже колотило мелкой дрожью от обидных слов, но он не отвечал Ольме. Стоял молча, опустив голову и завесив темные глаза густой челкой. В неверном свете заходящего солнца, чьи последние тусклые лучи с трудом пробивались сквозь густую сень лесных великанов Ольме вдруг показалось, что, будто бы, мальчишка вдруг стал выше ростом, шире в плечах, но при этом еще сутулее и коренастее. Мерещилось будто кисти его рук, сжатые в кулаки медленно раскрылись страшными бутонами, и что-то возникло внутри ладоней, что-то такое, что стремилось наружу. Пальцы рук мальчишки распрямились, а на их концах сверкнули острые когти. Холка стала еще горбатее и шире, волос на затылке стал гуще и жестче. Льняная рубаха затрещала. Мальчишка обернулся, но вместо лица на бывшего охотника взглянула вытянутая медвежья морда. А из-под тяжелых бровей полыхали красными угольками злобные глазки, верхняя губа мелко подрагивала, приоткрывая белые длинные клыки.
– Всё верррно! – прорычало чудище, совсем недавно казавшееся обычным, хоть и странным, угрюмым пацаненком. – Я – зверррь! Я – нечисть! – взревел перевертыш, схватил когтистыми лапами тяжелое тесало и пошел им махать направо и налево, срубая толстые можжевеловые стволики, оставляя на месте густых зарослей сочащиеся смолой пеньки и потоптанные ветки.
Ольма испугался до икоты, застыл, прижавшись к земле и боясь пошевелиться. Смотрел, как недавний мальчишка широкими замахами яростно ломал безмолвные, несчастные деревца. И парень будто бы со стороны увидел того себя, который ярился, злился на мать, поучающую его в детстве за проступки и шалости, злился на весь на мир, когда добыча ускользала, уходила от него в ловитве. Смотрел и видел себя, немощного, ползущего топиться к реке, обдирающего локти и ладони в бессильной ярости и обиде на увечное, поломанное тело. «Какой же он спаситель мне?! Тут его самого спасать надо! Один-одинешенек! Я хоть пожил в селище с людьми, а он у болота с суро живет. Один, без мамки, без отца… Совсем, как я нынче…» – скакали мысли в голове у уже забывшего свой страх Ольмы.
– Упан! Стой! – вдруг закричал Ольма, забыв свой страх. – Стой! Они же не виноваты, что ты один… – чуть тише добавил он. Оборотень замер, тяжело дыша и сжимая в руке древко тяжелого тесала. – Да и не один ты нынче. Я теперь рядом. Я с тобой. Вот моя рука тебе – протянув открытую ладонь вверх, извернулся на боку увечный. Ему тяжело было держать вытянутую на весу руку, но он не отпускал ее, терпеливо ждал, смотрел в красные, медленно затухающие зловещие огоньки в глазах Упана. Лапа разжалась и грозное орудие с глухим стуком упало в сухую хвою, устилавшую землю. Перевертыш шумно выдохнул, встряхнулся и уже человеческим голосом промолвил:
– Не тянись так, сейчас сам подойду, тяжко ж тебе… – и шагнул к Ольме, сел рядом прямо на землю, пачкая полотно штанов и прислонившись локтем к плечу охотника. – Выбирай, которое тебе по душе? Учитель-спаситель, – хмыкнул парнишка и указал рукой на поломанные заросли можжевельника. И тут Ольму озарило снова:
– Так ты нарочно ярился?!
– Ну, да. – Пожал плечами парнишка. – Когда зверею, всегда десятикратно сильнее становлюсь. Нам же надо было можжевельника срубить… Правда, раньше, когда меньше ростом был, остановиться сам не мог, пока Кондый не спеленает. Но он учил меня, как силой этой управлять, чтоб не она мной вертела, а я ею.
– И как он тебя учил? – тихо спросил Ольма
– Да… – махнул, испачканной в липкой смоле ладонью, – Туес с болотной водой на голову ставит, да потом то обидные слова говорит, то прутиком хлещет, то загадки загадывает… Надо стоять, не шевелиться и на загадки отвечать. А коли злиться начинаю и устоять невмочь, туес опрокидывается и водица болотная вмиг звериное нутро охлаждает.
– Эх, меня бы он в ученики взял, хоть год назад… Не ползал бы нынче ящерицей… Эх..
– Дед говорит: «Не жалей о бедах, по уму и по делам уроки свои боги всегда вовремя раздают». Хотя, не пойму, мне-то за что с рождения весь урок этот, – обмахнул свое чумазое лицо Упан, – разве что в материной утробе нагрешить успел, – горько усмехнулся не по годам рассудительный мальчишка. – Ну, чего, будем можжевеловые дерева выбирать, или здесь спать ляжем, чтоб по утру эти обломки ворошить? Только зябко тут спать-то – оглянулся и передернул плечам Упан.
– Да-а, тебе в расползшейся рубахе не жарко-то на земле спать-то будет… – Ольма глянул искоса на мальчишку, – А ты будто бы обратно и не уменьшаешься. Выше телом, да плечами шире стал. Смотри-ка, лодыжки из штанов выглядывают на целую ладонь, рубаха на спине расползлась, и локти из рукавов видны…
– Вот, незадача, – Упан снова поежился, – да, так оно завсегда бывает после того, как красная пелена мне глаза застит…
– Вон, те два с краю, вполне подходящи, ты их первыми снес, да и не так сильно изувечил… Да и еще по парочке возьмем про запас. Возьмем, да и пойдем ко мне в шалаш, костер разведем… Мне матушка еды принесла, не оголодаем. Только можжевеловые палки тебе тащить. Мне-то несподручно, сам знаешь, – глухо закончил Ольма.
– Уговор! Ты только потом ублюдком не обзывайся, я у деда не приживалкой, а внуком живу. За деда мне обидно, а не за себя.
– Уговор! – тут же согласился Ольма. – И ты меня ящерицей не хули. Пошли, что ли?
***
Лето давно перевалило через свою макушку и ночи летние, хоть и были по-прежнему теплы, но с каждым днем становились темнее, да чернее, хоть глаз выколи. Пара невольных приятелей будто целую вечность пробирались по бурелому. Тропинка потерялась где-то в палой листве и только нюх Упана уверенно вел их в сторону реки, туда, где прибрежные камыши пахли тиной и журчащей водой, туда, где стоял крепкий Ольмин шалаш. Уж ночное небо стало светлеть с восходного краю и с реки полз густой молочный туман, только тогда они, измученные переживаниями и приключениями, бросив свою добычу в высокую траву у шалаша, заползли сразу вдвоем во внутрь и не разжигая огня уснули, прижавшись теплыми боками друг к другу.
Утро встретило их густым туманом, оседающим тяжелыми каплями на всем вокруг. Ольма проснулся от странного ощущения, что его недвижимым ногам холодно и мокро. Проснулся, прислушался к себе, попытался пошевелить конечностями. Не вышло. «Обрадовался! Как же! Все только блазнится, не будет чуда, сломался навеки, пустой надеждой не стоит тешиться,» – горько размышлял Ольма. И в вечной своей досаде сжал зубами кулак. Это неосторожное движение как раз и потревожило чуткий сон Упана. Тот завозился, заворочался и сонно произнес:
– Слушай-ко, Ольма, сдается мне, что твой шалаш усох со вчерашнего дня, или ты ночью в темноте лишку съел? Что-то тесно стало… – Так ворча, парнишка выбрался задом из шалаша и распрямился, стоя коленями во влажной от росы траве. С хрустом потянулся, расправил плечи и Ольма приподнявшись на локтях задумчиво стал разглядывать Упана. Тот за ночь будто бы еще больше раздался в плечах. А расползшаяся на нитки рубаха так и норовила осыпаться на землю с могучих плеч подростка. «А два дня назад еще мальчишкой казался, а сегодня с утра уже пушок над губой пушится, да голос ломается» – размышлял калека.
– Чего уставился, али на мне узоры нарисовались? – буркнул парень. – Да-а, рубаха в хлам, – оглядывая себя продолжил Упан, – хорошо хоть зад после переворота не растет – шутканул сам над собой приятель Ольмы. Темные волосы его тоже удлинились и рассыпались густой темной волной до плеч. Упан неумело их пытался заложить за уши.
– Надо будет у мамки лент попросить, когда в следующий раз придет… – еле сдерживаясь, чтоб не засмеяться, проговорил Ольма, разглядывая Упанову гриву.
– Из лент рубаху не пошьешь, или ты меня в них заматывать решил, как шута? – прищурился с подозрением черноволосый.
– Зачем заматывать? Косы будем заплетать, – уже в голос заржал Ольма, – как девке красной, вона, волосня твоя черная волнами ужо по плечам рассыпалась. Вечор всяко короче было! – сквозь хохот выдавил из себя Ольма.
Упан хмуро, исподлобья смотрел на развеселившегося, схватившегося за живот от смеха Ольму. Смотрел, как тот, перекатившись на бок, вдруг согнулся в очередном приступе хохота. И Упан, уже не в силах терпеть разливающееся по телу веселье закинул голову к разъяснившемуся небу и звонким молодым смехом ответил приятелю. Нахохотавшись вволю, весело отдуваясь и похрюкивая, они постепенно успокоились. И Упан вскользь заметил.
– Слышь, Ольма, кажись каменная постель тебе помогла…
– Да ну, неправда, не может быть такого, я навечно поломан. – Горько усмехнулся Ольма, опираясь на локоть сорвал тонкую травинку, сунул в зубы и с вызовом посмотрел на приятеля.
– Да сам посмотри, вона пока ржал, что лошадка, ноги к животу подтянул, а давеча пластом лежал, только руками шевелил, да тело за собой, как змеиный хвост таскал.
Ольма, прижав подбородок к груди, с сомнением осмотрел себя. Ноги и правда лежали чуть согнутые в коленях, а тело слегка скрючилось в поясе так, что рубаха бесстыдно обнажила тощий зад, который холодила утренняя роса. Все то что ощущал нынче ниже пояса Ольма, не чуялось с того самого дня, как очнулся у ног буя Куяна на народном сходе, когда решалась его судьба.
– Да, не, они сами в бок так скатились, – поскреб затылок неверящий Ольма. – Быть такого не могет. Никак не могёт… Щас проверим. Дай нож. – И требовательно протянул руку.
Упан вновь заполз в шалаш, пошарил там, шурша сухой травой, выудил тяжелый нож и вручил его Ольме. Тот, не долго думая, ткнул себя острым кончиком в обнаженную ягодицу и зашипел, откинув нож в сторону и тут же освободившейся рукой зажал больное место, а между пальцев просочилась тоненькая кровяная струйка. Упан, шумно вздохнув, закатил глаза.
– Охо-хо! Горюшко ты луковое, – по-стариковски всплеснул руками парень, – и где мне теперь прикажешь кровохлебку искать, чтоб кровь твою дурную затворить? Крапиву жевать не буду! Даже не проси. Подорожником обойдешься! – Упан поднялся на ноги и зарысил в сторону натоптанной тропинки. Когда вернулся, продолжил:
– Вот, слюнявь сам, от пыли я отряхнул, – и сунул охапку подорожника страдающему Ольме прямо под нос, тот так опешил от такой настойчивости, что не сопротивляясь открыл рот, высунул язык и безропотно лизнул зеленый лист. Упан тут же пришлепнул его на пострадавшую задницу и с полным чувством удовлетворения стал наблюдать за пострадавшим. После некоторого времени вкрадчиво спросил:
– Ну, как? Полегчало?
– В какую сторону-то? – возмущенно спросил Ольма. – Если ты про кровь, течь перестала, а если про боль, то я ее еще чувствую.
– Так что ж возмущаешься?! Чувства в твое тело возвращаются. Это ж не просто дырка в заднице, это ж знак! – важно и с умным видом произвестил мальчишка и снова с хохотом повалился в траву.
– Хорош ржать! – сам фыркая от смеха пробурчал Ольма, – У нас еще дел по горло, а здесь еще лось не валялся! Хотя, нет, вона валяется и похрюкивает! Ты и в лося могешь перекинуться, али сразу в подсвинка?
Упан дергая ногами, сквозь слезы, катящиеся от смеха из темных глаз, выдавил:
– Уже иду, Ольмушко, уже иду, сокол ясный! А коли мне лент красных пообещаешь, вообще козой прискачу!
– Скорее козлом, буркнул, улыбаясь Ольма. – Вставай, орясина! Скоро усы вырастут, а у тебя лук не готов. – И так хорошо на сердце стало у бывшего охотника, что улыбка, как поселилась от этого веселья на лице, так и не сходила до самого заката.
А пока, просмеявшись, они с приятелем расположились у шалаша, на солнышке, которое медленно ползло вверх по небосклону и все теплее и ласковее грело их молодые тела.
– Лук твой должон быть длиною три локтя и пядь, тогда и можжевеловая планка, что всегда смотрит на тебя, будет такой же длины. – Важно поучал приятеля Ольма. – Вот, шкурь от коры вот этот ствол, он аккурат, под тебя подходит. – И подтолкнул к Упану самый длинный и толстый стволик, себе же выбрал чуть меньше. Каждый из них взял свой нож и принялся за работу.
До этого Упан прикатил полено и подтащил к нему Ольму, чтоб тот мог полусидя-полулежа заняться делом.
– Что, пуйка, сопишь что горшок с кашей? Чего не по душе?
– Вот, смотри, Ольма, ты всяко выше меня, вернее, сейчас длиннее, если лягу рядом, – фыркнул парнишка, на что бывший охотник даже нисколько не обиделся. А только по-доброму ухмыльнулся. – А палку себе короче и тоньше выбрал. А мне, вона, какую дубину подсунул…
– Дивишься моему выбору, парень? А нечего дивиться. Ты ж каждую ночь на вершок вытягиваешься, да и расширяешься тоже – снова хмыкнул, прищурившись на Упана, Ольма. – Вот, я с запасом на твой рост и выбрал. А я? Я уж вырос, больше расти не буду, да и не скоро встану, если вообще встану. Так что лежа мне сподручнее с короткого лука стрелять.
– Хорошо, то я понял. А, вот, ошкурю я можжевелину, а дальше-то что делать?
– А дальше, как говаривал мой отец, а ему его отец и мой дед: попроси у дерева стать ровным, да плоским, да не тонким, что лист зеленый, а таким, что ствол молодой, да крепкий, чтоб гнулся и не ломался, что изгиб держал туго… А пока уговариваешь дерево-то, гладь его руками, гладь его железом, ножом острым, ровно пальцами нежными, и ласково приговаривай: «Как уж я, молодец, саварожий сын, родов внук, поутру рань-рано встану, лицо свое белое студеной водицой умою, кудри-цо буйные гребешок-ом причешу-поприглажу. И рубашечку-то надену бранную, лазоревую, и поясом красным подпоясаюсь. Семь-сорок узлов подвяжусь. Трижды я солнцу поклонюсь, на полночь, полдень, да восход коло ясный-то, да в дорогу соберусь и пойду я: из дома во двери, из дверей в воротицы, из ворот на улицу, а с улицы во чистое поле, да во темный лес. Как в темно-от во лесу сидит дед-лешак моховой, поклонюсь ему и скажу: Ой, Лёха-дед, лешак, покажи мне куст синеягодный, покажи мне куст можжевеловый. Подойду я к можжевелине, встану прям-прямо, поклонюсь земно. Ты гляди на меня, можжевельничек, ты смотри на меня, солнышко, слушай меня, чисто полюшко, тёмен лес. Как вокруг можжевельника обхожу-то я, мысею на него не лезу, бобром за него не цепляюся, тако бы и все худое, плохое, вокруг меня обходило, на меня не налезало, не цеплялось, в стороне осталось. Ладонями тебя глажу, ножами вострыми выглаживаю. Братец можжевельник, помоги мне избыть все беды, чтоб стороной прошли! Помоги тяжелой стреле в цель летети, гибкой тетевой звенети. Как вы иглы острые, ветки тонкие смотрите, примечайте, все запоминайте. Чтоб кибить была гибкой, что шея лебяжья, да крепкой, что дуб столетний, да легка, что перышко. Ключ, язык, замок. Да будет так во веки веков.» Запомнил ли? – хитро прищурился Ольма, поглядывая искоса от земли вверх, прямо в глаза черноволосому… «Черно Волос… А и, впрям, мишка! Черен волосом, да, в старшего Волоса Волохатого обличьем… Черновлас! – мысль пронеслась в голове бывшего охотника и осела, словно тяжелый песок на дне далекой Унжи-реки. – «Унжа песчанная… Как есть песчаная, тиха и спокойна… а Янга, вот, по камням бежит, да в омута затягиват, хоть и не широка вовсе… А Межа наша петлями петляет, рубеж бережёт… Опять, не о том мыслю, что за беда моя, растекаться!?» -засопел возмущенно Ольма.
– Чего сопишь-то, друже? Не сопи, все у нас получится – и луки, и остальное все. А скажи-ка мне, чего у тебя, да у Кондыя слова-наговоры на речь боловских немного не похожи? Здешние другие имена богов говорят.
– Ну, про меня-то все просто, мой отец хоть и был раньше буем в нашей веси, но нездешний, он, пришлый. Мне мама рассказывала, да и он сам говорил, что пришёл он с заката. Пришел в бронзовой броне, да с оружьем железным, здесь такое не делают. А еще, мамка говорила, что он сначала наособицу жил, не в боле нашем. А с Кондыем. Да, и, вроде, он у Кондыя не один гостил, а с товарищем. Только тот потом помер. Мамка того ни разу не видала… А потом у них с отцом закрутилось… Ну, и я появился. Тогда уже батька бол водил, сильный был, умный. Да и мамка моя тоже красивая очень! Сейчас сдала, правда… Так то я все виноват. – Вздохнул тяжко Ольма. – Вот, отец и принес много разных историй про чужих богов и героев. У нас говорят, что Кондый тоже не местный. Но старики бают, что он уже так давно с нами живёт, что уже давно нашенским стал.
А Упан тем временем ножом шкуру соскребал со своей можжевелины. Калека перекатился на спину и напрягая живот приподнял голову… В спину тут же привычно стрельнуло, но уже не такой сильной болью, что вчера. «А и получилось!» – обрадовался. Затем снова сам устроился затылком на полешке, схватил нож и заскользил им по своей палке…
Он увлеченно работал и поглядывал на товарища. Тот, время от времени косился на Ольму и старался повторять все то, что делал бывший охотник с можжевеловой палкой. Ольма задумался, вспоминая вчерашний поход в лес, и все, произошедшее с ними обоими.
– Слушай-ко, парень, ты давеча говорил, что что-то с тобой случилось, когда за тесалом бегал? Чего было-то? – как бы, между прочим, спросил Ольма.
Упан встряхнул густой челкой, сдул с носа прилипшую тонкую можжевеловую стружку и взглянул на бывшего охотника.
– Да… Чудно все это… Со мной, то есть внутри меня, чудеса обычно творятся, но так-то я привык, что не как все… Так, они, енти чудеса и вокруг вздумали приключаться, – хмыкнул парнишка и продолжил рассказ. – Ну, как в первый раз полаялись с тобой у опушки, так я и побежал, бегу, но чую зверь мой во мне ворочается злобно и наружу просится… Бегу и вспоминаю, что в стороне от тропки бочаг старый с черной водой стоячей есть, думаю надо голову туда обмакнуть, остыть… Ну, и свернул в сторону. Вдруг, потемнело вокруг, листва зашумела, кусты вкруг зашаталися! Ну, точь-в-точь, как тогда, когда мы с дедом-суро на лесную делянку ходили за малиной. Мне тогда дед сказал не пужаться, то леший шалит. Не любит, когда к нему другая сила приходит. Так и в этот раз – один в один было. Только шумнее – треск, там, громкий шорох и будто носится кто мимо меня меж стволов, а я глазом ухватить не могу, хотя обычно у летящего стрижа перышки на голове счесть могу… Ага… Я шаг замедлил, но иду дальше к бочагу. Вдруг, у самой воды пень весь поросший мхом вмиг вырос, аккурат с меня ростом, заскрипел на корнях-ходулях и стал поворачиваться вкруг себя. Скрип, да шум еще громче стал, еще раскатистее… Заухало, захохотало оно и из глубокой щели в грубой коре на меня будто две гнилушки болотные сверкнули, а потом словно из глубокого дупла раздалось «Здоров будь родственничек». Я ему: «Да, какой же ты мне родственник? Ты, вона, мхом порос, а на мне шерсть растет, да и та редко». А оно мне и вещает: «Лучше бы ты вовсе шерстью зарос, роднее б стал, глядишь, на четырех лапах бегал, да правильной звериной жизнью жил бы.» Я чуть в самом деле шерстью не порос, разозлил меня этот пенек трухлявый. Говорю ему: «Не тебе решать, как мне жить! Да и я сам выберу, что для меня правильно! Ты вообще кто таков, коли меня поучаешь? Скажу суро Кондыю, он на тебя вмиг огневиц нашлет!» Тут же в ответ рыкнуло на меня полено гнилое и скрутилось в жгут, точь-в-точь, как девки на реке белье выжимают. Заухало филином, да тут же своим уханьем и подавилось. «Ладно, – сказало оно уже потише, – родственничек, коли не господин мой, я б к двуногому бы и за два леса не подошел бы! Сузём выжигаете, деревья рубите, зверя бьете, охальники! Да послал меня господин старшой, гостинец тебе передать». «Что за господин старшой, – спрашиваю, – такое же чудо, как ты?» Вскрикнула деревяшка тогда испуганно: «Замолчи, не гневай его! То прародитель твой, то сам Волохат-бог, звериный батюшка! И ты ему посвящен был еще, когда в мамкиной утробе зарождался!» Замолчал пенек, а я возьми и спроси его про подарок. Что, мол, за подарок мой кровный пращур мне отвесил? Деревянный дед тогда взял и разверз свою пасть, которая и впрямь была глубоким дуплом и оттуда филин вылетел, широкими крылами хлопая и неся в лапах суму лыковую. «Вот, – говорит, – кошель из лещины лесной, он пуст, ровно орех без зернышка. Но! Коли беда к тебе придет, достать из него сможешь то, что тебе в беде твоей поможет. А пока в сердце твоем мир, да лад он пустой будет.» Филин бросил сумку в траву близ меня и в чаще скрылся. Задумался я, буйну голову поскреб, думаю, какие у меня беды могут быть? Уж большей беды, что со мной зверь мой нутряной делает и нету, так я и сам с ним справляюсь, без всякого чудодейства, спасибо деду – научил… – Тут Упан зарделся, словно девка и продолжил, – А потом я про тебя вспомнил, может, эта ореховая котомка тебе поможет в твоей беде, да и взял ее. Правда, не утерпел и спросил у пенька, что ее до беды так и таскать с собой пустую? Чего в нее класть, говорю? А эта коряга мне проскрипела «Да хоть грибы складывай, всяко польза» сполз в бочаг и растворился, как и не бывало, да так ловко, что в бочаге даже воды не колыхнулось.
– Ну, и где твоя чудо-котомка, хмыкнул Ольма, ты ж на поляну только с тесалом приволокся.
– Дык, я ее у суро в клети оставил, не волохаться ж мне с ней по лесу?
– Ну, и шиш с ней, – махнул рукой Ольма. Поворочался с боку на бок и перевернулся на живот.
И так за разговорами и дружескими подтруниваниями, да за работой день склонился к вечеру.
***
А в селище, в сей же день поутру, пока около Ольминого шалаша двое друзей работали над будущими луками, рыжая Санда, Ольмина мать собиралась навестить суро. Расстелив на столе кусок холстины, она аккуратно сложила туда полть запеченной курицы. «Вторую половину ребятам завтра надо отнести, хотя, им полти и не хватит, поди. Ольма-то мужик почти, раньше-то по лесу набегается, все в дому подъест… Нет, надо им ввечеру целую запечь. А суро я пару лепешек возьму, да крынку молока, ему и хватит старому. Так то поесть, – сама себе мысленно ответила Санда, – А, ведь я с просьбой иду, надо ему что подороже отнести, чтоб богам не стыдно было отдать. Придется короб брать, а не узелок.» Сняв с крюка большой добротный короб, сплетеный ещё покойным мужем, Санда уложила в него помимо съестного еще отрез льняного выбеленного на снегу полотна и подумав сунула туда же старую, но еще крепкую лосиную шкуру.
Ремни тяжелого короба давили на плечи, когда тяжело ступая, хоть и еще не такая старая, но уже согнутая заботами рыжая Санда пошагала к лесу, туда, где у старого болота берёг селищенское капище старый суро. «А старый ли? – Подумалось Санде. – Седая борода на возраст особо не указыват, руки его крепки, походка твердая… Горбится только… Так он вон, какой высокий, будто и не наш… Мой Шоген тоже большого росту был, ну, так он пришлый же. Наверное, и Кондый пришлый… Хотя сколько себя помню – он всегда был. И мать его моя помнила таким же, и даже бабка. Будто вечный он. Не простой человек наш суро, — вздохнула Санда, — а с чего ему простым-то быть? Вон, какую заботу на плечах несет. Всех нас от нечисти оберегает, от бед остерегает, в будущее смотрит. Надо его не только о здоровье сына моего просить, но и о будущем повыспрашивать. Я ж хочу, как каждая баба для своего дитя хочет, чтоб жизнь ее детей лучше своей сложилась… А у Ольмы, вон как обернулось… И Шогена нет… Он бы не дал сыну глупость совершить. Да что уж поделаешь, прибрали моего любого боги и ушел он в духов лес охотиться, ждет, поди, меня… Да не могу я пока. Пока Ольмушку на ноги не поставлю…»
Так, сама с собою неспешно беседуя и вспоминая прошлое, Санда вышла на полянку, где стояла избушка Кондыя. Тот уже сидел на ступеньках, будто ждал её.
– Да, я тебя ждал, рыжая Санда. – Улыбнулся и ответил на невысказанный вопрос арвуй. – Думаешь, откуда я знал, что придешь? Так я с предками часто беседую, вот, как с тобой нынче, они-то мне и рассказали. Ну-ко, дай угадаю. С просьбой пришла, да не с одной, – сощурил смеющиеся глаза Кондый, обходя вкруг женщины, – еще и судьбу пытать хочешь, так?
Санда во все глаза смотрела на него и дивилась, как тот угадывал все то, с чем пришла она к нему. Потом запоздало кивнула:
– Да, все так, мудрый суро. Просьба у меня одна, но большая и любопытство у меня есть, но важное. С ними и пришла.
– Ну, проходи в избушку, в ногах правды нет. Посидим рядком, да поговорим ладком. Давно ко мне гости не хаживали. Да, давай сюда короб свой, ой и тяжел, как же ты его дотащила, милая? – Ласково глянул на женщину волхв.
И от этих слов и мягкого взгляда замерла немолодая Санда, давно ее так не называли, и не смотрели так тоже давно. Тоскливо ей одной было и тяжело. Все заботы о сыне, когда уж по сторонам смотреть, да ласковых слов ждать?
Поднявшись по крепкой лестнице вслед за Кондыем она оказалась в светлой просторной горнице, с непривычным ей деревянным полом, который мягко поскрипывал под ее шагами.
В это время арвуй поставил ее короб на лавку и скомандовал:
– Ну, что застыла, хозяйка, показывай, что принесла в коробе, да и в душе?
– Не хозяйка я здесь, мудрый суро, ошибся ты, я всего лишь гостья… – смущенно заправила выбившуюся непослушную прядь под платок женщина.
– А это, как посмотреть, милая, – Санда снова замерла от приятного слова, а Кондый продолжил, – нам в уста слова боги вкладывают. Кто знает, может, я тебя в хозяйки позову, не забоишься, а, рыжая Санда? – озорно подмигнул мудрый суро застывшей у порога женщине.
А та, как в молодости, будто и не было замужества и нескольких неудачных родов, и смерти мужа, и увечья сына, будто ничего этого не было, так же озорно стрельнула глазом в сторону немолодого мужчины:
– Я бы и пошла, да боюсь, что такая старая хозяйка тебе в тягость будет. – Дурея от собственной смелости распрямилась Санда и гордо вздернула подбородок, отчего непослушная яркая прядь снова выскользнула из-под льняного платка.
***
Несколько дней уж прошло с той поры, как Санда рыжая к суро сходила, да с ним говорила. Да только кумушки местные стали подмечать, что Сандина спина снова, как у молодки распрямилась, лопатки за собой и плечи потянули, отчего ее не такая уж и маленькая грудь стала часто ловить на себе взгляды даже молодых мужиков. А глаза, глаза-то, будто светились маленькими солнышками. И потускневшие было рыжие волосы снова заполыхали ярким пламенем и уже не прятались под платком хозяйки, свободно рассыпавшись по плечам и повязанные яркой тесьмой. Кумушки поджимали губы – как это, простоволосая ходит. А той было наплевать на их кислые лица – она вдова свободная и сама себе хозяйка. Раньше Санда еле ноги передвигала, согнувшись от тяжкого горестного бремени, а теперь, словно легкая птичка порхала и все дела у нее спорились. Но самое главное дело было то, которым ее Кондый озаботил – это сапоги для Ольмы. На руки, да на ноги. Да, только где кожи взять, да как скроить, да как пошить? Вертелась по хозяйству, а саму всё думы одолевали…
Вдруг, во двор забежал голозадый мальчишка: с хохотом, да оборачиваясь, он убегал от своей мамки Еласки – это был самый младший сын Вагана, жившего по соседству. Еласка грозно нахмурив брови, но сама еле сдерживаясь от смеха, нарочито строгим голосом выговаривала :
– Ах, пострел! Вот, ужо, я тебя крапивой! Кому говорю, мыться пошли, вода стынет! – изловчилась, да и поймала неслуха. – По добру, соседка! – обратилась она, улыбаясь, к хозяйке двора. – С утра солнышком сияла, а посейчас тучки на лице хмурятся. Что за забота гложет?
– Да забот, полный огород! А, ежели, по серьезному мерекать, то задумала я изготовить Ольме сапоги на ноги, да на руки, а как подступиться к этому делу, ума не приложу.
– А ты и не прикладывай, я Вагаше своему скажу, он нибудь что и придумает!
Ровно через неделю Санда отправилась к Ольминому шалашу. В корзинке, кроме куринной запеченной тушки, да десятка вареных яиц, да свежего хлеба и крынки молока лежали завернутые в чистое полотенце сапоги для Ольмушки. «Для рук и ног», – про себя довольно добавила Санда.
Не доходя до полянки, где в начале лета вырос Ольмин шалаш, Санда услышала раскатистый задорный смех на два голоса. В одном из которых с удивлением узнала голос Ольмы. Обрадовалась! «Видать, выздоравливает!» – и прибавила шагу.
Ольма с чернявым приятелем смеялись над очередной общей шуткой и остругивали можжевеловые заготовки для кибити. Вдруг высокая трава зашуршала и на полянку к шалашу вышла статная красивая женщина, не молодая, да и не старая. Пушистая длинная коса сияла оранжевым золотом на солнце, а от голубых задорных глаз разбегались добрые лучики.
– Ольмушка, чему вы так звонко смеялись, поведай? – спросил такой родной мамкин голос.