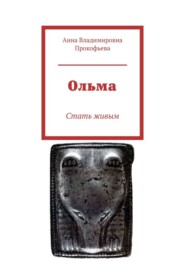скачать книгу бесплатно
– Мама?! Ты ли это? Какая ты красивая стала! Тебя ворожея заворожила, что ли? – ошарашенно, пробормотал Ольма. Он смотрел и не узнавал в этой моложавой женщине свою так рано состарившуюся мать, которую он привык видеть с тех пор, как ушел в Духов лес отец Шоген. Мать довольно улыбнулась и поправила свою привычно непослушную прядь. А Упан отчего-то хмыкнул. Он уже не раз видел, как не единожды приходила к суро Санда. И с каждым разом возвращалась от Кондыя все красивее и моложе.
– Ну, допустим, эта «ворожея», вернее «ворожей» сам не один год уже с плеч стряхнул с помощью твоей мамки. – вставил свое слово Упан.
– Кто он? – гневно выдохнул Ольма и добавил, повернувшись к матери, как припечатал, – А как же папка наш? Ты что же, его забыла?! – почти выкрикнул он.
Все так же лучась счастьем и зрелой красотой Ольмина мать опустилась на колени напротив и, расправив подол, мирно произнесла:
– Что ты, сынок! Как можно отца твоего забыть?! Что ты! Я жду того дня, чтоб увидеть отца твоего в Духовом лесу и пойти с ним рука об руку. Но приснился он мне давеча и сказал, что пока я жива, грустить не должна и что Кондыю он меня доверить может… – сказала и заалела, как девушка.
– Кондыю?! Он же старый, ма! – возмущенно выдал Ольма.
– Так, и я не сильно молода! – щелкнула легонько сына по носу и сказала, посмотри лучше, какую обновку тебе Ваган смастерил! Ну, и мы с Елаской тоже постарались. Чтоб пока выздоравливаешь, руки и ноги в кровь не сбивал. Кондый сказал, что ты обязательно на ноги встанешь и будешь сильнее и ловчее прежнего. Ему предки поведали… – Говоря это все она споро разворачивала большой сверток из ткани земляно-зелёного цвета, который оказался плотными штанами, где широкая мотня застегивалась на частые деревянные кругляши, а не затягивалась, как у всех на веревочку. На коленях были нашиты не в один слой кожаные заплаты. И на заднице тоже. Рубаха также имела на локтях и на пузе кожаную броню. Но! Ко всему этому прилагались сапоги, целых три! Один большой на ноги и два поменьше на руки. Ольма глядел на обновки и улыбался.
– Спасибо, ма!
После чего был крепко обнят любимой мамкой, искупан с помощью Упана в теплой речке и облачен в новые одежды.
– Мы с Елаской скоро тебе еще порты с рубахой сварганим на смену…
***
Ладные получились кибити будущих луков. Можжевеловые планки приятели ошкурили за разговорами, да огладили. Но требовалось мастерить луки дальше.
– Давай-ко, мил друг мой, пуйка, сей день займемся добычей другого дерева… – Завел Ольма разговор с утра, едва проснувшись.
– А скажи-ко, мил друг мой, ушанка, – подхватил растянувшийся в мягкой траве Упан, – разве можжевелины мало? Не пора ли тетиву ладить?
– Нет, друг мой, котырка, – Ольма еле удержался от ребяческого желания показать мальчишке язык, – можжевеловая планка, это только присказка, сказка впереди… Нам в ту сторону надо, – махнул рукой Ольма куда-то, – Поползли туда. Тьфу! Ты иди, а я поползу. Готовые планки возьми, и нож не забудь. – И Ольма, на удивление ловко пластаясь пополз, быстро скрывшись в высокой траве.
– Эй, ты куда, так быстро? Куда, хоть идем? И зачем? – и бросился догонять Ольму.
Ольма шуршал высокой травой, споро направляясь в сторону веси. – Мы в бол идем, что ли? – продолжил на бегу Упан.
– Не, черноголовик, я нынче к людям ни ногой, не хочу… – печально вздохнул Ольма, остановившись и поджидая его. До отворотки дойдем и направо, вдоль реки двинем…
– А что там? Далеко, поди…
– А там, пуйка, на мысу березки, там берегиня живет наша… Кстати! Мы ж ей подарков не взяли! Что надо-то? Дай-ко вспомню… Хлеб, сыр, яишня… Девки завсегда, слышал, к березкам носили, когда кумиться бегали… Мы все с тобой поели, что мамка приносила, нет у нас ничего… Чай, возвертаться придется… Мамку ждать, пока придет…
– Да, не надо ждать! Я сбегаю до твоей мамки, попрошу всего, а если не к ней, так к Ошаю загляну, не откажет белоглазый, – хихикнул Упан. Ольма задумался. Если идти до бола, это крюк какой, а если не идти, когда они еще до берез доберутся?
– Хорошо, сбегаешь до мамки, я на прямки поползу, а ты выходи из селища той тропкой, что в поля ведет, мимо них, акурат на развилке ждать тебя буду.
– Да, ты не жди меня, ползи, я тебя догоню. Найду по запаху. Почую, душистый ты мой, – улыбнулся Упан.
– Это я душистый?! Ты чего опять обзываться придумал, я ж в реке моюсь, чтоб не смердеть! Да и не хожу под себя уже, – с укоризной стал оправдываться парень.
– Не гневайся, друже, для меня кажный пахнет. От мужика и до козявки малой, кажный пахнет по особому. Ну, вот, как цвет волос и глаз у каждого свой, так и запах тоже свой, особенный. Ладно, побёг я… – и рванул в сторону веси.
– Стой, как ты землянку мамкину найдешь? Не сказал же я, – крикнул в спину Ольма.
– Да по запаху же, – не оборачиваясь ответил парнишка и скрылся в высокой траве.
Ольма вздохнул и двинулся дальше. Раньше, когда он ходил ногами, на красоту высоких трав не обращал внимания. А сейчас его голова была ниже высоких метелок пырея и он вдыхал густой застоявшийся аромат трав и луговых цветов, смешанных с запахом горячей, нагревшейся под солнцем земли. Отсюда снизу стебли травы представлялись деревцами торчащими из сухой крошащейся земли. Оказывается, земля под этим душистым разнотравьем не была плотно укрыта зеленым ковром, а редко торчала толстыми стволиками стеблей, между которыми топтали тропинки муравьи и время от времени пробегали деловито жучки разных цветов и величин. «Везде свой мир, куда ни глянь – все спешат, торопятся жить. Наверняка у них там свои болы, а в них свои буи и суро…» Выше, среди стеблей путались редкие паутинки, а в развилках острых травяных листьев видны были комки слюнявой пенницы. «Мамка от нее огород чесноком прыскала,» – вспомнилось Ольме. Вспомнилось, как он, еще не прошедший пострига, отсчитавший весен пять, таскал тяжелые бадейки с чесночным настоем мамке в огород. Мамка хвалила, и ласково ерошила его пушистые волосы, а потом, шлепая легонько по голому заду, отправляла за околицу гулять к таким же, как он, в одних рубахах, безштанным друзьям… Задумавшись, Ольма поймал себя на том, что лежит на теплой земле, облокотившись подбородком на сложенные руки и наблюдает, как трудолюбивые муравьи деловито тащат соломинку. «Что-то я замечтался, будто красная девка, надо ж идти, а то этот медвежонок меня опередит». И снова размеренно переставляя локти, которые надежно были защищены новой сброей и не ощущали неровности твердой земли, пополз прочь от развилки, вдоль берега. «Сейчас коли шел бы ногами, видел бы Межу, по правую руку, да луг, на котором костры на Йолус и Кокуй жгут. Тогда, когда коло ясное ход свой меняет с зимы на лето, да и наоборот» – полз, размышляя охотник. «Упан притащит подарки берегиням, достанем каждому по березовой планке, да взад возвернемся. Лишь бы только принес всего, чего надо, не то русалки осерчают… А нож-то я взял? – забеспокоился Ольма, – Да нет, взял, эвона на спине колтыхается.» Это ему Упан помочь для ножа смастерил из куска коровьей кожи, которую выменял у Ошая на целый пучок перьев дятла, что сам же и выдернул, когда пробовал охотится в лесу. Об этом он с хохотом рассказывал Ольме, живо описывая, как бестолковая красноголовая птица скакала от него по стволу сосны вместо того, чтоб улететь. Видать весь ум отбил, пока личинок из-под коры выколачивал. В конце концов догадался и упорхнул, оставив в крепкой ладони Упана пучок пятнистых перьев из хвоста. И после удачной мены Упан притащил узкую крепкую полоску кожи, связал кольцом, приделал хитрую петлю для ножа. Потом помог увечному охотнику натянуть ее через плечо так, что нож теперь болтался точно между лопаток.
Так размышляя, Ольма слегка утомившись от дальнего пути, добрался до следующей повертки на весь. Тут тропинка близко подбегала к берегу реки, поэтому спокойно несущая воды Межа отгораживалась от любопытных глаз гибкими зарослями ивы и густым камышом. Ольма не увидел в дорожной пыли, что покрывала вытоптанную развилку, следов босых мальчишьих пяток: «Видать, еще не прибёг!», поэтому решил отдохнуть, чуть сдвинувшись в тень, что давали несколько широких лап лопуха. Лопух рос здесь на развилке давно и был поистине богатырем среди сородичей. Мощный одревесневевший ствол поддерживали выпирающие из земли крепкие корни. «Лопух… Корень его мама Санда всегда запаривала, чтоб волосы мыть… У мамки завсегда были густые, блестящие и крепкие косы, – подумалось Ольме, – помнится, я маленький даже прятался в распущенных мамкиных волосах, как в пушистом облаке, когда мама наклонялась надо мной, и обнимала, а потом целовала щеки и нос… Как же здорово было тогда, когда я играл пальцами в мягких ярко-рыжих прядях, а мамка притворно хмурилась и рычала мишкой…» – с сожалением вздохнул Ольма, ведь его такое сладкое и уютное детство было не сильно длинным. – «Все вырасти хотел, время гнал, когда же, когда же?! Когда в силу войду, когда первого зверя добуду, когда с мужиками на охоту пойду?» В мамкину сторону и не смотрел вовсе и отпихивался сердито, когда та пыталась украдкой приласкать единственного любимого сына. При этих мыслях парень залился краской стыда, щеки заалели. А перед глазами румяное мамкино лицо из далекого детства улыбалось ему в обрамлении ярких рыжих прядей, будто солнышко с неба смотрело и грело его своей любовью…
И вдруг Ольму озарило! Ведь, только благодаря ей он родился на свет и вырос в лучах ее любви и заботы, только благодаря ей он остался жив после неудачной охоты. А она за это заплатила сединой в волосах и натруженными руками, да сгорбившейся спиной. «Помогать ей надо было, а не себя болезного жалеть. Себялюб несчастный!» – в сердцах выругался сам на себя Ольма.
Но теперича-то поменялось всё! Может, увечье уроком стало, чтоб людей кругом замечать стал и уважать, а не токмо себя одного перстом считать. И еще теперь у него есть друг. Думается, что настоящий. Ведь раньше, когда он был в силе, его лишь боялись за силу и гневливый характер. Друзей не было, а только прихехешники, как говаривала мама Санда… И она была права… Как всегда права…
Тень от огромного лопуха сдвинулась на пол ладони и Ольму от его размышлений оторвал приближающийся топот. А через несколько мгновений появился и сам Упан с объёмистой котомкой в руках.
– Ольма! У тебя мамка такая добрая! Мне бы такую мамку! Только узнала, что я от тебя – насобирала всего, чего просил, даже сверх того! Еще сунула полполти курицы запеченой и узорчатое полотенце с лентами. Курица нам, полотенце берегине, чтоб яйца разложить. Яйца, правда вареные, а не жареные, но кока Санда сказала, что и они подойдут для берегининого угощения, облупить их только надо от скорлупок. А ленты русалкам, что на березовых ветках качаются. Так! Все рассказал, ничего не забыл, вроде – тараторил, ковыряясь в котомке Упан. – И зря ты на нее ругался как-то, хорошая она! Мне б такую, у меня ведь, вообще никакой нет… – тихо выдохнул в сторону Упан.
– Твоя правда, – вздохнул в ответ Ольма, – зря я кобенился… Ладно, оставим это. Давай дальше двигаться, а то солнце ужо высоко, надо до сумерек успеть… А то вместо берегини русалки только защекочут, да к водяному утащат, никакая Куштырмо-прекрасная не поможет…
– Куштырмо? – протянул Упан, – А кто это? Ведунья? Красивая? Как наш суро? Ведунья, как, наш, суро. – Уточнил с расстановкою Упан. – Хотя суро тоже красивый, по своему. Мамке твоей дюже понравился нынче… – тихо добавил он. Ольма это замечание пропустил мимо ушей и начал рассказ :
– Не, не ведунья – это богиня-берегиня… Да-а. Говорят, раньше она на самом деле жила, ее потом на небо позвали за красоту ее и любовь, что испытала. Наши девки о такой же любви мечтают, каждая, – хмыкнул Ольма, – мне, бывало, Томша о ней, о Куштырмо, рассказывала, – сказал и осекся, крепко сжав челюсти. Мысли о бывшей подруге сердешной все еще бередили душу молодого увечного охотника. Упан глянул на замолчавшего приятеля, но тревожить его подробностями не стал, поэтому продолжил:
– Так расскажи про Куштырмо, любопытно мне…
– Про Куштырмо… – покатал слово на языке Ольма. – Слушай. Давным-давно, в стародавние времена ее Костромой-Костромушкой кликали… Мне дед моей мамки сказку эту сказывал. Давным давно, когда он молод был и еще не ушел с дедом нашего нынешнего вождя на новое место, жил он и от матери своей слышал, что в соседних селищах, отсюда дальше на полдень жили два разных рода. Один водил сильный Семаргл. Сём-Оргол по-нашему, по здешнему. Их род, семарглов-то, пришел совсем издалека, с полдня, из знойной земли, так их пращуры сказывали. Да только от зноя в них только черный волос остался, да темный глаз, почти, как у тебя. А так один в один, как мы. Слушай-ка, а не их ли ты кровей? – глянул снизу вверх на Упана охотник, – Хотя, нет, не ихний ты, у тебя кожа светлее, а у семаргловых даже в зиму словно на солнышке запеченная была. И баской был воин Семаргл, брови темные, ресницы густые, кудри темные, волнами тяжелыми по плечам стекали… Но не красой был известен Семаргл, а нравом горячим, да удачей воинской. Настолько удачлив и силен был Семаргл, что стоял на страже всех земель ближних целыми днями. Но раз в год, когда урожай бывал уже собран и разложен по закромам, уходил со своего поста воинственный Семаргл, чтоб отдохнуть от тяжкой службы. А в соседнем селении, у вождя Богумира и его жены Славуни была красавица-дочь Купальница. Среди сестер своих отличалась такой красотой, что днем затмевала ликом своим свет дневной, поэтому в ясный день дома сидела, чтоб не смущать девушек и само солнце. И выходила за порог только при свете Луны, чей мягкий свет делал нежной ярко-обжигающую красоту Купальницы. И грустила она, что ночью, кроме Луны никто с ней не дружит, не смеется, песни не поет. Жалко стало Луне девицу и попросила она русалок с девушкой хороводы водить и подружками ей стать. Так и проводила Купальница лунные ночи в хороводах русалочьих, да грустных и нежных песнях на берегах рек и озер. И вот, однажды…
– Ты ж мне про Куштырмо, то бишь – Кострому хотел рассказать, а тут все какие-то другие имена слышатся. Семаргл, Купальница… Богумир какой-то…
– Экий ты нетерпеливый! Это только присказка, сказка впереди! Идти еще не близко, успеешь еще и о Костроме наслушаться. – Хмыкнул Ольма. На что Упан только глаза закатил. Ольма озорно разулыбался, но продолжил. – Так вот. Идет Семаргл со службы своей ратной, акурат по берегу речки, а уже смеркалось и все люди окрест по домам разбрелись отдыхать от дневных трудов и забот. Шел воин и думал о том, что несет он ношу тяжкую да стережёт покой людской, а сам-то один одинешенек ходит, бобылем живет. Ведь из-за службы ратной обережной ни минутки свободной, ни мгновения, чтоб на дев прекрасных посмотреть и себе достойную в пару выбрать. Шел он так по тропинке, размышлял, и вдруг услышал песню девичью. А голос был – заслушаешься, будто колокольцы, да, бубенцы мелодию нежную и грустную выводят. А песня эта дивная с берега доносилась:
«Русы косы расчешу,
Луны-матушки спрошу —
Ай, и где мой милый,
Где же мой желанный?
Вы, русалочки, ведите,
Вы любовь мою будите.
Спит ли витязь мой
Под крутой горой?
А не спит, ведите к броду,
Не пускайте его к дому…
Алы ленты развяжу,
Гребнем кудри расчешу,
Кудри милого тяжелые,
Словно речка долгая…
Расчешу я темны волосы,
Заворожу голосом…
Только милый не идет,
Мне подарки не несет…
Видно, лишь русалкам,
Меня бедну жалко…» – жалобно вытянул мелодию грубоватый Ольмин голос.
– Хорошо поешь, жалобно. Может, в шуты пойдешь песни петь? По селищам?
– Ну, тебя охальник, – надулся Ольма, – так мне Томша раньше пела, когда на вечерней зорьке за околицу к реке ходили… – еле слышно добавил парень.
– Не вздыхай, будто болотная трясина, лучше дальше рассказывай.
Ольма, продолжая ползти по траве, снова вздохнул, но собравшись с мыслями нарочито бодро продолжил.
– Услышал, говорю, Семаргл песню эту и стал сквозь густые ивовые ветки к берегу пробираться, но увидел сквозь листву свет дивный прямо на самом берегу сияет, а вокруг него, света этого, русалки бледные хоровод водят. – Ольма говорил, а у самого перед глазами вдруг Томша стала, кожа ее белая в вырезе рубахи, и жилка синяя на шее часто бьющаяся. Вспомнилось, как его разгоряченное тело густая влажная трава холодила, когда Томша у него на груди лежала. Как давно это было. Где Томша нынче, а где он?.. – Вздохнул печально вновь и продолжил сказку. – Не удержался Семаргл, очаровал его волшебный голос, вышел он на свет призрачный, русалки от его огненного взора, так и прыснули в стороны, а облако нежного света осталось на поляне. И чем ближе он подходил, тем яснее проступало очертание тела девичьего стройного. И позвал воин: «Скажи, кто ты? Песнь твоя чудесная приворожила меня, повернись, глянь на меня, одари взором сияющим!» Тотчас повернулась к нему дева и увидел он глаза красоты небесной, под густыми бровями, щеки нежные с кожей прозрачной и губы, как лепестки шиповника лесного. Спросил, а сам уж ответ знал, что это возлюбленная его, и никак иначе. И таким горячим взором посмотрел в глаза девушки, что погасил печаль в ее светлом взоре и зажег ответный огонь в сердце Купальницы. Так и полюбили они друг друга. Но встречаться могли только два раза в год, когда Колоколнышко наше красное то на зиму, то на лето поворачивает. А к летнему равноденствию Купальница двух деток принесла. Кострому и Купало. Сестрицу и братца…
– Ну, наконец-то, до сути дошли, – буркнул Упан.
– До сути дошли, а куда надо еще не пришли. Дальше рассказываю. В день Кокуев, к реке прилетела птица чудесная по имени Сирин. И распевала она красивые песни. Но из тех, кто слушал те песни – тот забывал обо всем на свете и следовал за Птицей Сирином в царство Нави. Ну, все умные тогда люди строго-настрого запретили глупым и несмышленным деткам ходить на бережок, да птичку эту чудную слушать. Но не послушались Купала и Кострома предостережений своей матери Купальницы, тайком от нее побежали братец с сестрицей в чисто полюшко – послушать птицу Сирина, и от того приключилось несчастье. Забыли они про то что брат с сестрой. Судьба разлучила их – манко Купалу по велению темного Кощея гуси-лебеди вместе с птицей-Сирин унесли за тридевять земель. А Кострома спрятаться успела.
– Остановись-ка, друже! Что за зверь такой – темный Кощей? – удивился Упан.
– Упанка, а ты деда своего, суро, свет, Кондыя слушаешь ли? – спросил вдруг Ольма
– Слушаю, Ольмушка, слушаю, – подхватил шагающий мальчишка, – пуще птичек лесных чирикливых слушаю. А что?
– А, вот, то! Плохо, видать, слушаешь, коли про Кощея не знаешь ничего! – сказал Ольма. – А Кощей, – поучающе проговорил охотник, это сам-один наиглавнейший воевода навьего царства. По ночам его Чернобог приставил выезжать к нам в Явь, чтобы неправедно живущих прибирать. Чистит Явь от всякой дури и мерзости. Вот к нему и унесли гуси-лебеди Купалу.
– Что-то дед мне про этого Кощея еще не поведал. Подожди-ка, Купала, что ли настолько мерзкий был, али дурной, что Кощею понадобился?
– Да, не то что бы, – протянул Ольма, – но в те стародавние времена, не слушать старших, а тем более отца с матерью серьезным проступком было. Кострома с Купалою не послушали, Кощей, это учуял и прибрал несмышленыша. Ты, вот, суро тоже не слушаешь, а Кощей-то начеку! – зловещим голосом проговорил Ольма.
– Ты-то сам, много слушал, – тихо буркнул Упан.
– Чего ты там бурчишь, не слышу, – откликнулся Ольма.
– Да, да ни чё! Дальше сказывай, сказочник.
– Ну, так, вот… Прошло много лет. Кострома с тех пор одна в семье росла и выросла она писаной красавицей и очень ветренной. Не зря ж прозвали ее Куштырмо. Она так гордилась своей красотой, так похвалялась, что говорила – никто ей не указ. И никто красоты ее не достоин. Даже боги. А боги тоже не лыком шиты. Долетели и до них эти неуважительные слова.
– Ну, да, ну, да! – подхватил Упан, – Кощей на страже, начеку! – Но Ольма невозмутимо продолжал:
– И вот однажды Кострома, гуляя по берегу реки, сплела венок. Она хвалилась, что ветру не сорвать с ее головы венок. Что, де, ветер не посмеет ее прекрасных волос даже дыханием своим коснуться, не то что сорвать венок. А издавна известно, что если венок, сплетенный на Кокуй, останется на голове девы, то она не выйдет замуж. За похвальбу боги ее наказали. Ветер дунул, да, и сорвал венок и унес на воду, там его подобрал Купала, как раз проплывающий мимо в лодке. Он же не помнил кто он и откуда, да чей сродственник. Плыл он на лодке, увидел в воде венок, да и поднял его. А по обычаям нашим, сам знаешь, если пуйка возьмет в руки венок, сплетенный девушкой, то обязан был на ней жениться. Купала и не возражал – очень ему приглянулась прекрасная незнакомка. И ведь так случилось, что и Кострома полюбила этого юношу с первого взгляда. Сыграли они свадьбу. И лишь после этого боги сообщили Купале, что женился он на собственной сестре! Такой позор можно было смыть только смертью. Горевала мать Купальница, плакала, что не зря детей своих тогда упреждала. А Семаргл грозно гневался на детей беспутных. Бросилась тогда Кострома к омуту речному глубокому, нырнула в него с головой, но не утонула, а превратилась в лесную русалку Мавку. Погиб и ее брат, не вынесший позора, ринулся в костер. Месть богов удалась, но мало было в том для них радости: вышла она слишком жестокой. Небожители, раскаявшись, решили вернуть Купалу и Кострому к жизни. Но вернуть им вновь человеческий облик не получалось, а потому превратили их в цветок Купала-да-Мавка, где желтым, огненным, цветом сияет Купала, синим, как придонные воды лесного озера, – Кострома-мавка. Я эти цветочки всегда Томше из леса носил, да она ими игралась только, а потом вялые под ноги бросала… – грустно закончил Ольма.
– Да, печальная история… И чего вы все в этой любви нашли? Цветочки, песенки. Плыл, да плыл бы, Купало мимо. И все бы живы остались и богам бы совестно бы не было.
– Сильно мудрый ты, Упанище, смотри, как бы бородища седая не выросла, как у суро. Ну-ка, наклонись-ка пониже.
Мальчишка присел на корточки и наклонился к Ольме, а тот пальцем, испачканным в пыли поскреб подбородок Упана и произнес, сощурив глаза, будто что-то углядел:
– Смотри-ка, точно уже проклевывается, седая, густая и шелковистая, скоро косы плести будем и ленты вплетать, будто веткам в березы, – Упан ошарашенно и зачарованно слушал, а Ольма продолжал, – и будешь ты у нас березунь, или берёз, стройный да красивый, весь в черных черточках. – Уже еле сдерживаясь от смеха, хрюкнул тот. Возмущенный Упан резво отпрыгнул в сторону, нервно ощупывая подбородок.
– Если и вырастет у меня борода, то всяко не белая, а черная, как шерсть на загривке. -рыкнул мальчишка. – Скажи лучше, долго еще идти-то?
– А мы уж и пришли давно. Вишь, белоствольные вокруг стоят. Подружки твои будущие, – опять фыркнул Ольма. – Все молчу, молчу!.. Нам сначала к берегу надо, к русальему древу. Ты котомку-то мамкину не посеял?
Упан помотал головой и протянул сумку Ольме. На что тот легонько отмахнулся и сказал:
– Обожди, посмотри окрест, какие красавицы стоят.
Мальчишка поднял голову и огляделся. Березняк разительно отличался от сумрачного хвойного леса, что окружал старую, но такую еще крепкую избушку суро, близ капища. Стройные тонкие стволы белели, играя с солнечными зайчиками черными росчерками на прозрачной коре. Вскинутые вверх тонкие руки-ветки тянулись к выцветшему полуденному небу, ловили горстями солнечный свет, а потом падали тонкими кистями к земле, унизанные резными листочками, будто драгоценными каменьями. Эти тонкие ветки, будто густые зеленые русальи гривы кое-где были заплетены яркими лентами, оставшимися от девичьих кумок. А стройные ноги берез тонули в густой траве, где пышными шапками рос кочедыжник. Время от времени, среди ветвей, заметные только краем глаза мелькали прозрачные девичьи тела. А может и не мелькали, а только блазнились.
– Что, тебе тоже русалки из ветвей улыбнулись? Вона, как застыл. Будто дубина стоеросовая. Не придумывай деревом прикидываться, русалки, девки не постоянные, да еще грустные, скучно с ними, холодны больно.
– А ты почём знаешь каковы они? – встрепенулся мальчишка. – Обнимался с ними что ль?
– Не, я с ними не миловался, но мужики баяли… – фыркнул Ольма, – А я с Томшой токма пообниматься успел… Да когда это было, эх… Ладно! Нам не эти пигалицы нужны, а сама хозяйка березовой рощи – берегинино дерево. Пошли. Поползли, то есть. Нет! Ты – пошли, а я – поползли, – совсем запутался Ольма.
Они пробирались средь высоких папоротников и трав все глубже в березняк. И, вот, среди изумрудной и прозрачной тени берез, вдалеке яркими всполохами заблестела вода. А перед друзьями открылась широкая поляна, посредине которой, почти у кромки воды, в окружении молодых тонких красавиц берёз, стояла старая, почерневшая от времени, мать березовой рощи. Её длинные плакучие ветки свисали до самой земли, образовывая большой изумрудный шатер.
Огромное, могучее дерево тенью своей листвы закрывало весь затин поляны, а среди ее вислых ветвей, можно было бы заблудиться. Раздвигая прозрачные зеленые занавеси они пробирались к центру поляны, где, не доходя до ствола шагов пятнадцати, им открылась поросшая низкой густой травой прогалина, что мягким зеленым ковром устилала все подножье старой березы. Густые колышущиеся ветки опустились у них за спиной, и они оказались как будто в огромной зеленой божнице, чей свод держал на плечах раздвоенный и потрескавшийся от старости ствол. А в развилке ствола, словно на на богатом седне, сидела девушка дивной красоты в длинной льняной рубахе. Ткань была настолько тонкой, что вовсе не скрывала красоты ее тела, а только подчеркивала ее. «Наши бабы так не ткут,» – подумалось Ольме. Невесомое полотно струилось по стройному стану, но плавные его изгибы прятались под плащом светлых с прозеленью волос, что стекали шелковистой волной с плеч и до самых пят. Босые ноги с белой жемчужною кожею дразнили и манили взгляды. В руках красавицы был гребень из резной кости, которым она медленно водила по своим волосам и вопросительно смотрела на гостей. Завороженные неземной красотой, друзья застыли было, но Ольма, будучи постарше и поопытнее, преисполнился важности и почтительно проговорил:
– Не серчай, Берегиня, что покой твой нарушили. – лёжа на земле он сделал попытку поклониться. – Делимся, чем можем. – Тут же дернул за штанину босоного Упана и прошипел, – Иди к березе подарки выкладывай, да не перепутай: сыр, хлеб и яйца. О, боги, – он закатил глаза с досадой, – мы ж яички не очистили! Девки Берегине яишню носят! Без скорлупы! – глухо бормотал сквозь зубы. – Выложи так, авось не обидится.
А сам, меж тем продолжил:
– Прими наши подарки искренние, поделись, просим, своим богатством. – Упан выставил угощение на растленное узорчатое полотенце прямо между черных узловатых корней в зеленую шелковую траву. После чего низко поклонился, как учил старый Кондый, коснувшись пальцами мягкой травы и, не удержавшись, продолжил вместо Ольмы, который хотел было вести речь дальше:
– Сытости тебе и радости, Берегиня, и вам жители лесные – травники, лешие и лесавки и всякая душа, что возле нашего шалаша. Примите наше угощение, не сердитесь за вторжение. Вместе пищу пригубим, вместе переночуем, а потом друзьями и расстанемся.
Девица бросила лелеять свои косы и, запрокинув голову, звонко расхохоталась. Просмеявшись, успокоилась и обратилась к Ольме, озорно сверкая глазами:
– Вы что же ко мне с ночевкой припожаловали? А приятель твой черновласый, побойчей тебя будет. Молодой, да ранний, вижу. И тебя тоже вижу. – Сузились строго берегинины глаза. – Где же охотник ярая сила твоя и дух горячий? Пошто с землей сливаешься, пластаешься, ввысь расти-вставать не хочешь? Раньше-то под моей березой горячи речи говорил и горячим телом траву обжигал. Да не один, а с девкой. Та трава аж от твоей страсти скручивалась-съёживалась, когда девку красную обнимал. Куда силу растерял-потратил?
Стыдно Ольме стало от слов таких, горячо щекам, а в носу от обиды защипало.