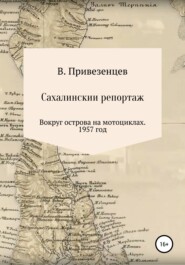 Полная версия
Полная версияСахалинский репортаж. Вокруг острова на мотоциклах. 1957 год
Оказывается, все горные породы радиоактивны. Одни в большей, другие в меньшей степени. Снаряд улавливает слабые излучения и сообщает о них наверх. Этот метод называется гамма-каротажем.
Радиоактивность пород можно усилить.
– Покажите, Николай Андреевич. Это любопытно, – обращается инженер к одному из членов партии.
Соблюдая все меры предосторожности, техник Чернов достает из хранилища пружинным пинцетом «источник» – латунную капсулу величиной со швейный наперсток.
– В «источнике» находится смесь порошков двух радиоактивных элементов – полония и бериллия, – объясняет Леонид Григорьевич. – Из головной части снаряда она бомбардирует породу мощными потоками нейтронов, вызывая интенсивное ответное излучение. Такой метод называется нейтронным гамма-каротажем.
Нам показывают ленту с чернильной кривой, полученной в результате исследования. После расшифровки она расскажет о расположении пластов пород.
Применение радиоактивных веществ в каротаже исключительно перспективно. Об этом свидетельствует и такой факт. Сейчас без помощи «мирного атома» не обходится ни одна разведочная скважина.
Оха – город, рожденный Советской властью. Далеко шагнул он за свое тридцатилетие! От Ситцевых палаток – до атомной энергии.
Собираясь в путь, мы опять перелистываем блокноты. А сколько нам еще не удалось увидеть?! Целые тома можно написать об этом городе.
И они, кстати, пишутся. Работает над книгой о сахалинской нефти Кирилл Иванович Гнедин, пишет книгу о нефтяной Охе местный старожил-журналист Николай Гаврилович Клименко. В добрый путь им, как и всем, кто полюбил этот замечательный город!
Из Охи срочные газетные дела звали нас в Рыбновск. На берегу Татарского пролива уже наступили горячие дни лососевой путины. Находиться в Охе и не побывать у соседей – у рыбновских рыбаков – было невозможно.
О мотоцикле, правда, тут не могла идти речь. Единственный вид транспорта, который может доставить вас на побережье, – самолет.
Рыбновское побережье влекло нас и еще по одной причине. Трудно добраться туда, и поэтому один из самых обширных районов острова остался в литературе о Сахалине по существу «белым пятном».
Нам самим приходилось раньше «путешествовать» только по книжке под названием «Остров сокровищ». Но не Стивенсона. В 1927 году над двумя знакомыми словами появилась русская фамилия – Н.В. Аболтин.
Это первая книга о послереволюционном Сахалине. Она написана уполномоченным ВЦИКа, председателем советской комиссии, прибывшей на остров в дни его освобождения от оккупации.
«Диким Сахалином» еще веет от пожелтевших страниц, ветром, тайгой, зверем. Увлекательно писал автор! В ожидании самолета на Рыбновск мы перелистали выписки из «Острова сокровищ».
«Рыбновский район: – 2163 человека, из них «русских» – около половины. Поляки, татары, армяне, эстонцы, осетины, немцы. Весь этот народ напоминает тех, кто во времена Московской Руси уходил на окраины, формируя первое казачество. Крепкий, отчаянный народ, искатели приключений, «фарта». Осели здесь потому, что дальше идти некуда – дальше «конец земли», недалеко бурлит вечно беспокойное Охотское море, а за ним вспахиваемый 12-балльными штормами и американскими супердредноутами «Тихий» океан.
… Мордуют гиляков дико. В деревне Лангари обитает знаменитый в районе охотник Тимошка. Вообразив себя туземным царем, объезжает стойбища и собирает «ясак». «Охотятся» так и другие».
Сохранилась ли какая-нибудь память о том времени на Рыбновском побережье, быть может найдутся старожилы – живые свидетели диких «казацких» лет? Это же музейный материал! То, что написано в книге, изданной в первые годы Советской власти, сейчас кажется далекой историей.
А самолета все нет и нет…
Но мы не сетуем. Знаем – пилоты охинского звена «малой авиации» в шутку называют себя «воздушными чернорабочими», если нужно, летают в самых сложных условиях, садятся на крошечные площадки. Нет такого места на северном Сахалине, которое не было бы им знакомо.
Анатолий Сергеевич Боровский летает на совершенно новой для звена машине-вертолете «МИ-1» – недолго: три месяца. Но за это время он успел проложить маршруты во многие места.
С реки Пакостной вывозил хабаровчанина-геофизика с острым приступом аппендицита. Летал к сопке «Белый медведь», что стоит на реке Вервиль, в Пильтун, в Москальво.
И часто очередной полет означает спасение еще одной жизни.
– Рожениц приходилось возить… – вспоминает пилот.
– И… благополучно?
– Вполне. Правда, каждый раз сажают, предупреждают: «Смотрите, как бы в полете не родила». А как тут усмотришь! Кто знает, может быть еще придется принимать роды в воздухе.
В пилотской комнате резко звучит телефонный звонок. Командир звена берет трубку, отвечает коротко, поднимает глаза на Боровского:
– Да… Есть… Будет выполнено.
Закончив разговор, он быстро заполняет листок с крупной печатной надписью «Санзадание», протягивает его пилоту:
– В Чайво…Заберешь больного Ежикова – ранение нижних конечностей. К вечеру успеешь вернуться.
Боровской кивает, глубже натягивает на лоб форменную фуражку и выходит.
…А вот и наши попутчики, сразу шестеро – бондари с «Правды», направляющиеся на путину со своей снастью – деревянными угольниками, молотками, хитрыми металлическими скребками и уровнями, завернутыми в мешковину.
«АН-2», неподвижно стоивший до этого момента на площадке, вздрогнул и взревел во всю мочь.
…Парнишка лет шестнадцати, видимо, впервые совершает воздушное путешествие. Побледнев, он крепко держится за металлическое сиденье. Но глаз от окошка не отрывает.
Редкая панорама развертывается за бортом самолета.
Плывет мимо отлогое побережье с бесчисленным множеством озер, бурыми и рыжими клочками чахлой тайги, песчаными косами и отмелями.
Залив Байкал, один из крупнейших на острове, выглядит сверху неприглядно: по тронутому застывшей рябью мелководью разбросаны коричневые кольца, полосы и пятна. То ли мели особенные, то ли заросли водорослей – не разберешь.
За причудливой формы Сладким озером видны первые домики на песке у моря. Началось побережье – Астрахановка, Люги, Кирпичики.
Сам Рыбновск – это три поселка, отстоящие друг от друга километра на два.
Самолет теряет высоту, крыши домов, цехи и трубы рыбокомбината проваливаются куда-то наискось. Поднимая веера болотной воды, «АН-2» касается колесами земли.
Вокруг площадки – только песчаные барханы, густой низкорослый кедрач.
Улицы и дома поселка тоже тонут в песке. Он переметает узкие деревянные тротуары, засыпает завалинки и крылечки. По утрам вдоль улиц мелькают лопаты – нужно «откопаться», словно после доброй пурги.
Даже пешком трудно здесь передвигаться. Лошадь тяжело тянет тележку на широченных, обитых жестью колесах.
Необычная почва родила своеобразный вид транспорта: собаки или олени тянут вдоль берега груженую лодку. По воде легче.
Да, это осталось – песчаные бураны летом, ветер с Петровской косы – жестокий, почти сказочной силы «петрач», выкидывающий на берег катера и кунгасы, зимой – пурга, да такая, что человек по нескольку дней не может попасть домой.
– Бывают забавные случаи, – рассказывал нам один местный человек. – Пойдешь, например, в гости к соседям. Да засидишься. Глянешь в окно, а там уж ни зги не видать… Тут начинают собирать всякую снасть: веревки бельевые, возжи, ремни. Связывают все вместе, конец – тебе за пояс и пошел! Точь-в-точь как ребятишки воздушный змей запускают… Кружит тебя пурга, хуже чем в водопаде. Коли с первого раза не найдешь свой дом, соседи тянут обратно в сени – отдышаться. А как доберешься до своей двери, дернешь условно: дома, мол…
Да, климат не изменился за сорок лет, остался тем же. Но остального – следа не найдешь!
Старейший рыбновский житель, бывший партизан, рыбак, награжденный орденом Ленина, Петр Андронович Ковалев, улыбаясь, вспоминает:
– Тимошку – «Сыча» я, правда, помню. Его еще «королем туземцев» называли… Жулик, действительно, большой был. Да только неинтересно сейчас все это. Все давным-давно прошло и песком перемело…
Окно в комнате дрожит под пушечными ударами ветра, и песчаная пыль, пробиваясь сквозь стеклянный переплет, тонким слоем ложится на подоконник.
Много лет назад покончило рыбновское побережье с «фартой», и даже Петр Андронович не вспомнит сейчас точно, в каком году это произошло.
Старый неводчик живет в Рыбновске сорок пятый год. Он принадлежит к тем людям, которые навсегда сроднились с побережьем.
Если составить специальную таблицу, в которой лососевые породы рыб разместятся по своей ценности, то первое место на Дальнем Востоке займет камчатская чавыча, а второе – рыбновская кета.
Осенью, гонимые могучим инстинктом, косяки крупных рыб направляются из Охотского моря в Амур на нерест. По мелководью они проходят мимо Рыбновска. Здесь лосося вылавливают десятками тысяч центнеров, когда он не потерял еще ни своей жирности, ни прекрасных вкусовых качеств. В этом и заключается секрет славы рыбновской кеты. Дальше к устью реки лосось будет другим, качеством похуже.
Рыбацкая страда на одном из старейших сахалинских промыслов так же горяча, как любая другая путина. Бесконечно наматываются на валы лебедок урезы закидных неводов, ночью в море горят прожектора на заездках, бьется на песке рыбья масса в сотни центнеров, плывет по гидрожелобам в цехи обработки.
Если бы можно было окинуть взглядом сразу все побережье, картина бы представилась необычная. Прямо на песке у воды стоят зеленого брезента домики – стан экспедиционников – рыбаков-колхозников из Углегорского района. Чуть подальше бригада закончила притонение невода. Летят в воздух фонтаны белой пены, в кутце беснуются тысячи крупных рыбин. Дальше на север ведут лов бригады прославленных рыбаков – Сердитова и Тян Дян Дюна.
Жизнь кипит и на море. По солнечной, тронутой сверкающими зайчиками водной глади снуют катера с кунгасами, шумные мотодори, доверху залитые голубоватым рыбьим серебром.
И всюду – над станами, заездками и пирсами, на которых стоят рыбонасосы, – красные флаги и довольные лица. План взяли, да не один!
С одним из главных героев нынешней путины мы познакомились на центральной базе. Нам представили его:
– Александр Лебедев, комсомолец…
Навстречу поднялся молодой парень в ватнике, с крепкой шеей, с широкими квадратными плечами, словно специально созданный для того, чтобы ловить рыбу на этом трудном берегу.
В канун путины комсомолец решил опровергнуть мнение старых рыбаков, утверждавших, что работать на заездке невыгодно. С бригадой, набранной из сезонников, он взял неслыханное до сих пор обязательство: выполнить два путинных плана и, впервые в истории комбината, сохранить на 75 процентов заездок – сберечь государству почти триста тысяч рублей.
Александр немногословен:
– А чего рассказывать. Поедемте на заездок – сами все увидите.
Через несколько минут мотодори отваливает от пирса и, стуча мотором, разрезает мелкую волну. Заездок начинает приближаться.
Это своеобразный деревянный островок на сваях, длиной в 120 и шириной в 10 метров. На одном краю стоит брезентовая палатка, на другом видна стальная улитка рыбонасоса.
Едва взобравшись по торчащей из воды свае на скрипучие мостки, Лебедев машет рукой:
– Начинай!
Рыбаки воротком поднимают сетку, запирающую вход в заездок. Несколько человек быстро передвигаются по мосткам, подхватывают дель деревянными баграми.
Вначале сеть кажется пустой. Но вот в мутной, желтоватой воде метнулась крупная рыбина, за ней другая, третья. Когда дель поднимают, направляя кету в садок, внизу все кипит, и даже доски заездка начинают мелко дрожать.
– Маловато для выливки, – замечает бригадир. – Шабаш!
Все возвращаются в палатку, где пышет жаром печка-чугунка, а под потолком горит желтый электрический огонек, – в рыбацкий дом.
Рядом с печкой на полу, через щели которого видны пробегающие внизу волны, стоит длинный стол, заваленный хлебом, консервными банками, мешочками с солью и костяшками домино.
За этим столом нам и рассказали историю нынешней путины с таким, действительно рунным, ходом кеты, которого давно не помнят рыбаки.
Бригада Лебедева твердо решила сдержать свое слово. Чуть свет двадцать пять рыбаков выходили в пролив, вколачивали в песчаное дно длинные сваи, сооружали «палубу», подъемные садки. Через две недели все работы были закончены. По длинному «крылу» на заездок протянулись электрические провода и линия связи.
Тишина на море установилась необычайная. Чуть дышала под солнцем могучая грудь пролива. И 25 августа, как молния, побежала по проводам с заездка Лебедева волнующая весть: "Пошла!"
В первый день взяли немного – десяток центнеров, но затем пошла «большая» рыба – 1500–1600 центнеров за сутки. Бригада работала без остановки, люди спали урывками, делали ежедневно до сорока переборок.
Переборка – выливка – сдача. И опять начинай цикл сначала. Вспыхнул над станом первый на промысле красный флажок – есть путинный план, 8500 центнеров первосортной кеты.
Один за другим отходили от заездка плашкоуты с рыбой к рефрижераторам, выстроившимся на рыбновском рейде. Применение плашкоутов вместо обычных кунгасов оказалось большой удачей, позволило сдавать рыбу только первым сортом.
Кета все шла. Люди валились с ног от усталости. Пример самоотверженной борьбы за рыбу показывали лучшие: Виталий Кашеутов, Юрий Талокин, Владимир Зайцев. Еще через четыре дня Александр сообщил в управление комбината: «Взяли второй путинный». Началась борьба за третий план.
Вслед за заездком Лебедева стали брать рыбу бригады закидных неводов. Комсомольско-молодежная бригада Александра Латуна при плане 900 взяла 2012 центнеров кеты. Перевыполнила план заездковая бригада Героя Социалистического Труда нивха Пойтана Герасимовича Чайки. Успешно вели добычу экспедиционники. Углегорцы рапортовали о выполнении квартального, путинного и годового планов.
Нелегко пришлось в эти дни «берегу» – механизаторам и обработчикам. Через неделю после начала путины комбинат принимал ежедневно по пять-шесть тысяч центнеров кеты. По две смены: стояло звено обработчиц Веры Оленник. Сама Вера при плане 800 нарезала до 3000 рыбин за смену.
Секретарь комсомольской организации центральной базы Леонид Егоров после рабочего дня собирал всех комсомольцев. Продавец и киномеханик, статистик и учительница, тракторист и машинистка выходили на посол.
Но рабочих рук все-таки не хватало. Новые сотни центнеров кеты плыли по транспортерам в цехи. Тогда по району прозвучал клич: «Все на обработку кеты! Пусть не пропадет ни один центнер улова!».
Вышли, действительно, все – от мала до велика. Резали, мыли рыбу. Комсомольцы районного центра работали под руководством коммуниста Сергея Степановича Перепела, за восемь часов они солили по три-четыре чана. Было трудно порой, но не смолкали в цехах песни. Запевали девушки из отдела культуры – Люся Андреева и Адель Калашникова.
В путинные дни население Рыбновска увеличилось почти, на тысячу человек. Приплыли на плашкоуте веселые посланцы Охи, добровольцы – учащиеся нефтяного техникума и ремесленного училища. Они с охотой вызвались помочь рыбновцам и поддержали на побережье трудовую славу города нефтяников.
А на узком листочке бумаги, который лежит на письменном столе директора рыбокомбината, рос столбик цифр. И, наконец, директорская рука подвела под ним черту.
– Давайте подсчитаем. Вот итог – восемьдесят пять тысяч центнеров! Давненько не было такой рыбы в Рыбновске!
Оленьими тропами
В гостях у рыбновских оленеводов. – Редкий снимок. – По следам героев романа. – Сегодня на нефтепроводе.
Надсмотрщик Иван Базартынов. – «Черт» идет по трассе. – В семи километрах от материка. – Ванюшка. – Медведи и комары.
К оленеводам мы договорились съездить на следующий день.
Видно было, что добраться туда нелегко. Попутчиками оказались заведующий торговым отделом, работник райисполкома, капитан милиции и медицинская сестра.
Трудная дорога, долгий путь… Геройски орудуя баранкой, шофер рассказывает о том, как трудно приходится в районе механическому транспорту.
Машин здесь всего две, да больше и не нужно. По побережью лучше продвигаться на тракторе. Но и этой могучей машине приходится нелегко. За месяц песок, словно наждак, стачивает с колес полусантиметровый слой металла.
То ли дело олень!..
На заре века через Татарский пролив, по льду, шел человек на Сахалин. Одетый в оленьи шкуры, он тащил за собой единственную важенку со скудным вьюком. Искал человек новые таежные просторы. Нагнув голову, пряча лицо от снега и ветра, упрямо брел он к далеким сахалинским сопкам, прячущимся в молочной мгле.
Афанасий Афанасьевич Трофимов, председатель оленеводческого колхоза «Новый путь», – сын этого человека, который, подобно многим эвенкам, совершил долгий и сложный путь. Афанасий Афанасьевич родился на Рыбновском побережье в 1903 году, прожил здесь безвыездно всю свою жизнь. Лучшего следопыта, знатока тундры и оленей – не найти.
– Что же, хотите посмотреть, как мы живем? – спросил председатель. – Можно. Только в стадо надо ехать. Вы из Рыбновска часа четыре добирались?.. А тут недалеко – километров двенадцать будет.
Газик долго петляет среди деревьев, подчиняясь бесчисленным изгибам таежной дороги, ныряет в распадки, карабкается на крутобокие сопки.
Шофер вполголоса ругает дорогу. Тут и олени могут ноги поломать! Афанасий Афанасьевич в ответ молча улыбается – тайга!
Впрочем, это даже не тайга, а северное редколесье, которое в учебниках географии называют лесотундрой.
Деревья не идут здесь в рост. Мешает короткое северное лето, ветры и морозы, тощая тундровая почва, вечная мерзлота. Но зато буйно разрастается разлапистый кедрач и… грибы. Такое великое множество грибов и во сне не приснится Даже самому заядлому грибнику. Машина пробирается через настоящие плантации их.
Промелькнул за деревьями белый клочок парусины.
Палатка.
Костер.
Деревянная загородка кораля.
Приезд машины никого не взбудоражил. Собаки, сидевшие на приколе, лениво повернули головы. Человек у костра приветственно помахал рукой и снова склонился над бурлящим котлом.
Из-под холщового полога палатки слышался смех.
– Над чем смеешься, Семен? – спросил Афанасий Афанасьевич, влезая в выгоравшее от солнца пастушье жилище.
Семен Надеин, молодой круглолицый пастух, оглядел вошедших веселыми глазами.
– Где пастухи? – спросил Афанасий Афанасьевич. Семен кивнул в сторону леса:
– Поехали десять голов выбраковывать на мясо.
Нынче в колхозе «Новый путь» на мясо забивают 600 оленей. Это крупный вклад в экономику района. Кроме того, зимой колхозники поставляют различным организациям единственно возможный на Рыбновском побережье транспорт – оленьи упряжки.
– Да, поднялись быстро, – говорит председатель. – Ведь места эти для нас новые. От самого рождения, с 1932 года, колхоз располагался в Ныйде. Несколько лет назад после лесного пожара перешли сюда. Переход, который раньше вошел бы в историю племени, сейчас почти не затронул артельного хозяйства.
Все уже перебывали на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, одни – как участники, другие – как экскурсанты. В нынешнем году оленеводы поставили перед собой большую задачу – сделать участником ВСХВ весь колхоз «Новый путь».
Работа большая. Поэтому начальника стада Николая Дмитриевича Белолюбского, пастухов комсомольцев Георгия Павлова, Михаила Борисова, Сергея Губина, Владимира Выхтуна редко можно застать в корале. Заброшены на спину оленя кожаные мешки с шерстью, за плечом винтовка, у пояса патронташ – и пошел выписывать вьюк между деревьями немыслимые кривые.
В тайге пути оленеводов. У оленей немало врагов. Молодняк может погибнуть во время паводка, в глубокой трясине, от лапы медведя или когтей россомахи. Даже мелкий хищник – лисица – может принести огромный ущерб стаду. Поэтому в дни отела пастухи днюют и ночуют в тайге, ведут круглосуточную охрану.
Уже сейчас можно сказать, что первая крупная победа одержана. По приблизительным подсчетам в колхозном стаде вместо 800 голов народилось около 1000.
Одна кампания закончилась, приближается другая. Вот уже важенка-нямичан чистит рога, и на землю падают кроваво-коричневые хлопья. Началась круговая разведка. А где находится стадо, не так-то легко установить. Чингай, Теньги, Лангры, залив Байкал – сотни километров тайги.
Редко выпадает день, когда все собираются вместе, режут ломтиками мясо, пьют чай с густым и жирным оленьим молоком. Обычно хозяйствуют у костра по двое, по трое…
– Саша, заваривай мясо!
Второй пастух, оставшийся в корале, Александр Егоров, бросил в котел несколько кусков от освежеванной туши.
Уже за обедом, ловко орудуя острым, как бритва, ножом у самых губ, Семен хитро спросил:
– Вы как, только хорошим интересуетесь? А если чего нет, можете добиться?..
Пришлось ответить, что если дело стоящее, то можно и добиться.
– Тогда пишите. Люди колхозу нужны. Ехал я из Москвы, с выставки, заходил в Хабаровске в переселенческий отдел. Договорились десять семей завербовать. И затянули это дело. А нам нужны косари, плотники.
Течет беседа в палатке.
Говорят хозяева тайги, оленей, колхоза, своей жизни. Их волнует огромный круг вопросов.
Пастухи вспоминают о героических партизанских годах, когда эвенки-оленеводы шли в первых рядах бойцов за Советскую власть на Сахалине. О том, как из-под носа у японцев выманили якута-предпринимателя Винокурова, пригласив его на медведя, о том, как сердито ругался кулак, попав в засаду.
Афанасий Афанасьевич утвердительно кивает головой. Это было, это он хорошо помнит…
Любовь к истории у Семена родилась из чтения. Он – страстный книголюб и поэтому не может не высказать еще одну просьбу. Нужно, чтобы кто-нибудь позаботился о книгах для оленеводов.
…Разговор получился не совсем на тему, но одинаково полезный для обеих сторон. Уже когда свет автомобильных фар запрыгал по темным кронам лиственниц, сзади, от кораля, раздался напутствующий веселый крик Семена:
– Так и пишите: живем хорошо, только читать нече-го!..
Снова – аэродром среди песка, кедрач и голубое небо в белой дымке.
В Охинском горкоме комсомола нам попалась пачка пожелтевших фотографий, оставшаяся от выставки по истории Охинского промысла. Среди множества снимков бросились в глаза несколько выцветших репродукций.
– Кто снимал?
Секретарь горкома пожал плечами:
– Трудно сказать. Фотографии собирали по всему району. Из семейных альбомов изымали…
Мы перебирали эти снимки и не верили своим глазам: неизвестный фотограф запечатлел на них заключительные моменты сооружения нефтепровода из Охи на материк.
…Вот длинная полынья во льду Татарского пролива. Вокруг нее, опираясь на ломы и кирки, стоят строители. Часть стальной трубы уже спущена под воду, вторая половина висит над прорубью на деревянных поперечинах. Гудит вокруг ледяной ветер. За пеленой снега видна тракторная будка на санях – кочевое жилище строителей…
Можно с уверенностью сказать, что нет в нашей стране человека, который не был бы знаком, в известном смысле, с историей сооружения нефтепровода. События, развернувшиеся в суровые годы войны на северном Сахалине и Дальнем Востоке, легли в основу романа Василия Ажаева «Далеко от Москвы», изданного многомиллионным тиражом и завоевавшего огромную популярность среди советских читателей и за рубежом.
Роман привлек сердца людей подлинной героикой, живым дыханием времени.
В труднейших условиях сахалинской зимы, через тайгу и тундру коллектив строителей перекинул за сотни километров стальную нить на материк.
Это был подвиг во имя победы в Великой Отечественной войне.
Перелистывая страницы романа, многие жили одной жизнью с его героями, вместе с ними радовались, вместе переживали трудности. Но редкому человеку, даже из сахалинцев, удалось в действительности побывать на нефтепроводе, который проходит по безлюдным и диким местам Охтинского и Рыбновского районов.
В путь мы собрались с особенным волнением. Во-первых, колонна должна была пройти по тем местам, где сражались с природой герои «Далеко от Москвы». Во-вторых, мы не знали, что ждет нас впереди. На карту рассчитывать не приходилось.
Случайно разговор о дальнейшем маршруте зашел в кабинете директора ремзавода.
– Это хорошо, что вы упомянули… – живо сказал директор. – Вам повезло. У меня тут такой кудесник трудится – все северные дороги на своей машине прошел.
Однако и бывалый шофер задумался.
– Ездил я как-то в Погиби. Лет пять назад это было… Трудный путь. Кое-где проселочными дорогами, кое-где тропинками. Марь будет. Настил будет местами ничего, а вот где сгоревший – там намучаетесь. Песок опять же… Ну да мотоцикл пролезет!.. Ах, у вас с колясками. С коляской, пожалуй, не пройти… Ну да что делать… Рискните!



