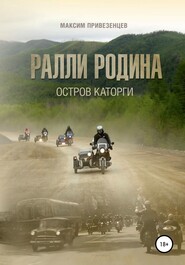 Полная версия
Полная версияРалли Родина. Остров каторги
– Я благодарен ему, что он вытащил мать из депрессии, что подарил ей надежду, что все еще может быть хорошо… В конце концов, благодарен за себя, за то, что я появился на свет. Вот ведь странность, правда? Если бы не было той катастрофы, тех смертей, десятки или даже сотни жизней сложились бы совершенно иначе. А, может, кто-то, вроде меня, вообще не появился бы на свет… Я много об этом размышлял. Чем дальше, тем больше думаю, насколько сильно все в нашей жизни зависит от случая. Что можно жить, планировать, верить, а в итоге стать жертвой обстоятельств… и перестать быть. По той же причине мне кажется, что судьба нашей страны могла сложиться иначе – куда более счастливо.
– А могла – еще хуже, – вставил Боря.
– Могла, да, – согласился я.
Наши взгляды встретились. Лама, как обычно, был спокоен и хладнокровен.
– Понимаешь, Макс, – сказал он, продолжая смотреть на меня. – Рассуждать о том, что могло бы быть, если – это порой очень увлекательно, да, но всегда – совершенно бессмысленно. Потому что время идет только в одну сторону. Именно поэтому ты сам так не любишь тех, кто вздыхает по Союзу – не потому, что считаешь его адом, а потому, что терпеть не можешь, когда люди живут прошлым.
– Ты прав, старик, – кивнув, сказал я. – Но просто… просто обидно, что столько крови опять пролито, а страна по-прежнему в жопе… Эх…
Махнув рукой, я налил себе еще виски и выпил его залпом.
– Ладно. Я тоже спать, – сказал я. – Хватит грустить о несбыточном, тут ты прав. Будем вершить свою историю.
– Вот и правильно, – кивнул Боря.
– Давайте тогда все ложиться, раз завтра ехать собираемся, – сказал Ребе.
– Да давай, – пожал плечами Лама. – Тоже чего-то вымотался… морально.
Мы затушили костер и, пожелав друг другу спокойной ночи, разбрелись по палаткам. Уже лежа в спальном мешке, взирая на матерчатый потолок, я снова задумался о дедушке и папе. Первый, по сути, в моей жизни заменил второго, и потому я так тяжело переживал его уход из жизни… и при этом не испытывал практически ничего, кроме неловкости, когда навещал могилу второго на Сахалине. Это снова к вопросу о возможностях: могло ли все выйти иначе?
«Могло. Но нужно ли оно тебе? Разве все сложилось плохо? Жалею ли я о чем-то? Разве что о том, что толком не знал отца. Но если он не хотел меня знать, наверное, так оно и правильно…»
Засыпал я долго и тревожно, но, по крайней мере, в ту ночь мне ничего не снилось, и я смог нормально выспаться.
Следующим днем в дороге нас снова застал дождь. Он хлестал по подкрылкам наших «Уралов», по нашим шлемам и курткам, заливал глаза. Я покосился на небо: просвета не было. Казалось, будет лить до самого вечера, а то и до утра.
Друзья не жаловались на погоду, но периодически поглядывали в мою сторону, будто ждали отмашки. Готов спорить, Иван давно бы заглушил мотор своего мота, если бы не Денис. Все до единого понимали, что после их недавней ссоры Амурский чисто из принципа будет выступать против любого Ваниного предложения.
Но если колонну остановлю я, он вряд ли будет возражать.
Я закусил губу. По-хорошему, действительно надо было где-то переждать ливень, но я пока даже близко не представлял, где. Куцая лесопосадка находилась в паре километров от дороги, а поле уже настолько раскисло, что мы бы просто сгинули в тамошней грязи, как в настоящем болоте. Каких-то заброшенных строений или придорожных мотелей тоже видно не было (видимо, в России все-таки не так много идиотов, готовых настолько бездарно тратить деньги). Вот и получалось, что, остановившись, мы просто продолжили бы мокнуть, а, значит, особого смысла в привале нет.
Вдруг мотоцикл Дениса заморгал фарой, привлекая наше внимание. Подняв голову, я увидел, что режиссер указывает рукой на что-то справа. Я прищурился. И что он там увидел? Какая-то крохотная черная точка, которая, как будто, двигалась…
Поняв, что эта черная точка – человек, я слегка опешил. Ладно мы, на мотоциклах, едем довольно быстро, все в куртках, шлемах, в общем, от дождя худо-бедно защищены. Но кому пришло на ум прогуливаться вдоль трассы? И вообще откуда этот странный незнакомец (или, чем черт не шутит, незнакомка) держит свой путь? И куда? А, главное, зачем?
Вопросов было множество, и я намеревался все их задать, едва мы поравняемся со странным пешеходом.
По мере приближения к нему все, не сговариваясь, начали сбавлять скорость. Денис поднял руку, показывая, что останавливается, и я лишь чудом заставил себя не отвлечься от дороги и отреагировать на его жест. Все потому, что пешеход, бредущий вдоль трассы, оказался еще удивительней, чем я мог себе предположить изначально. Я-то полагал, что это будет какой-то заплутавший турист или некий стайер, который развлекается таким вот странным образом – впрочем, кому-то и наш мотопробег наверняка кажется той еще причудой…
Но нет. Таинственный пешеход оказался не спортсменом, вовсе нет – хотя, судя по тому, как уверенно незнакомец переставлял костыли, он бы запросто дал фору многим нашим футболистам и атлетам.
«Кому расскажи – не поверят, – думал я, откровенно глазея на этого седого бородатого мужчину. – Или как минимум скажут, что привираю».
Но это была правда, чистая правда – одноногий калека на костылях уверенно двигался мимо нашей колонны, и грязь, бурлящая от дождевых капель, падающих с неба, громко чавкала под подошвой единственного ботинка этого целеустремленного типа.
– Эй, уважаемый! – сложив руки рупором, позвал незнакомца Денис.
Тот встрепенулся и, хмуро покосившись в сторону режиссера, нехотя буркнул:
– Чего вам?
– А вы откуда идете? – спросил Денис, не обратив внимания на грубоватый ответ незнакомца. – Если не секрет?
Мы все, конечно же, понимали, что у старика явно какие-то проблемы с головой: даже здоровый человек о двух ногах десять раз подумает, прежде чем идти куда-то в такую погоду.
– А сам не видишь? – снова довольно резко ответил калека. – Оттуда!
И мотнул головой себе за спину.
Я пробудил уснувший экран навигатора и взглянул на карту: судя по всему, до ближайшего населенного пункта от нынешней локации было шестьдесят километров.
– И вы что же, пешком топаете все время? – не удержавшись, спросил я.
– А вы, смотрю, догадливые! – воскликнул он, то ли смеясь, то ли злясь. – Ладно, бывайте! Мне пора!
И, мотнув головой на прощанье, калека снова устремился вперед.
– Вас подвезти, может? – крикнул ему вслед Ребе, но одноногий даже не оглянулся.
Мы еще долго смотрели ему вслед, не зная, как поступить. Догнать и насильно усадить в машину сопровождения? Да нет, мало что глупо, так еще и опасно для всех, включая и его – еще задумает выскочить на полном ходу. Мне очень хотелось разузнать о причинах, заставивших его отправиться в этот странный долгий путь, но я прекрасно понимал, что их, этих причин, скорей всего, просто нет, и старика ведет вперед одно лишь безумство…
Но ведь ведет же?
После всего, что мы уже видели в нашем путешествии, этот странный причудливый несгибаемый пешеход казался настоящим революционером, чуть ли не единственным, кто осмелился плыть против течения вопреки любым обстоятельствам. Получается, чтобы на такое осмелиться, надо быть безумцем? Возможно, что-то в этом есть, ведь если перед каждым выходом из дома считать все потенциальные опасности, то можно вообще расхотеть куда-то идти… Параноики сидят по норам, а вершины покоряют слегка сумасшедшие люди – это, в общем-то, давно всем известно.
«Но почему у нас в стране путешествие из города в город – уже подвиг? Да что там: вышли за порог – уже событие. До работы не на машине, а на велосипеде доехал – все, герой!.. А ведь это так просто…»
Не удержавшись, я оглянулся через плечо еще раз – калека уже практически скрылся из виду, снова превратившись в крохотную точку, которая с каждой секундой становилась все меньше.
«Наверное, чтобы стать нормальным, порой надо сначала окончательно сойти с ума… Особенно если речь идет про Россию».
Оглядываясь назад, я вдруг подумал, что зря нарек «морем пофигизма» Ирбит. Скорей, «морем пофигизма» была вся страна, а Ирбит являлся одной из множества ее впадин, на дне которых никто и близко не слышал про добросовестный труд и элементарную рабочую этику.
«А ведь на кону – жизни людей, которые доверятся конструкторам и ездят на их машинах, ежесекундно рискуя попасть в аварию…»
Вот и получается, что путешествовать пешком безопасней всего.
«Даже когда у тебя всего одна нога, но зато с лихвой энтузиазма».
Главное, на месте не стоять.
Жаль, что многие об этом забывают… или даже не знали никогда.
ЭПИЛОГ
1890
Обычно, уплывая откуда-то, человек подолгу стоит на корме и смотрит на оставляемый берег, чтобы запечатлеть его в памяти и вспомнить напоследок все то, что случилось с ним здесь.
Антон Павлович Чехов стоял на носовой палубе и глядел вперед, в сторону далекого порта, куда должен был прибыть его нынешний корабль, «Петербург», волей судьбы плывущий под желтым карантинным флагом. Литератор до жути соскучился по большой земле, по родным и друзьям, которые там остались. И хоть он был благодарен всем и каждому, кто помогал ему в его исследовании, ярче прочих воспоминаний пылало перед внутренним взором самое ужасное из всех – пленение Николаем и его же самоубийство, а также последующие просьбы Кононовича и Ландсберга об этом трагическом событии нигде не упоминать. Единственный, кто ничего у литератора не просил – это Ракитин: тот, несмотря на молодость, уже отчаялся и смирился с мыслью, что каторга заключенных стала и его каторгой тоже.
«В этом все мы – верим в судьбу и не верим в себя, в то, что можем что-то изменить. Фатализм чистой воды…»
Чехов до сих пор не мог утвердительно сказать, поддастся ли он уговорам сахалинцев или все-таки поведает читателям о той ужасной ночи, когда жизнь его висела на волоске. С одной стороны, смолчать – значит, не рассказать всей правды, то есть отчасти обесценить проделанный труд. С другой, на Сахалине происходили куда более ужасные вещи, от которых история про собственный плен будет только отвлекать.
«Надо будет все эти записи, конечно, переработать, – думал Чехов. – Определить, что можно рассказать, а что – не стоит. Книга про Сахалин никогда не получится веселой, но и унылой ее делать не стоит однозначно…»
Он закашлялся – умудрился перед самым отъездом простыть.
«Пока дышу и мыслю, надо писать. Материк не должен забывать об острове, который у него есть. И те, кто на острове – тоже люди, какие б грехи за ними ни числились. И относиться к ним надлежит по-людски, пусть и не все там Толмачевы и Ландсберги, не все…»
С такими мыслями Чехов стоял на носу и вглядывался в предрассветную дымку.
И на лице его уже не было той знаменитой полуулыбки, которая прежде служила визитной карточкой литератора.
После Сахалина Антону Павловичу было крайне трудно улыбаться. То, что он увидел на острове каторги, заставило литератора задуматься о многострадальной судьбе русского народа. Складывалось ощущение, что после отмены крепостного права простой люд все равно продолжал цепляться за прошлое, поскольку, по сути, не умел ничего, кроме как служить кому-то. Оттого и создавалось впечатление, что большинство заключенных чувствуют себя на Сахалине, как дома. По крайней мере, очень трудно было представить их в иной, обычной жизни, где они избавлены от необходимости выполнять чьи-то поручения.
«Мы умеем совершать подвиги, но совершенно беспомощны в быту – как будто не знаем, чем себя занять, когда не надо воевать во спасение Родины».
Русский человек принимал все происходящее с ним, как данность, а потому – за редким исключением – не осознавал своей ответственности за содеянное. Даже Ландсберг, намеренно выбравший каторгу вместо самоубийства, не уставал повторять, что его судьба – жить в ссылке. При этом, по иронии, он сам эту судьбу строил – вместе с казармами, мостами, туннелями и иными сооружениями острова.
«А если даже лучшие из нас не верят, что что-то можно изменить, куда мы в итоге придем?»
К сожалению или к счастью, литератор прекрасно понимал, что болен не только остров каторги – больна вся Россия, а Сахалин – это лишь выжимка, утрированный образ Родины, где каждый знает свой угол и ничего не хочет менять.
«Да что там менять – мы верим всему, что нам говорят, даже не пытаясь проверить сказанное».
Чехов вспомнил, как многие друзья отговаривали его от поездки. Мол, там тебе будет плохо. Но в чем это самое «плохо» заключается, внятно объяснить не могли – просто потому, что никогда сами не ездили и большей частью доверяли слухам.
«А теперь я свалюсь на них с правдой… и как они отреагируют? Скорей всего, никак. Ведь что стоит одно мое мнение против десятка других? Проверять на собственной шкуре уж точно никто не решится».
В душу литератора закралось нехорошее чувство. Он вдруг понял, что так же было, когда он, совсем юный, только-только собирался вступить во взрослую жизнь. Минуло полтора десятка лет, но люди вокруг будто остались в том же самом исходном моменте – по крайней мере, их суждения не претерпели каких-то значимых изменений.
«Такое ощущение, что мы находимся в какой-то яме, где время или не идет вовсе, или тягуче, словно смола».
От этих мыслей стало дурно.
«Хуже всего, что я один ничего не изменю. Не заставлю колесо истории вращаться быстрей. А поиск единомышленников, уверен, закончится ничем – человек человеку волк, каждый за себя… из-за этой разрозненности мы и не можем ничего поменять. И не сможем».
Чехов зажмурился. По сравнению со многими соотечественниками он был несчастлив вдвойне – в ловушке находились все без исключения, но лишь единицы осознавали, что выбраться из нее можно, только действуя сообща.
«Но нам это чуждо, мы легко готовы пойти на смерть, отобрать у мира что можно и что нельзя… но совершать осмысленные поступки отчего-то не умеем». Всем верховодит импульс. Именно он привел Николая в дом Толмачева. Но бедняга-заключенный даже не задумался, насколько фатальна для него будет эта попытка – в одиночку противостоять всей охране острова…»
Чехов шумно втянул воздух ноздрями.
Отправляясь в свое путешествие по России, он, в числе прочих, хотел найти ответ на известный некрасовский вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?». И если поначалу литератор еще колебался, то теперь, отрезвленный правдой, ему открывшейся, мог однозначно сказать – никому.
В те странные мгновения Антон Павлович впервые задумался об эмиграции.
* * *
1967
Привезенцев и компания въезжали в Ленинград, точно герои древнего эпоса – с той лишь разницей, что вместо колесниц у них были допотопные мотоциклы Ирбитского завода. «Волга» ехала чуть позади, чтобы не отвлекать внимание от основных действующих лиц.
«Всего два «Урала» осталось. Два из четырех, – думал Владимир Андреевич. – И нас не семеро, а пятеро – Ульянов с Хлоповских, вероятно, уже отдыхают дома, на Сахалине. Подозреваю, что в фильме попросят не заострять внимание на том, сколько участников было изначально и сколько добралось до финиша…»
Прохожие, завидев туристов, указывали на них пальцами, махали руками, улыбались и о чем-то переговаривались. Отовсюду доносились слова приветствия и радостные возгласы: учитывая то, насколько часто в газетах и на телевидении говорили про ралли «Родина», догадаться, кто приехал в Ленинград на мотоциклах «Урал», оказалось совсем нетрудно.
Единственное, что невозможно было понять вот так, сходу – то, из какой части страны приехали те или иные путешественники. Шлемы надежно скрывали лица мотоциклистов от взоров горожан, и те ломали головы, пытаясь по каким-то иным признакам понять, кто же к ним пожаловал?
«Хотя не все ли равно? – думал Привезенцев, наблюдая за зеваками через смотровое окошко камеры. – Мы все так или иначе доберемся до финиша вовремя – потому что так надо партии, стране, всему Союзу. Народ должен верить – в кого-то, во что-то. Даже если наши мотоциклы развалятся прямо сейчас, этому найдут объяснение, которое ни у кого не вызовет вопросов. Точней, они-то возникнут, но задать их побоятся…»
После разговора с Рожковым Владимир Андреевич окончательно убедился, что нынешний порядок держится на страхе и крови. Большинство людей – покорны и податливы, а тех, кто вдруг проявляет норов, либо запугивают, либо убивают.
«Не выделяйся – останешься цел. Как-то так, к сожалению».
Взгляд Привезенцева остановился на светловолосой девочке лет пяти, которая стояла у двери подъезда, держа за руку пожилую женщину – видимо, бабушку. Старушка что-то рассказывала внучке, а та смотрела на мотоциклистов большими голубыми глазами и широко улыбалась. Сахалинцы как раз остановились на светофоре, а потому у Владимира Андреевича было достаточно времени, чтобы как следует рассмотреть девочку.
«Очень на Иру в детстве похожа, – подумал режиссер. – Такая милая… светлая… чистая…»
Владимир Андреевич снова вспомнил про дом, от которого с каждым днем отдалялся все сильней, и сердце его сжалось. Привезенцев устал, дьявольски устал от этого долгого путешествия – устал не столько физически, сколько морально. Его внутренние батареи отчаянно требовали подпитки; режиссер нуждался в тепле родного очага, словно утопающий – в глотке свежего воздуха.
«Скорей бы все это закончилось…» – продолжая смотреть на улыбающуюся голубоглазую девочку в «прицел» камеры, мысленно изнемогал Владимир Андреевич.
Партия любит такие кадры. Они вызывают умиление у простых зрителей, особенно – у женщин; при виде улыбающегося ребенка даже самый черствый человек невольно смягчается и уже не ищет подвоха.
«Дети ведь не умеют врать. Она улыбается? Да. Стало быть, все хорошо. Стало быть, действительно – праздник».
Светофор загорелся зеленым, и «колесница» Владимира Андреевича понесла его вперед, к заветной Дворцовой площади, на которой их дожидались представители Центрального Совета союза спортивных обществ и тысячи ленинградцев с плакатами и транспарантами. Привезенцев оглянулся – девочка провожала их заинтересованным взглядом, продолжая улыбаться и держать бабушку за морщинистую руку.
«Милое дитя, как много тебе еще предстоит узнать. Выдержит ли твоя улыбка? Останется ли с тобой спустя годы? Или же ты превратишься в еще одного скучного взрослого, молчаливого и покорного?»
Хотя, конечно, Привезенцев не рискнул бы утверждать, что все, кто собрался на улицах Ленинграда в тот день, сделали это по указке правительства.
«Если б народ привлекали на демонстрации только по принуждению, у нас давно бы случилась новая революция. Нет, тут смысл в другом – в том, чтобы создать вирус, который заразит всех одной идеей… И мы сейчас – носители этого вируса. Я могу не верить в идею коммунизма, но делаю, как просят сверху, и тем самым передаю идею дальше, заражая ею тех, кто посмотрит мой фильм или прочтет о нашем путешествии в газетах».
Привезенцев очень живо представил, как та улыбчивая девочка выросла и отправилась работать на благо страны. Что нужно, чтобы не потерять над ней контроль? Постоянно поддерживать в ее душе огонь энтузиазма, чтобы бедняжка пахала на иллюзорное «всеобщее благо», не успевая поднять головы.
«Хотя, может, она тоже все поймет – как я, Альберт, другие? Но что ее будет ждать в таком случае? Вечная каторга умалчивания? Или настоящая – в виде тюрьмы? А, может, бегство с Родины? Сколько замечательных, талантливых людей из-за своего острого ума попали в немилость? Тот же Нарица, который безумно хотел издать свои рукописи, и в итоге был признан невменяемым и помещен в психиатрическую клинику. Большая удача, что он сумел оттуда выбраться, не потеряв рассудок, и перевезти семью в Ригу, где, кажется, ему дышалось немного легче…»
Обидней всего, что о Нарице и многих ему подобных знали только люди из писательских кругов, а обычные граждане и слыхом не слыхивали. Лагери полнились диссидентами, но их нарочно обезличивали, чтобы они ни в коем случае не вызывали симпатий. Мыслит по-другому? Значит, враг. Мыслить можно только в одном ключе и никак иначе.
«Что есть нынешняя правда, как не чья-то субъективная истина, в которую все мы, мечтатели от природы, готовы свято верить? Нас кормят завтраками, говоря, что подвиги, совершаемые сегодня, приведут нас к светлому будущему… но не слишком ли долго тянется неприглядное настоящее? И будет ли достигнут коммунизм? Очевидно, что на самом деле никто не знает ответа на эти вопросы. Нам просто обозначают цель и заставляют терпеть ради нее… такой вот сомнительный стимул, такая мотивация».
Вглядываясь в счастливые лица людей, которые их приветствовали, Владимир Андреевич снова вспомнил слова Альберта, сказанные им в ту роковую ночь, когда журналист едва не сжег дневник друга.
«Это ведь тоже по-своему благо, Володь – тихо-мирно жить во тьме, работая на одну идею».
Фокус в том, что, поняв, как много вокруг грязи и вранья, ты перестаешь верить в советскую «магию».
«Поэтому болей, девочка, нашей общей «красной болезнью» и живи в безопасном неведении. Может быть, ты даже будешь счастлива – насколько это возможно, конечно».
Сахалинцы преодолели последние двести метров улицы и под аплодисменты и возгласы ленинградцев выехали на Дворцовую площадь.
– Сбавь скорость, ладно? – попросил Владимир Андреевич. – Сниму народ.
Альберт кивнул и нажал тормоз. Их «Урал» неторопливо пополз мимо серых металлических ограждений, за которыми толпились горожане. Привезенцев водил камерой из стороны в сторону, снимая это пестрое море людей. Одни стояли с транспарантами: «Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!», другие размахивали красным флагом СССР с выцветшим серпом и молотом. Третьи просто потрясали в воздухе кулаками и эмоционально кричали самое разное, от банального «Ура!» до замысловатых лозунгов а-ля «Сотрудники кожевенного завода имени Коминтерна приветствуют гостей из других регионов!»
Конечно, не все орали, срывая глотку, не все улыбались, радуясь завершению помпезного ралли. Кому-то, судя по кислым минам, нездоровилось, кто-то просто хотел провести выходной дома, а не на площади, стоя под палящим солнцем и обмахиваясь партийным билетом, но побоялись выговора от начальства и все-таки явились на площадь.
«Ну, по крайней мере, вам не пришлось ехать с Сахалина в Ленинград на наших допотопных «Уралах», – невесело усмехнулся про себя Привезенцев.
Небольшая группа студентов, около дюжины, стояла чуть особняком от других. На транспаранте, который держали эти парни и девушки, было большими красными буквами написано: «Свободу Виктору Хаустову!»
Сердце Привезенцева забилось быстрей. Он обернулся, дабы отыскать взглядом «Волгу» и Рожкова, едущего в ней.
«Интересно, видит? И если видит, что творится у него в душе?»
Усердно работая локтями, к митингующим студентам продрались мужчины в штатском – все, как на подбор, высокие, плечистые и хмурые. Даже без формы было понятно, что это – оперативники МООП СССР.
«Вместо свободы – новые аресты…»
Привезенцев с грустью наблюдал за тем, как оперативники быстро и профессионально скручивают и уводят демонстрантов прочь, подальше от зорких объективов телекамер – чтобы не портили тщательно выстраиваемую общепринятую правду своей. Несколько мгновений спустя толпа сомкнулась, а «Урал» Альберта и Привезенцева проехал мимо. Догадаться, что ждет протестующих в дальнейшем, было совсем нетрудно – те же обвинения в нарушении порядка.
«А ведь они просто хотели, чтобы другие их увидели и тоже вышли с плакатами в поддержку людей, сражающихся за свободу. Тех людей, которые сидят в камерах за то, что пытались отстоять свое право быть услышанным. Но… не в этой стране. Или, по крайней мере, не в это время…».
Привезенцев снова обернулся и посмотрел на «Волгу», едущую за ними. В одном из рюкзаков, который лежал в багажнике, был спрятан дневник режиссера.
«Что в нем? Истина? Или всего лишь мое видение мира? Как сложно порой отличить одну правду от другой…»
Владимир Андреевич уже знал, что запишет в дневник, едва вернется на Сахалин:
«Ралли «Родина» неожиданно оказалось тяжелым, но полезным экспериментом. Партия, сама того не подозревая, извлекла нас из плена наших «скорлуп», в которых мы живем, и позволила увидеть нашу страну во всей ее «красе» – увы, только в кавычках.
До чего же коварно все устроено!.. С экранов телевизоров нас убеждают, что все хорошо, что мы высочайшими темпами приближаемся к нашей главной цели – коммунизму. И мы охотно верим голубым экранам. Верим, что везде хорошо, а отстает только наш городок – ну не добралось до него еще благо, но уже скоро, скоро…
В развенчивании этого мифа – подлинная и единственная польза ралли «Родина». Теперь я знаю, что это не только мы отстаем, это ВЕЗДЕ В СОЮЗЕ ТАК. Просто русским свойственно мечтать и надеяться, поэтому мы охотно съедаем новую порцию басен, которые нам скармливают. Горько это признавать, но мы будто застряли в каком-то безвременье, и нашим мукам нет начала и не видно конца. Полагаю, если бы я, только-только вернувшийся с фронта, получил возможность взглянуть на жизнь в далеком шестьдесят седьмом, то я бы несказанно удивился, что за эти двадцать два года в глобальном смысле ничего не поменялось.

