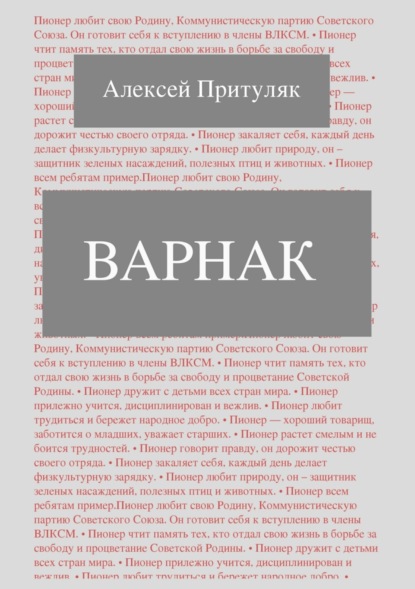 Полная версия
Полная версияВарнак
– Догадываюсь. Ты подожди, он вас всех обнулит. Вы ему нужны только для самозащиты.
– Не, ну это ты зря, – покачала она головой. – Хан придурок, но в этом смысле он молодец. Он за пацанов порвёт кого хочешь. Но ты – глыба, кто бы спорил.
– Не порвёт. Сольёт он вас всех, как только прижмут обстоятельства.
– Эй, кончай, а, – прищурилась она. – Типа, деморализовать хочешь, что ли?
Какая сообразительная девочка!
– А чего вас деморализовывать, – улыбнулся Пастырь. – У вас никакой морали-то и нет. Сейчас командиры ваши собак да пришлых жрут. Не станет никого, начнут вас жрать. Сначала младших, потом…
– Короче, вожатый! – прикрикнула Стрекоза. – Меняем тему.
– А что? Такая же мысль гложет, ага? Знаешь, что я прав, вот и…
Она исчезла, захлопнула дверь. Пастырь услышал её раздражённые шаги по коридору.
Кхм… Зря он насел на девчонку. Не рассчитал. Не надо было вот так сразу, прямо. Стрекоза ещё не созрела, кажется, для настоящего недовольства Ханом, хотя и понимает, похоже, что неправильно всё у них идёт. Девчонка-то сообразительная и не сильно, видать, испорченная.
Зря, в общем. Поспешил.
20. ВадькаНо она вернулась минут через десять. Открыла дверь, заглянула. Держала в руках кусок лепёшки, жевала, улыбалась.
Молча бросила, через камеру, на колени ему такой же кусок. Пастырь кивнул. Голод грыз желудок зверски – что ему две ложки овсянки за целый день! Однако гордость не позволила наброситься на этот неумело испечённый – тёплый ещё – хлеб. Только понюхал, глубоко вдыхая, кисловатый запах. Перед глазами встала Ленка: в переднике своём с вышивкой-чебурашкой, с полотенцем через плечо, на залитой солнцем кухне; улыбается своим каким-то мыслям, напевает что-то и жарит лепёшки – не такие, не эту пересушенную неумелыми девчоночьими руками безвкусную фигню, а…
– Жена у меня лепёхи любила стряпать, – улыбнулся он. – В выходные по три часа у плиты простаивала. Напечёт их целую гору – штук по тридцать-сорок. Запашище хлебный по всему дому стоял. Да что там – на всю улицу! Они у неё золотистые выходили, ноздреватые. Чекурёнок наш тут же вертится, за…
– Кто? – уставилась на него Стрекоза.
– Чеку… А-а, это я Вадьку Чекурёнком звал, – улыбнулся Пастырь.
– Чекурёнком?! – стрекоза вонзилась взглядом в лицо варнака, нижняя губка её задрожала мелко-мелко.
– Чекурёнком, ага, – хохотнул Пастырь, не замечая состояния девчонки. – Нравилось ему это.
– Нет, – неожиданно произнесла она.
– Чего – нет? – не понял он.
Она, не отвечая, зашла в камеру, прикрыла за собой дверь. Робко, почти на цыпочках, приблизилась к Пастырю и опустилась на матрац рядом. Потянула ворот свитера, будто душно было, тряхнула головой.
– Не нравилось, – сказала тихо. – Бесил его этот Чекурёнок.
– Ну, ты это… – оторопело уставился на неё Пастырь. – С чего это ты взяла?
– Да с того, – Стрекоза отвернулась, пряча слёзы. – Шея.
– Что – шея? – не понял варнак.
– Шея у него кличка была. Фамилия – Шеин?
– Ше… Шеин, – просипел Пастырь, замирая, чувствуя, как обрывается всё в животе. – Была… Была кличка, говоришь… Значит..?
Она молчала, утирая слёзы, подрагивая плечами – ссутуленная, маленькая совсем, глупая и такая ненужная никому девочка. Держалась, держалась – не сдержалась, всхлипнула, заскулила.
– А ты, стало быть, знаешь… знала его? – Пастырь смотрел себе под ноги, сжимая и разжимая кулаки.
Стрекоза кивнула.
– Он… да, мы с ним… дружили. В лагере. И потом.
– А-а… И… это… Как он..? Что с ним стало-то?
– Убили.
Пастырь скрипнул зубами, кивнул, всхрапнул, втягивая воздух, который не мог пробиться в лёгкие сквозь рвущийся изнутри всхлип.
Вот и всё. Вот и кончилась жизнь. Нет Ленки. Не стало Вадьки. Один. Один в дохлом городе, в умирающей стране. В жизни своей, нахрен теперь никому не нужной, – один.
– Летом, – продолжала Стрекоза. – Цыгане.
– Цыгане?!
– Ну да, – она утёрла слёзы; неуверенно, искоса взглянула на Пастыря. – Наши цыган поймали, в конце июля… Ну, в общем… Хан сказал, типа девчонка у них больная, велел её казнить. Ну, мы… пацаны тогда её… Цыгане визжать стали, бросаться. А у одного нож оказался. Он на наших кинулся и давай махать. Толстого зарезал и Шею… Вадьку, то есть. Его Меченый вырубил. Затоптали. Ну, Хан сказал, что этих чурок грязных есть нельзя, тем более, что они заразные могут быть, и велел прикончить всех. А одного, самого старого, – отпустить. Пошлину взяли только. Ну, это… руку ему…
– Вот, значит, как, – выдохнул Пастырь.
Людей меньше стало, намного меньше, а мир – поди ж ты, всё так же тесен! Кто-то из Михаевых сродственников, значит, Вадьку подрезал. Сын, может… Ишь как всё переплелось…
Холодна ты, тоска!..
Он не выдержал – повалился вдруг на колени, завыл. И бил кулаком в цементный пол, разбивая казанки в кровь и не замечая боли.
Стрекоза нерешительно присела на корточки рядом. Неуверенно коснулась плеча. Потом волос. Погладила, едва касаясь, боясь причинить боль разбитому затылку.
А он её не замечал. Сидел, уставясь в грязный цементный пол, без мыслей, оглушённый – будто враз образовалась вокруг немая и неживая пустота, и нет в ней никого и ничего, кроме боли.
Потом на смену боли пришла ярость.
Хан, сука, я убью тебя, мразь! Если бы не ты, погань… Убью!
Пастырь вдохнул, резко выдохнул.
– Тебя как зовут, дочка? – спросил он, поднимаясь, отерев насухо глаза.
– Стреко… В смысле, Оля.
– Угу… Михайловская?
– Нет, из Дубасовки.
Есть такая деревня, километрах в восьми от Благонравного, на север. Небольшая совсем деревушка, дворов на тридцать. Может и выжила она. Такие вот маленькие, вечно нетрезвые поселения в стороне от большого мира, в которые чужие не ходят, – они-то и должны выжить, стать основой будущего страны.
Дверь вдруг скрипнула, приоткрылась на секунду. Кто-то быстро заглянул внутрь. Потом железяка двинулась обратно и с громким лязгом захлопнулась. Проскрежетала и цокнула снаружи задвижка.
Стрекоза подскочила как ужаленная, бросилась к выходу, толкнула дверь. Обернулась, враз побледневшая, опустилась на корточки, закрыла лицо руками.
– П***ц! – произнесла на выдохе.
Из-за двери послышался довольный девчоночий смешок, от которого Стрекоза взвилась, подскочила. Прищуренные глаза её замерцали отчаянием и ненавистью.
– Ах ты сука! – прошипела она. – Тварь!
– Кто это? – спросил Пастырь, понимая, что случилось очень плохое. Что Стрекозе теперь не поздоровится.
– Нюшка, б***! Подловила, гадина!
Пастырь не отдал бы им Стрекозу. Порвал бы пришедших за ней пацанов, забрал бы оружие и…
Но они явились целой гурьбой. Ведро, который пришёл старшим, был не дурак. Он зашёл в камеру Перевалова и оттуда, через решётку, сказал:
– Ну что, Стрекоза, суши вёсла. Этого тебе Хан не простит. Второй косяк подряд. Серьёзный косяк, Стрекоза.
– Да пошёл ты! – бросила она.
– Отпусти её, пусть выйдет, – велел Ведро Пастырю, обнимавшему Стрекозу за плечи. – И не дёргайся, а то завалю обоих. У меня приказ Хана.
Пастырь скрипнул зубами, ступил вперёд, отодвигая девчонку за спину. Ведро дёрнул из-за спины автомат.
– Пётр Сергеевич, – смущённо произнёс Перевалов. – Не сопротивляйтесь.
– Ну, что? – спросил Ведро, приготовясь дёрнуть затвор «калаша».
– Пустите меня, – Стрекоза вышла из-за спины варнака, толкнула дверь. Крикнула толкающимся за дверью конвоирам: – Открывай, уроды!
– Лось, открой! – велел кому-то Ведро.
Откинули щеколду, открыли дверь.
– Тебя Нюша сдала, – негромко сказал стоящий за дверью пацан.
– Знаю, – оскалилась Стрекоза. – Крыса!
Она кивнула на прощание Пастырю и вышла из камеры, растолкав пацанов. Те бросились за ней. Кто-то захлопнул дверь, задвинул щеколду.
Ведро остался в камере. Стоял, поглядывал на варнака, поглаживая «Калашникова», и как будто хотел что-то сказать.
– Ну? – посмотрел Пастырь ему в глаза.
Тот не ответил. Постоял ещё минуту в раздумье, потом бросил взгляд на доктора, буркнул «Баранки гну!» и вышел.
– Успели обработать девочку? – спросил Перевалов, едва стихли шаги пацана.
– Ты о чём, убогий? – бросил ему Пастырь.
Доктор не ответил, только покачал головой.
– Ну, что там про меня порешали? – спросил варнак.
– Завтра узнаете, – уклонился мясник.
– А что, стесняешься сказать, что ли?
– Хан сказал, что будет думать до завтра. Я просил его не трогать вас пока. Дать вам шанс.
– Ух ты! – усмехнулся Пастырь. – Шанс, говоришь? Здорово! Это какой же?
– Шанс понять и принять. Правила новой жизни, саму эту новую жизнь. Понять, что…
– Ты же знал, сволота, что Вадьку убили? – оборвал Пастырь его болтовню.
Перевалов вздохнул, потёр лицо, зашипел от боли. Затряс руками, причитая что-то себе под нос.
– Я ничего не мог сделать, – наконец сказал он. – Когда его принесли в операционную, он уже умирал. Я ничего не мог сделать. Ничего.
– Угу, – кивнул варнак. – А так – всё хорошо, да?
– Н-не понимаю… Что?
– Ухожу я отсюда, лекарь, – покачал головой Пастырь. – Завтра.
– Да кто ж вас отпустит! – опешил Перевалов. – Хан сказал, что…
– У меня пропуск будет, – усмехнулся варнак. – Пойдёшь со мной?
Доктор прищурился на него, погонял желваки под щеками, пожевал губами.
– Вы, Пётр Сергеевич, кажется, не понимаете, что происходит.
– А что происходит?
– Как вы намерены отсюда выйти, скажите на милость? Неужели станете шагать по трупам детей? То, что ваш сын погиб, ещё не даёт вам права…
– Пойдёшь или нет? – перебил Пастырь.
– Нет, – решительно ответил доктор.
– Угу… Мясом быть привычней и проще, да?
– Я не позволю вам уйти!
– Сдашь меня, что ли? – поднял брови варнак.
Лекарь поелозил на кровати, скрипя пружинами. Погасил керосинку. Не раздеваясь, лёг поверх синего байкового одеяла. Отвернулся к стене.
– Да, – ответил через минуту.
– Ну-ну, – покачал головой Пастырь. – Ты не торопись, подумай хорошенько, док. Я ведь могу уйти тихо. А могу – с шумом и треском. Я в любом случае уйду. Хана кончу и уйду. Но если пацаны начнут сопротивляться, будет много раненых… Так что ты подумай: стоит ли шум поднимать.
Перевалов не ответил. Прикинулся спящим. А может, и правда спал. Совесть-то чиста у человека, чего… Он же о детях печётся.
Не спалось. Пастырь ворочался с боку на бок на вонючем матраце, скрипел зубами от злобы и бессилия, от безнадюги и нетерпения.
А время текло медленно-медленно. В темноте оно, кажется, замедлило свой ход, задремало. Торопи его, не торопи – только молчит и глумливо лыбится, сволочь!
Он представил уже десяток способов, которыми будет убивать царька. Хрустели непроизвольно сжимавшиеся кулаки, раздувавшиеся ноздри втягивали провонявший клозетом спёртый воздух.
Пастырь шипел в узкоглазую рожу: «Ты, мразь, лишил меня будущего. Ты меня прошлого лишил, ублюдок!» и сдавливал окаменевшими пальцами горло Хана. Тот хрипел, мочил штаны и медленно умирал. Чтобы через мгновение снова ожить и принять другую смерть – сдохнуть под громоздким Пастыревым кулаком, ломающим его приплюснутую переносицу, превращающим в месиво губы и глаза, дробящим лоб…
– Пётр Сергеевич! – кричал он.
– Какой я тебе Пётр Сергеевич, мразь! – с перекошенным ртом отвечал Пастырь, ломая ублюдку шею.
– Пётр Сергеевич!
Он вздрогнул, открыл глаза.
– А? – отозвался в темноту.
– Ничего, – сонно произнёс со своей половины Перевалов. – Вы стонали. Сердце как у вас?
– Нет у меня сердца, – ответил он.
Отвернулся к стене. Повозился на тощем и холодном матраце. Уснул.
21. ПодрывКогда Пастырь проснулся по своему обыкновению в половине седьмого, Перевалов уже сидел на кровати.
Приглушённо светила керосинка. На тумбочке стояла на спиртовке эмалированная, облезлая и закопчённая, кружка. Закипала вода.
– Я в шесть встаю, – пояснил док в ответ на удивлённый взгляд варнака. – Привычка. Кофе будете пить?
– Кофе? – у Пастыря глаза полезли на лоб.
– Ну да, – улыбнулся Перевалов, довольный произведённым эффектом. – Настоящий причём.
Он подкрутил керосинку, добавил света. Бормоча что-то себе под нос, напевая, снял кружку с огня, погасил спиртовку. Настроение у доктора, кажется, было отменное с утра.
Разлил по приготовленным кружкам кофе, подошёл с одной к решётке.
Пастырь, потирая глаза, принял кружку. Потянул носом давно забытый аромат – аж морозец пробежал по спине.
– Ага, – довольно кивнул Перевалов, заметив. – Я, знаете ли, с тревогой думаю о том дне, когда запасы кончатся. Есть, конечно, ещё растворимый – полно, можно сказать, – но кому оно нужно, это пойло.
– Я вот что подумал, Пётр Сергеевич, – заговорил он тихо, поставив табурет у разделительной решётки, усевшись и отпивая кофе. – Вот что я хочу вам сказать… Предложить.
– Угу, – кивнул Пастырь замолчавшему доктору, ожидая продолжения.
Тот, обжигаясь и отдуваясь, сделал несколько глотков, блаженно повёл плечами.
– Вы, Пётр Сергеевич, горячку не порите всё-таки, хочу я вам сказать. У меня, знаете ли, Хан тоже в печёнках сидит. Он, конечно, молодец, но не доведёт он мальчишек ни до чего хорошего.
– Это что же? – усмехнулся Пастырь. – Бунт на корабле?
– Да вы не смейтесь, – покачал головой Перевалов. – Чтобы детям выжить, им нужен толковый… руководитель. Не атаман безбашенный, каковым, собственно, является Хан. А именно руководитель. Наставник. Отец.
– Типа тебя?
Перевалов удивлённо посмотрел на варнака. Потом затряс головой:
– Да нет, что вы. Я – врач. В этой должности и останусь. А вот вы, Пётр Сергеевич, вы – как раз то, что нужно. Опытный, серьёзный, умелый, мужественный человек, который может стать для детей прекрасным примером, опорой, воспитателем…
– Я зэка, – усмехнулся варнак.
– Да полноте, милейший, не юродствуйте! – отмахнулся док. – Уж в чём другом, а в людях-то я разбираюсь. – И улыбнулся: – Я же хирург. Знаю людей не только снаружи, но и изнутри, хе-хе.
– Ну да, – вставил Пастырь. – Тебе ли не знать, мяснику-людоеду.
Доктор похмурился, понюхал кофе, отпил.
– Я не ел человечину, – сказал он. – И мы это прекратим, разумеется. Уведём детей в деревню. Организуем коммуну. С едой проблем, думаю, не будет. Руками вы работать умеете, не сомневаюсь. Головой – тоже. Можете многому научить детей. Так что с голоду не умрём…
Я вчера с Ханом долго разговаривал. Убеждал его, что от живого от вас пользы будет больше. Не знаю, убедил ли. Боится он вас – это очевидно. Боится и потому хочет убрать с дороги. В общем, всё что вам нужно сделать – это подождать до вечера. Если Хан примет… всё-таки неправильное решение, тогда я сам лично помогу вам убрать его. Но при условии, разумеется, что дети не пострадают и что вы займёте его место.
Вот вы мне скажите, Пётр Сергеевич, куда же это и зачем вы рвётесь уйти? У вас ведь… простите великодушно, но… у вас ведь никого не осталось. Ну, уйдёте вы, в никуда… А совесть потом не замучает, что бросили детей на этого пришибленного Хана?
– Ну, ты это… Ты, мясник, совесть мою пока в покое оставь. Тебе до неё никакого дела нет. Ты о своей подумай.
Пастырь поднялся, вернул Перевалову пустую кружку.
– За кофе спасибо, – буркнул он.
– Да не за что. Так вы согласны?
– Ты же не дурак, вроде, док, – вздохнул Пастырь. – Ты же должен понимать, что невозможно Хану быть живым, пока я жив. И предлагаешь мне его пятку целовать. Да если бы не эта мразь, ничего бы не было! Оставались бы пацаны людьми. Сидели бы в лагере, под присмотром врачей и педагогов. А не жрали бы человечину.
В коридоре послышался топот ног. Шли, кажется, караульные. Раненько же! Невтерпёж, наверное, Хану кончить его, Пастыря.
Ну-ну…
Под хмурым взглядом доктора варнак достал из-под ремня жгут, сложил вдвое, метнулся к двери, встал сбоку, прижимаясь к стене, приготовившись. Приложил палец к губам: тс-с-с!
Лязгнула задвижка, дверь открылась во всю ширь, рванулся внутрь камеры сноп света от фонаря..
– Не входите! – крикнул вдруг Перевалов.
Шедший первым не понял сразу, не остановился – лишь сбавил шаг немного, бросил на мясника удивлённый взгляд
Пастырь одним движением схватил его за грудки, подтянул, приподнял вровень с собой, ударил головой в переносицу и отбросил внутрь камеры. Не медля ни секунды врубил второму основанием ладони в челюсть. Пацана как ветром сдуло – унесло к решётке, бросило на пол.
Стоящий за их спинами Меченый соображал быстро, но просуетился. Первым его движением было дёрнуть из-за спины автомат. Потом, видать, сообразил, что не успеет, и схватился за штык-нож на поясе. А время-то – ушло. Когда он, наконец, выдернул нож, Пастырь уже подступил к нему. Перехватив руку, с оттяжкой хлестнул пацана жгутом. Резина шустро обвила горло, сдавила. Пастырь отпустил жгут, нырнул Меченому за спину, поймал его шею в сгиб локтя, потянул малолетку на себя, забрасывая его на корпус, как куль муки. Покрасневший от натуги пацан захрипел, задёргался, задрыгал ногами, не в силах втянуть в лёгкие воздух. Секунд через десять – затих.
– Отпустите, – прошипел со своей половины Перевалов, испуганно выпучивая глаза. – Вы же его задушите!
– И что? – просипел варнак, бросив на него быстрый взгляд.
– Так нельзя, – произнёс тот, опуская глаза. – Это ребёнок!
– Ага, – усмехнулся Пастырь, сваливая обмякшее тело Меченого на пол, подбирая обронённый «калаш». – Только вчера из подгузника вылез.
Сдёрнул с шеи Меченого сдавивший её жгут. Быстро прыгнул к завывающему в углу первому, что сидел на полу, закрыв разбитое окровавленное лицо ладонями, из-под которых вытекали кровавые сопли, выдернул из кобуры у него на поясе «макара», подобрал валяющийся рядом фонарь.
Скачок обратно к Меченому, который уже поднялся и теперь сидел на заднице, у входа, мотая головой, приходя в себя. Заграбастал его в охапку, швырнул в камеру, выскочил в коридор, захлопнул дверь, дёрнул задвижку, повернул упор. Всё.
Всё. Ну, теперь поиграем, ребятки… В «Зарницу».
– Не убивайте мальчишек! – услышал он из камеры Перевалова. – Не берите грех на душу, Пётр Сергеевич!
Пастырь прыгнул к соседней двери, открыл.
– Выходи! – крикнул доктору.
Тот отчаянно замотал головой.
– Нет! – просипел он, почему-то краснея. – Нет! Я не пойду с вами!
– Ты дурак? Давай быстро, пока эти не прочухались!
Заскочил в камеру, схватил доктора за грудки, поволок за собой к выходу. Тот упирался, пыхтел, смешно семеня ногами под мощной силой варнака, устремившегося наружу.
Вытащив доктора из клетки, захлопнул дверь. Посветил ему в лицо, заставив жмуриться.
– Оружие тебе не даю, – прошептал быстро. – Нет у меня к тебе особого доверия. Пальнёшь ещё в спину… Поэтому никаких лишних движений не делать, быть на виду. Дёрнешься не в ту сторону – ушибу как щенка. Понял?
Перевалов, жмурясь, отворачиваясь от фонаря, кивнул. Кажется, он готов был заплакать.
Пастырь сплюнул, осветил коридор, двери.
– Веди к Хану, – велел мяснику.
– К нему не пройдёте, – снова замотал головой доктор. – Только через мальчишек.
– Веди, сучок!
Мясник ссутулился, задумался на секунду.
– Со двора можно зайти, – сказал вполголоса. – Там есть дверь на лестницу.
– Так давай, не рассусоливай!
В дверь камеры заколотили изнутри, заорали.
– Ну-ка тише вы, гоблины! – прикрикнул на пацанов Пастырь. – Ща зайду, уделаю всех.
– Ты покойник! – послышался голос Меченого. – Тебя самого уделаем, понял?!
– Светите мне! – шепнул доктор, устремляясь по коридору. Кажется, он, наконец, решил что-то. Вот только – что? Подставит, скотина, ох подставит!
Вслед за мясником он прошёл гулкий подвальный коридор, поднялся на первый этаж. Было рано. Пацанва, наверное, раньше девяти – когда у них смена караулов – не вставала. Хан, видать, хотел Пастыря потихоньку завалить, пока ребятня спит. Поставить потом перед фактом и вся недолга. Забоялся, наверное, недовольства.
По лестнице поднялись на первый этаж – в какие-то казённые помещения, тёмные и сонные. Поплутав немного, вышли в пустынный кассовый зал. Пересекли его на цыпочках и спустились в подземный переход. Спящего на лестнице пацана Пастырь трогать не стал – спит дитё, ну и пускай себе спит. Осторожно обогнули его и двинулись по вонючей подземке. Свернули в служебный ход. Здесь тянулся толстый кабель – видать, от генератора. Вдоль этого кабеля и пошли.
Вышли на поверхность, в небольшой внутренний дворик вокзала, с небольшим убогим фонтаном и парой тополей, под которыми уцелели скамейки и урна курилки. Посматривая на крышу, где дремал, наверное, «аист», метнулись к облезлой зелёной двери.
За дверью действительно оказалась лестница на второй этаж. От небольшой площадки короткий коридор уводил к служебным помещениям – к полицейской дежурной части, кажется, в которой провёл Пастырь прошлую ночь.
На втором этаже вышли к углу небольшого фойе. Выглянули краем глаза. В стоявших вдоль стены казённых пластиковых креслах, неудобно спали четверо пацанов.
– Охрана, – шепнул врач Пастырю в ухо. – Там, дальше, зал отдыха. Там много мальчишек. Старшие. Осторожно!
Пастырь кивнул.
– Хан живёт в кабинете начальника вокзала, – продолжал мясник. – По коридору нужно будет идти очень тихо. Но там дорожка.
Варнак снова кивнул, подтолкнул доктора.
Тот на цыпочках устремился к двери в контору.
Войдя, прикрыли за собой дверь, передохнули секунду. Здесь, в конце длинного коридора с деревянными полированными дверьми, с табличками «Бухгалтерия», «Отдел кадров» и ещё пятком подобных привычно-бюрократических, везде и всюду одинаковых надписей, видна была в свете фонаря роскошная тяжёлая дверь с двумя коричневыми табличками: «НАЧАЛЬНИК ж/д вокзала Михайловск-Пассажирский» и «Секретарь». Перевалов кивнул: туда!
Пастырь боялся, что дверь окажется закрытой изнутри. Но Хан, видать, уже не спал – понятное дело. Поэтому, почуяв, что ручка опускается свободно, варнак резко дёрнул дверь на себя, ворвался в пропахший душным сном и слабо освещённый тусклым рассветом кабинет, заметался лучом света по стенам, укрытым панелями. Дёрнул вторую дверь, из приёмной в кабинет, прыгнул внутрь.
Хан спал. Сидел за столом, положив голову на руки, и спал. Когда Пастырь протопал по паркету, он проснулся, но не резко, без суеты, без тревожности. Да и понятно, чего ему было тревожиться. Он и предположить не мог такого развития событий, не ждал гостей.
Когда его узкие заспанные глазёнки непонимающе уставились на вошедших, Пастырь повёл в его сторону стволом автомата, улыбнулся, кивнул:
– Доброе утро, гнида!
Доктор тихонько прикрыл за собой дверь, щёлкнул замком, виновато пыхтел сзади.
Хан посмотрел уже осмысленным взглядом на Пастыря, на доктора за его спиной.
– Что, док, продал? – спросил вполголоса.
– Продал, – кивнул доктор. И добавил сиплым и подрагивающим от волнения голосом: – Ты, Чингиз, извини, но ты слишком много на себя взял. Не унести тебе столько.
Хан перевёл свой узкий взгляд на лицо Пастыря.
– Ты всё равно не сможешь уйти, мужик, – сказал он. В отличие от доктора, царёк был, кажется, спокоен. Или хорошо собой владел. – Ты же не станешь стрелять в пацанов. А они тебе уйти не дадут.
– Разберёмся, – бросил Пастырь подходя к столу, высматривая оружие.
– Автомат – там, – кивнул Хан в угол, где под журнальным столиком, действительно примостился «калаш».
– Угу, – кивнул Пастырь. – А пистолетик?
– Пф-ф-ф! – брезгливо поморщился Хан. – Фуфло. Не люблю.
– Угу… Ну ладно.
Не сводя глаз и ствола с Хана, обошёл вокруг стола. Подхватил «калашникова», перекинул за спину.
– Что с Меченым сделал? – спросил Хан. – С пацанами?
– Да жив твой Меченый, – бросил Пастырь.
– Меченый – правильный пацан, – кивнул Хан. – Самый правильный. На него только и можно положиться. Остальные – шелупонь.
Заглянул варнаку в глаза, кивнул на стул, стоящий напротив.
– Садись, мужик, поговорим. Я ведь их за тобой послал – обсудить кое-что хотел. Предложение сделать.
– Я ж не девка, – усмехнулся Пастырь. – Зачем мне твоё предложение.
– А ты не торопись, – улыбнулся и Хан. – Убить меня успеешь. Если сумеешь, – улыбнулся ещё шире. – А чего не поговорить… Разговор может полезным для тебя быть. Может, разойдёмся по-мирному, чтобы пацаны не пострадали. Они же дети ещё, не виноваты ни в чём.

