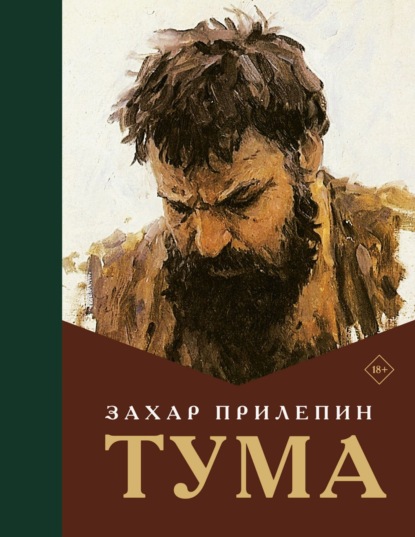
Полная версия:
Тума
Казачья станица – двадцать четыре казака, заглавный Наум, – в ту зиму так и не вернулась, а пришла лишь к майским дням, переждав водополе.
Круг созвали поутру.
Собрались все выжившие в азовских осадах и не умершие в первый же год от покалечин.
Вышел Осип Колуженин – в лёгком, опоясанном тёмно-синим поясом голубом кафтане, в барашковой шапке. В руке – украшенная сияющими каменьями булава. Вослед вынесли бунчук – ореховую палку, на ней серебряный с позолотой шар, а с шара того свисал белый султан конского хвоста.
За спиной атамана встали есаулы Корнила Ходнев и Павел Чесночихин, иная старшина, булавничий, писарь и старики казацкие.
Пред атаманом и старшиной был стол, крытый персидским ковром. На столе тихо мерцала серебряная чернильница.
Поп Куприян, по своему обыкновению задирая голову, прочитал молебен. Рыжую его бороду золотило майское солнышко.
Когда он произнёс последнее «Аминь», с вала ударила пушка. Ни у одного казака не дрогнула и ресница.
– Здравы будем, атаманы-казаки! – прокричал высоким голосом своим Осип. – Вернулась в ночь станица, ходившая до Москвы. Будем слухать станичного атамана Наума, какую весть довёз он!
Наум был в потёртых, со шпорами, жёлтых сапогах, в шёлковом, с закидными рукавами и позолоченными шнурками, пропылённом насквозь зипуне.
Он заговорил горько, будто отпустив себя на волю и не страшась ничего:
– Батюшка православный государь наш… неторопко держал совет с ближние бояре! Трижды перечтя казну русскую… порешили они… не брать дар наш – Азов-город!.. А велели того заместо: возвернуть город султану османскому. Дабы с тем султаном мир государев не порушить!..
Казаки стояли, онемев. Бугрились воловьи лбы их.
– А дьяка нашего войскового, – густо гудел Наум, – Фёдора сына Иванова Порошина… посмевшего в тех советах об Азове-городе… срамить за бесстыдство бояр московских… облаяв их презренье к животам казачьим… по царёву указу, заковали в кандалы… и сослали в монастырь Соловецкий! На другой край руськой земли христианской! К ледяному морю!.. Отмаливать грех поперечного слова!..
Поп Куприян торопливо закрестился, оглядывая молящим взглядом казаков: лишь бы никто не выкрикнул какой хулы на государя и слуг его…
Тимофей Разин вернулся с круга взбеленённый. От злобы его шатало.
Держался за грудь, будто там затянули вкруг сердца жестокий узел.
С грохотом усевшись в курене за стол, хрипя, крикнул Матрёне:
– Вина мне!..
…пил, как по мелкому камню сглатывал.
…выпив, грохнул ковшом о стол. Тут же замахнулся, чтоб сбить тот ковш на пол, – но, сжав кулак, кулаком тем сдвинул ковш от себя подальше, на серёдку стола.
Сидел с минуту.
В чаше на столе были насыпаны азовские орехи. Отец начал давить их, целиком обращая в крошево.
– Блядин сын! – выкрикнул, не вынеся.
Матрёна, зажав рот, побежала из горницы прочь, выталкивая стоявших в сенях Ивана, Степана, Якушку: чтоб не слышал никто, не видел, не помнил.
…когда к Азову вновь явилось турское воинство – не застали они города. Узрели же – огромный пустырь за одинокими крепостными башнями.
Стены раскатали по камню.
Мосты разбили в щепы.
Минареты подорвали, обрушив.
…одна сажа, и пыль, и кладбище всюду…
На руинах не было даже собак.
Посреди сгарища остались лишь церкви Иоанна Предтечи и Николая Угодника.
Их казаки сберегли и окопали рвами.
VIII…прежнюю корзину не уполовинил ещё, а тут Абидка снова занёс.
– Сирб сени унутмамыш, явур (Серб о тебе помнит, неверный. – тат.), – сказал в нарочитой строгости, а потом, поставив корзину, не пойми с чего засмеялся.
Под домотканым узорчатым сербским ковриком таилось настоящее богачество. Куль творога, от кисло пахнувшего духа которого выступила радостная слёзка. Мягкий, как бабий живот, пирог с капустой, и с рыбой ещё пирог. Вяленая телятина – на язык так и плеснуло тёплой слюною. Сербские духмяные лепёшки. Серая каменистая соль. И пузатая капустка на самом дне, от которой повеяло морозцем.
Будто за руку ведомый, Степан отломил у капустки первый листок – там ему и открылась, величиной в половину ладони, иконка.
Сердце качнуло от радости, как ребёнка на качельке.
То был Спас в Силах.
Степан оглянулся по сторонам.
Он не дышал, будто пугаясь спугнуть с ладони самую буйноцветную бабочку.
Спас тот был заключён в тройную славу.
Под четырьмя углами внешней славы были различимы ангел, телец, лев и орёл.
В средней, округлой славе виднелись престолы, поддерживающие Господень трон.
Во внутреннем, писанном суриком кристалле пребывал сам Спас: круглолицый, бесконечно истомлённый и печальный. С набрякшими подглазьями, с разделённой надвое внизу непышной, будто ногайской брадою. Двуперстно осеняющий, бесконечно непобедимый.
…перекрестился, поцеловал.
Спрятал в солому под голову.
…Минька явился сосредоточен, сух.
С ляхом не здоровался, как не видел его. Привычно уже расстелил себе овечью шкуру, уселся по-турецки. Собрал в руку несколько длинных сухих травин и начал их, безрадостно играя, надрывать по кусочку.
Степан ожидал, что меж ними отныне начнётся злая пря, – и не угадал.
– Чего я, Стёпка, вспоминал надысь… – начал Минька раздумчиво. – О том годе, когда твою мать в полон брали, у вас и церквы не было в Черкасском городке.
Степан насмешливо скосился на его смазливое лицо: до чего ж сметливый янычар.
– Не вчера родился я, – разгадал Степановы гляделки Минька, рассуждая до противности сладким голосом. – Не было, так! Ни церквы, ни часовни, ни попа. Когда ж казаки ваши донские на поиски собирались, молитву сам атаман творил. Ни исповеди, ни причастия казаки не ведали тож. Чад не пойми как и крестили. Потому: басурманкой некрещёной мать была твоя! – твёрдо заключил Минька.
Степан разглядывал оседающую в луче света пыль: Минька, махнув шкурою, поднял.
– Всемилостивый Аллах всегда был с тобой чрез мать твою, – продолжал Минька. – Половина твоей души всегда дожидалася пресвятого и великого Аллаха. Ты и в Черкасском городке, так мыслю, в татарской станице обитался подолгу, иначе б не балякал так по-татарски. Угадал ведь? Угада-а-ал… Аллах всеблагой заждался тя, Стёпка. Не упрямствуй, ни серди добрых людей. Слушай, как скажу! Новообращённый – получишь большие дары от паши! – Минька понизил голос и наклонился к Степану. – А то и от самого хана!.. А не только такое вот… – Минька ткнул загнутым носком татарского сапожка сербскую корзину.
Вдруг приосанился, вдохновлённый новой думкой.
– …а вот возвернулся ты на Дон… Казаки донские, может, прямо и не обвинят тебя в лазучестве, Стёпка… Однако ж никаких посольств тебе боле не будет! Ни в Московию, ни к ногаям, ни к мурзам калмыцким! Не хуже меня ведаешь про то: для московитов всякий пленённый – порченый человек. А какой ещё? От православной веры отпал, в церкву не ходил, постов не блюл. И всякую скверность, как и ты, по средам, и по пятницам, и в посты едал. В Русии такой, как ты, на всю жизнь больной, проказой тронутый. Не поверит те никто, что не побасурманился. Оттого что, – Минька снова понизил голос, и даже подмигнул, – и не случается здесь таких. А какие возвращаются и бают, что хранили веру, – лгут все безбожно!
Минька, бросив ободранную травину, жёстко отряхнул ладони.
– Был тут один, помню! Сын мужичий. Живучи у жидовина, веру держал жидовскую и во храмы жидовские ходил. Продал его жид. Живучи у турченина, веру держал татарскую и по-татарски маливался. Продал его турченин. Жил у греченина – и веру держал с греченином снова руськую… Ну, так его снова продали, и к эфиопам свезли теперь!.. – Минька, раскрыв зубастый рот, захохотал, не издавая, по своему обычаю, ни звука, и лишь пытаясь выдохнуть.
Сам себя оборвал, и, не мешкая, зашёл с другой стороны.
– Прежде, Стёпка, правили Русью князья, и платили дань басурманам, и были под ыми – под их единой властью. И по сей день из Москвы сюда везут дань, хотя данью считать её не желают, а именуют ноне подарками. Лукавцы! Глупцы! То не подарки, а как была дань, так и есть. Скоро Астраханское ханство, и Казанское ханство, и ханство Шибирское вернутся в Орду единую. Все города наши, руськие, уж и розданы султаном мурзам татарским! Все поделены! Всё станет по-прежнему, Стёпка. Как при наших дедах и прадедах. Когда князьям нашим жить под ханами было не в ущерб и не в позор.
– Так они ж не басурманились, – сказал Степан без вызова, а как бы раздумывая. – Князья-то.
– И-и-и! – вдруг по-стариковски пропел Минька. – Да откуда тебе знать, чего они там делали в Орде за-ради ярлыка?
Степан смолчал; Минька и не ждал ответа.
– Может, с нас всё и зачинается, Стёпка? – спросил он, глядя благостно. – Ведь одно, когда татарове приходили на Русь, а совсем иное – когда мы с тобой придём…
У Миньки хмельно засияли глаза: верно, не впервой о том загрезился.
Лях в своём углу затих, будто прислушиваясь.
Смолкнув, Минька вдруг завалился в сторону на локоть, чтоб разглядеть ляха.
Толкнувшись рукой, снова уселся.
– Спит, – сказал, посерьёзнев.
«Слов – как на пригожую вдову потратил…» – подумал Степан.
…посидев недолго, то вытягивая, как на лобызанье, то втягивая губы, Минька вдруг поднялся.
На прощанье выговорил:
– Посылок слишком у тебя. Боле не будет, Абидке скажу. Но коли захочешь – от меня принесут…
От самых дверей, не оглядываясь, но свернув голову в сторону, ещё сказал:
– Гляди, если руку вдругорядь не подымешь… Не держать тогда те ни саблю, ни поводья, запомни себе.
IXЗима донская начиналась – с ветра, кусачего, как пёс.
По воде шла непрестанная рябь, травы бледнели, становилось всё меньше разноцветья. Степные буйные запахи вымещал вкус сырости – отсыревшей земли, сырого дерева, промокшей травы, скользких на дожде грив.
Потом, в одну ночь, сырость заедал неодолимый вкус хлада и вызревшего снега.
Сбегая по ступенькам куреня, Степан видел мохнатую ветвь груши в лёгком налёте изморози. Дон ещё льду не поддавался, зато протоки вымерзали враз.
…ещё с помёрзлых и скрипучих мостков расслышал ругань на валах. Караульные казаки, ругаясь со стен, гнали прочь незваных гостей, стояших у ворот. Гости не слушались. Бранчливая перепалка то и дело прерывалась хохотом.
Степан без труда догадался: хохлачи!
Вскоре они уже толпились у плетня разинского куреня. Хозяин, улыбаясь одной, не побитой дробью стороной лица, вышел навстречу без шапки.
Первым входил ещё пуще раздобревший телом, в жупане из тонкой серебряной парчи и в синем кунтуше, Демьян Раздайбеда. Кушак – креповый, а сабля – в богатых ножнах на шёлковых перевязях.
За ним – Боба. Не забыв имени младшего Разина, он, завидев его, засмеялся:
– Здоров, дядько! Как, Степанко, бьёт пищаль твоя?
У Бобы теперь был шрам на лбу – белый, чуть вздутый, словно через голову протянули жилу – и она обросла мягкой кожей.
Одет Боба был богаче, чем в прошлый раз: в сафьяновых, обшитым золотом сапогах, в шапке с алым верхом.
Пока отец обнимался и перешучивался с Демьяном, Боба сообщил Степану, что в прошлый месяц они били шляхту, и, вынув из сапога, показал совсем малый пистоль:
– У шляхетной ляшки под юбкой нашёл! – пояснил шёпотом, голосом почти звенящим.
Степан принял в ладонь пистоль так, словно тот нёс ещё тепло ляшки.
К ним, стеснённый, подошёл Якушка, поклонился. Боба поднял глаза и, вмиг оценив мальца, лишь кивнул, снова продолжив говорить только со Степаном.
…но за стол Боба – уселся, а двенадцатилетнему Степану ещё было рано.
Иван, зная о том, что ему тоже места не найдётся, возился в проездном сарае с упряжью, а потом ушёл к гумну точить косы.
Счастливая явленьем земляков, Матрёна ухаживала за хохлачами особенно старательно, и, если какой казак выходил в сени, ловила, расспрашивала про дела в украинных городках; иных из тех названий Степан и не ведал.
…к вечеру – будто зашедший мимоходом – Корнила Ходнев от дверей кликнул Тимофея: выдь на час.
На улице Корнила злым шёпотом говорил:
– Слыхал, что стряслось, Тимоха?
Разин смолчал, дожидаясь разгадки, – но и Корнила, бледный от злости, не спешил, а смотрел куда-то в сторону часовни, где нежданно загудел в один, будто бы случайный, удар колокол.
– Говори ж… – попросил, наконец, Разин.
– Хохлачи хвастают тем, что побили шедший с Московии на Крым царёв караван, – ответил Корнила, глядя Разину в глаза.
– Мои гости – не хвастают, – сказал Тимофей.
– И не ведают о том? – изгально спросил Корнила.
– О том не вспоминали никак, – ответил Тимофей и оглянулся на курень: там засмеялась Матрёна, и тут же раскатисто загрохотал Раздайбеда.
– Помимо караванных людей и посла нашего, сечевики взяли в полон и турского посла, – раскрыл Корнила. – Государевы послы везли грамоты к султану. Их сечевики силком отняли, доставили сюда и Осипу да Науму в сей час понесли.
Тимофей отёр мелкий крупистый снег со лба.
– А на кой? – спросил, хмурясь.
– На кой? – опять озлился Корнила. – А такая их забава… Как они рассудили, Тимоха. Государь не принял от нас, казаков, Азов-город? По той причине, должно, Войско Донское смертно рассержено на Москву! Так разобиделись мы, что пограбленный караван простим своим братам-сечевикам! Они ж нам такие браты! Крепче не сыскать! – Корнила язвил. – Когда бы наши бояре не отказались от Азова, сечевики б не явились с подобной вестью! – продолжал он. – Они б врали напропалую, что караван побили не они, а татарове!.. А теперь грамотку доставили: гляди, какие угодливые!
– А что в грамотке? – спросил Тимофей.
– А в грамотке той султану государь именует казаков… «ворами»! – ответил Корнила. – Сами сечевики, пальцем водя по свитку, зачитали!.. И я заглянул! Так и писано: де, воры мы. И ещё писано султану от государя: казаки на Дону без призора одичали, творят, что пожелают: то крымски берега шерстят, то Азов воюют… А он-де про то не ведает.
– Так и не ведает? – повторил Тимофей, нехорошо скалясь.
– Брось, Тимофей, – оборвал его Корнила. – То дело государево, как ему с османами вести дела и какие им грамотки слать. Не нашего ума то! Наше же дело – стоять крепко, где стоим. Жалованье царёво едим? Едим! Заботу свою Москва выказывает? Выказывает!..
– Корнила! – чуть пропел Разин, отирая усы от настырной ледяной мороси. – Так не шлёт же ж! Не шлёт жалованье второй год! Пороховых запасов не шлёт! Скоро пушки нечем будет заряжать! Заботу, ети нашу мать, не выказывает нам! Голым задом в сю зиму будем ногаев с валов пужать!
Корнила схватил Тимоху за плечо, тряхнул. Тот двинул плечом, смахивая руку.
– Нельзя идти на поводу у хохлачей, Тимоха! – примирительно заговорил Корнила, сбавляя голос. – Они со своей шляхтой режутся насмерть! Они с королём своим не в ладах! Так им завидно, что у нас с государем иначе! Они желают и нам той же доли! Подтравливают нас на Москву!
Тимофей несогласно крутнул башкой.
– Я не вор, Корнила, а ты сам реши за себя. А я – не вор. На Монастырском яру три тысячи схоронили – все не воры. За каждого скажу: не вор. По мне, хоть три жалованья заплати, а вором себя считать не стану.
– Не то говоришь, Тимоха, – снова оборвал, досадуя, Корнила.
– Скажи то.
– Прибывших хохлачей надо гнать с Дона! Нечего разговоры с ыми водить.
– Так, значит? – Тимофей развернулся, встав лицом к лицу с Корнилой. – …может, их ещё и Москве выдать?
Корнила смолчал, мелко рубя нагайкой порхающий у ноги снежок.
Тимофей шёпотом отчеканил:
– Москва християнскую казачью кровь – за кровь не считает.
– Царь – помазанник Божий, – ответил Корнила.
– Царь – помазанник, а кровь нашу льют – как из ведра свиньям, – сказал Тимофей.
Корнила громко втянул ноздрями воздух.
– Хохлачи с нами имали Азов, – начал Тимофей медленно, вытягивая каждое слово, как грузило из воды. – Их там в азовских камнях – как и нас смолото.
– Как и нас… – повторил Корнила. – Но ты так сказываешь, будто хохлачи заране догадались, что́ в грамоте написано, когда разбоем брали караван.
– А и не догадались, – легко и зло согласился Тимофей. – Ты желаешь, чтоб я посла пожалел, – апосля того, как московские бояре нас не пожалели?
– На том перелазе они нарочно дожидались русского посольства! – гнул своё Корнила. – Да только руський посол проследовал там за несколько дней до того. Хохлачи кинулись за ним вослед – и нагнали-таки. Они, Тимофей, даже не наживы своей ради бросились.
– А ради чего?
– А раздора нашего для, говорю ж! Чего ты не расслышишь меня никак? – Корнила уже и не слишком сдерживал голоса своего. – Хохлач – брат наш во всяком походе и всякой битве с бусурманами! Однако ж, Тимофей, знай. Дончаку всегда легче – он на своего царя хоть через раз, да оглядывается. А сечевик – под чужим королём ходит, он ляцкой проповедью травлен, и оттого веры у него нет никому. Они зарежут русского посла, чтоб проведать, что́ московский царь пишет турскому султану. Потом турского посла прирежут, чтоб разгадать, что́ у султана на уме. Следом зашлют гонцов в обе стороны – с присягами.
– Пойдём, их самих спросим – зашлют ли? – нежданно предложил Тимофей.
– Не пойду, – упёрся Корнила.
– Ты сечевиков боисся?
– Тимоха… не говори такого мне…
– Ну так пойдём?
Корнила сплюнул.
– …а пойдём.
…через час захмелевший Раздайбеда, то ли шуткуя, то ли всерьёз расспрашивал Корнилу:
– Раз ты ходил со станицей до Москвы, батько Корнила, нет ли у тя московских бояр в дружках, чтоб умолили государя принять под свою руку малороссийскую Сечь? С Киевым в придачу?
– Вы перейдёте в подданство, а як чого не по-вашему, побежите в другу сторону, к униатам своим, переговаривать наново, – насмешничал Корнила, нарочито путая донской выговор с малоруським.
– А то вы сами не бегаете, – отвечал добродушно Раздайбеда.
– Мы не бегаем, а стоим, где стояли, – отвечал Корнила, медленно поднимая руку, сжатую в кулак, – и, вдруг сильно стукнул себя по груди, там, где, невидимый, висел крест. – Казак православный токмо царю православному и может служить, какой бы вольный ни был, ибо за казацкой волей глядит всеблагой Христос, а у Христа православный царь на земле один самовластный – руський. Других нетути.
Раздайбеда и не спорил, а Боба и вовсе ел, в три слоя покрывая тёртым хреном холодец и глядя на всех смеющимися глазами.
Корнила не скрывал раздраженья.
– …на Северском Донце не ваши ли сечевики без зазрения напали на струги верховых донских казаков, пограбив и погубив их? – допрашивал он.
Раздайбеда крутил головой и крестился:
– Нет, Корнила, не мы, Христом-Богом клянуся.
– А в землях воронежских – о прошлом месяце обидели русских купцов, отняв у них всё, и утопив всех, не вы ли? – продолжал Корнила.
Раздайбеда без подвоха переспрашивал:
– А верно ль, что не ваши верховые казаки учудили ту подлость, батька Корнила? Откель можно ведать про то, ежели всех, как сказываешь, побили? Как мы будем бить православного человека, когда мы – ветвь одного корення?
– Корення… – передразнил Корнила, и перевёл глаза на Тимофея с тем видом, что веры средь хохлачей нет никому.
XСколько Степан себя помнил, он просыпался в радости.
Выплывало сознание, как каюк, из тумана – и сразу, какой ни была б его постель, – первые слова его были: «Господи, помилуй, как же пригоже всё у тебя…».
…в степных переходах лежали рядом вповалку браты, одежда в присохшей крови, и кто-то в полусне или бреду шептал то по-русски, то по-черкесски, то не пойми как. Он, очнувшись, думал: «Спасе мой, Спасе».
…сладко было просыпаться в стружке, в изнуряющем майском поиске, где и сон был – не сон, а чёрный обморок, и сквозь обморок всё время являлись вёсла, которые, падая, гасят звёзды, но спустя миг звёзды снова оживают и множатся, с вёсел стекая; и, ещё не открыв воспалённые, словно бы раздавленные бессонницей глаза, – слышать море, и ещё как в соседнем стружке – не плачет, чтоб не прибили, но по-собачьи, не в силах сдержать себя, скулит молодая ясырка…
…а какой трепет на душе – в час возвращения с поиска! Зной струится навстречу, облака рябят на воде. Всё больше, меж скрипом уключин, слышится голосов на берегах, а вот и колокол ударил, и звон коснулся чела…
…и все свершённые на поисках грехи уносит вспять донская вода.
…или же очнуться не пойми где, с возникшим в ушах тем самым, неделями слышимым струеньем воды о борта, – и вдруг сладко догадаться: он в курене, и курень никуда не плывёт, а он вернулся, и сундуки его полны…
…просыпаться на летних охотах, тут же слыша смирённый, освежёванный дух битого зверья, и усеянное серебряным крошевом небо, и будто сошедшееся к самой голове душное разнотравье, и первые птичьи голоса, понимаемые им так же, как понимал он разноязыкую речь базаров.
…как хорошо было пробуждаться в ноябрьские черкасские дни, когда сыплют по чакану крыш дожди, и носится ветер, вдруг с разгону толкаясь в плетни, и дрожит, завывая, терновник, и шумит вода в протоках, хлеща с размаху по сваям мостков, и прячутся собаки в конуры, громыхая цепями.
…и когда вставшая в три утра, долго молившаяся Матрёна уже готовит, и запасы рыбы, мяса, солений и дров в их удачливом хозяйстве ещё велики, и вдруг замечаешь сквозь бычий пузырь окошка: выпал снег.
…и когда от голода сводит уже не нутро, а душу, и жрать нынче тоже придётся всё ту же рыбу, – но лёд на Дону дал длинную трещину, и до мая они всё равно доживут: и Матрёна, и Якушка, и брат Иван, и отец, и Мевлюдка…
…и в марте, открыв посреди ночи глаза, лежать оглушённым капелью, стучавшей на сотни голосов. Когда вкруг куреня, рыхлый, шумно оседает снег – будто кто-то чужой, но не страшный ходит и заглядывает во все оконца. Станет, постоит. Снова идёт…
…и когда отцвёл абрикос, а в степи буйствуют горицвет и лохмач, и кружатся пчёлы над цветами, а шмели над алычой, и вечерами лягушки орут с такой силою, словно Черкасск обратился в лягушачье царство…
…или ж проснуться после хмельной ночи на крыше у дружков-ногаев в их станице на краю Черкасска, и, встречая майский полдень, снова пить бузу, сидеть с ними, с крыши не слезая, дивясь, что идущие или едущие мимо казаки, деревья, бараны, бабы, стоящий возле куреня верблюд, куры, – выглядят совсем иначе, потешней. И смеяться надо всем, путая ногайскую речь с русской, и, падая на крышу, прятаться от бредущих мимо ногайских стариков. И, сойдя, наконец, вниз, бродить из одного татарского куреня в другой, повсюду без стеснения угощаясь. И вдруг расслышать домбру, пиликающий кобыз, и увидеть, как немолодой уже ногай выкатился посередь толпы, раздул щёки, вскинул руки, издал рык и… так и остался стоять, шевелимый блаженными судорогами. Тут же в его поддержку раздаётся мычанье других ногайцев, и все они затягивают свою дикую песню – из одного, как коровья жвачка, бесконечного слова. И от немолодого ногая судороги перекидываются на других – и вот уже вокруг Степана стоят все его товарищи ногайцы, то мыча, то крякая, то вскрикивая. Раздувают щёки, вскидывают руки, во все стороны качают хмельными головами, перетаптываются на месте по-медвежьи. И, влекомый происходящим, Степан, отрешившись от себя самого, топчется тоже, скрывая за вялыми движеньями огромную силу, слыша, как переливается кровь и буза в нём, и ощущая при том, что сон его так и не закончился, и всё вокруг – марево, блажь.
…или ж очнуться в монастырских трудниках, когда надо поспешать к заутрене, и будет долгая служба, и он будет слушать пение, и любоваться на по-котёночьи пугающиеся всякого сквозняка огоньки свечей, и снова смиренно ждать, когда раскроется его сердце, и коснётся его негаданное тепло…
…ему было тепло и сейчас, в азовском его сентябре: оттого, что сено было свежим, а в корзине лежали лепёшки, и рыба, и дюжина варёных яиц, и груши, и яблоки, и абрикосы, и вдруг вопил муэдзин, и свет оконного проёма пах недавним дождём, и возможно было расслышать, как азовские бабы выплёскивают помои на сырую дорогу.
Рассвет приходил всё позже.
И переломанная нога уже не ломила, не ныла, как прежде, и синева сошла с плеч и рук, и сломанная грудина заживала сама собой, и битая голова его возвращала прежние свои очертания, и глаза – видели.
…в полдень разодетый Минька, кидая Степану обновки, торопил:
– Сбирайся, сбирайся, Стёпка…
Глядел, часто моргая, как Степан, задрав шаровары, тянет на опухшие ещё ступни принесённые им червчатые тёплые чувяки.
Вошёл молдаванин, волоча новые, как боярские сани, носилки. Полотно у них было крепкое, а не драное, а рукояти – гладкие и с коньками на концах.
Молдаванину помог уже виденный Степаном валуйский Пётр, из невольников, побасурманившийся и взятый в служки.
Во дворе ждала волом запряжённая повозка. Абидка сидел возницей.



