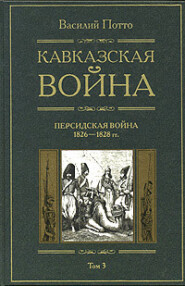 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
Но то, что сделало завоевание Ардебиля особенно памятным, как в летописях военной истории, так и в летописях мирной науки, это – приобретение Россией богатой библиотеки, хранившейся в мечети Шейх-Софи-Эдине, в этом палладиуме шиитской мудрости, служившем лучшим украшением города.
Мечеть эта, основанная, как полагают, в эпоху возобновления Тамерланом персидской монархии, замечательна своей архитектурой, богатством и древностью. Широкие и некогда величественные ворота, покрытые сводом, произведением смелого восточного зодчества, сохраняют еще остатки лепных украшений давно утраченного стиля и ведут во внутренность небольшого двора, окруженного толстыми каменными стенами, в которых вырублены кельи. В самой мечети узорчатые стены испещрены разноцветными, большей частью зелеными кирпичами. Мраморные ступени ведут во внутренность храма, где холодный мраморный пол весь устлан богатыми хороссанскими коврами,– приношениями богомольцев. В одной из стен, в прекрасно выделанной нише, под мрачным куполом стоит гробница святого основателя храма, Шейха-Софи-Эдине, привлекающая сюда на поклонение массу магометан шиитов со всего мира. Гробница отличается искусной резьбой, а богатое покрывало, облекающее и ее, и все возвышение, на котором стоит она, подобно тем, которые ежегодно отправляются почитателями Магомета из Каира в Мекку. Три лампады разливают слабый свет по этому обиталищу смерти, и при слабом мерцании их, и день и ночь, над гробом читаются молитвы смиренными отшельниками, на которых лежит обязанность блюсти в лампадах неугасимый огонь. Рассказы магометанского духовенства о чудесах Софи-Эдине и написанная им история жизни святого – сбивчивы и противоречивы; но из них ясно, что шейх был человек с необыкновенным умом и большим по своему времени образованием. Вправо от ниши Софи-Эдине находится другая гробница, в которой покоится шах Измаил-Софи, основатель новой персидской монархии и родоначальник династии Софиев, царствовавшей до Надира-шаха. Некогда над этой царственной могилой висели укрепленные в своде храма четыре, принадлежавшие шаху Измаилу, меча, острием и силой которых он утвердил свой род на престол Персии. Рука беспощадного времени исторгла два из них, другие два сняты персидскими государями,– и теперь драгоценные памятники мощной древности заменены какими-то жалкими, ничего не стоящими изделиями новейших оружейников.
Левее царского гроба находится светлая веселая комната, устроенная Шах-Аббасом и украшенная подаренными им чашами и вазами индийского фарфора. Еще левее вход в залу, в которой и находилась славная на всем Востоке библиотека арабских и персидских рукописей. Говорят, что эта библиотека получила основание в царствование Шах-Аббаса, тщательно собиравшего все драгоценные литературные памятники древности, которые потом он и сложил в мечеть, сооруженную в память его деда, Шейх-Софи. Несколько драгоценных дверей, окованных серебром и чистым золотом, вели в это хранилище мусульманской мудрости. Этой-то драгоценной библиотекой, всем, что было в ней ценного, что составлялось веками из пожертвований многих властителей Персии, Сухтелен овладел как военным трофеем. И ныне она хранится в Императорской Санкт-Петербургской публичной библиотеке. А там, где она была прежде, любопытный путешественник находит лишь опустевшие полки.
Сухтелен провел это дело политично и тонко. Опасаясь увозом книг возбудить негодование народа, он начал выражением уважения и удивления перед мусульманской святыней и подарил мечети огромный персидский ковер. Ковер этот был тотчас же разостлан между гробами шейха и шаха Измаила. Это было доказательством благоприятного для русских расположения умов населения, которое, нужно сказать, гордилось еще накануне тем, что ни в городе, ни в округе его никогда не водворялись христиане. Тогда Сухтелен созвал к себе знатнейших представителей магометанского духовенства города, имевшего огромное влияние в целой Персии, и объявил им, что русское правительство, заботясь о нравственном воспитании и благоденствии своих многочисленных мусульманских подданных, крайне нуждается в книгах и в сочинениях знаменитых писателей Востока и что ему поручено по этому поводу просить согласия духовных лиц отправить всю библиотеку Шейх-Софи-Эдине в Петербург, где с книг снимут копии, после чего подлинники возвращены будут обратно. После долгих споров, рассуждений и отговорок почтенные хаджи и муллы наконец изъявили свое согласие. Тогда Сухтелен, в сопровождении их, отправился в мечеть и возложил на гроб шейха Софи парчовый мешок с восьмьюстами червонцев, сказав присутствующим, что это – дар русского императора. Богатство приношения поразило мулл, и книги тотчас же были сданы Сухтелену. Необходимо заметить, что персияне долго не понимали, что вся коллекция их манускриптов стала собственностью России; они все ждали их возвращения и были убеждены, что русские переписчики все еще не успели списать их рукописи.
Покорением Ардебиля закончились и военные действия 1828 года в Персии. Вновь занятые русскими пункты, Урмия, Марага, Ардебиль и путь к Миане,– образовали железную цепь, надвигающуюся к самому сердцу Персидской монархии. Сопротивление шаха становилось невозможным.
Еще прежде, когда передвижения русских войск только что начинались, невозможность сопротивления поняли англичане. Не отошли главные силы Паскевича и одного перехода от Тавриза, как мимо их верхом проскакал английский посланник Макдональд, а когда они едва миновали Уджан, он уже возвратился из Тегерана с известием, что шахом приняты все условия мира.
Паскевич назначил деревню Туркменчай пунктом, где должно состояться заключение мира,– и продолжал к нему наступление.
XXXIV. ТУРКМЕНЧАЙСКИЙ МИР
В сорока трех верстах от Миане, на пути из Тавриза, расположена небольшая деревня Туркменчай. Этому ничтожному селению, едва известному во времена Паскевича в ближайших центрах Персии, суждено было оставить свое имя в истории.
Получив известие, что Аббас-Мирза, по повелению шаха, едет навстречу русским войскам для подписания мирного договора, Паскевич тотчас послал нарочного, чтобы просить наследного принца остановиться в деревне Туркменчае. Место это было выбрано, по словам самого Паскевича, потому, что в окрестностях находится много деревень, которые могли достаточно обеспечить продовольствие войск.
В самом Туркменчае поместились, однако же, только два эскадрона улан да сводный гренадерский батальон из рот Херсонского и Грузинского полков, назначенные в конвой главной квартиры. Комендантом се на время конгресса назначен был командир Херсонского полка, полковник Попов.
Паскевич приехал в Туркменчай только шестого числа. Его встретили уланы и батальон пехоты за деревней. Он обошел войска, приветливо здоровался с солдатами и остался ими чрезвычайно доволен. “Я нашел их,– говорит он,– в исправности, и даже одежду – порядочной. А не надо терять из виду, что эти роты стояли в Уджане бивуаком при двадцатиградусных морозах, а летом, под Аббас-Абадом, выдерживали пятидесятишестиградусный зной”.
Квартира для Паскевича была отведена в доме деревенского кеят-худе, старосты. Домик этот, любопытный для каждого русского, и поныне сохраняется в том виде, в каком он был во времена персидской войны; он весьма невелик, одноэтажный и состоит всего из двух комнат, разделенных между собой коридором; в каждой комнате по одному окну, и так как стекла в них разноцветные, то в комнатах всегда царствует полусвет; наверху – бельведер с маленьким помещением, на дворе – прекрасный цветник, также маленький,– и все это обнесено, по восточным обычаям, высокой глиняной стеной. Паскевич занял в доме только одну комнату, оставив другую для Аббаса-Мирзы. Здесь и решилась судьба Персии, а в лавровый венок россии вплелась новая ветвь славы.
Местные жители долго помнили и хранили предание о том, как жили в доме туркменчайского старосты Паскевич и наследник Персидского царства. “Велик наш падишах,– говорил впоследствии хозяин домика одному русскому путешественнику, посетившему Туркменчай в 1839 году,– но ваш еще больше! Когда жил здесь Паскевич, наш Аббас-Мирза, бывало, все ходит за ним, все просит его,– такой смирный стал… А на дворе, бывало, целый день музыка гремит, а за деревней сотни пушек стояли”…
При данных обстоятельствах переговоры, конечно, затянуться надолго не могли, да притом и все пункты уже были рассмотрены и утверждены Аббасом-Мирзой еще в Дей-Карагане. Русское правительство, нужно добавить, и само склонялось уже на уступки, готово было ограничить контрибуцию всего пятью курурами. Паскевич, однако, скрыл это решение,– и Аббас-Мирза согласился на все.
С девятого на десятое февраля, ровно в полночь, в момент, объявленный персидским астрологом самым благоприятнейшим,– мир был подписан. Сто один пушечный выстрел немедленно возвестил об этом событии войскам и народу. В лагере прогремело “ура”, персияне сами изъявляли живейшую радость, поздравляли и обнимали друг друга. Аббас-Мирза казался печальным; но и он скоро оправился и принимал поздравления от русских и персидских чиновников “с достоинством и свойственной ему любезностью”, как выражается Паскевич,– и тут же, по персидскому обыкновению, раздавал леденцы всем присутствующим.
По туркменчайскому трактату Персия уступала России Эриванское и Нихичеванское ханства, причем обязывалась не препятствовать переселению в русские пределы армян, предоставить России исключительное право плавания по Каспийскому морю и заплатить десять куруров, или двадцать миллионов рублей серебром, контрибуции.
Когда трактат был подписан, Аббас-Мирза предложил снять с края постоянную угрозу военной бури, которая заключалась в стоящих друг против друга враждебных войсках. Предложение было принято. Персидские войска, занимавшие Зангам, отступили к Тегерану, русский авангард, стоявший в Миане, отошел к Тавризу, а графу Сухтелену послано было приказание очистить Ардебиль, город, в котором Аббас-Мирза должен был иметь свою временную резиденцию до окончательного выступления русских войск из Азербайджана. Но когда именно русские должны будут очистить Азербайджан, долго оставалось нерешенным вопросом.
Дело в том, что, по настояниям Паскевича, из числа десяти куруров семь – должны были быть внесены прежде, чем войска оставят Тавриз; в обеспечение восьмого курура русские временно оставляли за собой Хойскую провинцию, а уплата остальных двух куруров была рассрочена персиянам на несколько лет. Пять куруров персияне заплатили. И двадцать шесть повозок, нагруженных золотом и запряженных рослыми лошадьми, покрытыми богатыми коврами, имели торжественный въезд в Тифлис при радостных криках жителей, которым казалось, что в стены Тифлиса возвращаются сокровища, некогда увезенные из него свирепым Ага Мохаммед-ханом, родоначальником нынешней царской династии. Шестой курур был в дороге,– а седьмого достать было пока негде. Шах не иначе соглашался дать его из собственных денег, как за поручительством английского правительства в том, что Аббас-Мирза впоследствии возвратит ему эту сумму; английский полномочный министр Макдональд не решался дать это ручательство, не уверенный, будет ли Аббас-Мирза иметь средства к уплате без возвращения ему Азербайджана. Чтобы выручить Аббаса-Мирзу из столько затруднительного положения, Макдональд предложил Паскевичу из своего казначейства немедленно миллион рублей серебром, с тем чтобы русские очистили Тавриз таким образом не за семь, а за шесть с половиной куруров. Паскевич на это не согласился, требуя в обеспечение остального миллиона Урмийскую провинцию. Дело наконец уладилось. После короткого колебания Аббас-Мирза согласился оставить в русских руках Урмию,– и очищение Тавриза было решено. Не лишнее сказать, что миллион, добытый с таким трудом от Макдональда, обошелся персидскому наследному принцу весьма недешево: Макдональд за услугу потребовал уничтожения трактата, которым Англия обязывалась, в случае нападения на Персию какой-либо державы, давать ей восемьсот тысяч рублей субсидии или помогать войсками и оружием.
Когда, таким образом, все дела были, наконец, улажены, Паскевич отправил в Тегеран генерал-майора барона Розена приветствовать шаха с заключением мира. Вместе с Розеном ехали флигель-адъютант полковник граф Толстой и генерального штаба штабс-капитан Куцебу; на последнего возлагалась обязанность собрать в Персии русских пленных и препроводить их в родные границы.
Когда они готовились к отъезду, Мирза-Абдул-Гассан-хан, министр шахский, просил Паскевича отправить в подарок шаху пять тысяч червонцев, и, если возможно, новой монетой, утверждая, что шах примет этот подарок с особенным удовольствием. Как ни странна была просьба, как ни нелепо казалось подносить царствующему государю денежный подарок, однако настойчивость, с которой просил об этом персидский министр, не оставляла ни малейшего сомнения, что предложение это делается по желанию самого шаха. “Английский посланник,—отмечает Паскевич в своем журнале,– подтвердил мне о таковой странности в характере Фетх-Али-Шаха”. И вот, собрав и вложив в богатый парчовый мешок пять тысяч самых новеньких червонцев, Паскевич поручил барону Розену вручить их шаху, в навруз, то есть десятого марта, в день нового года по магометанскому летоисчислению.
Розен прибыл в Тегеран первого марта. На пути повсюду, в городах и селениях, его встречали с почестями; две тысячи конницы сопровождали его в виде почетного эскорта. Но народ, ожидавший появления русских войск за Кафлан-Кухом, видимо был недоволен изменившимися обстоятельствами. Находились смельчаки, которые прямо говорили Розену: “Зачем вы едете одни? Почему не ведете с собой войска и отдаете нас опять ненавистным Каджарам?”. Во многих местах ожидались серьезные волнения, и Розен заметил, что войска персидские повсюду стояли наготове.
Целую неделю прожил Розен в Тегеране, прежде чем принят был шахом в торжественной аудиенции. Она состоялась восьмого марта. Прием был без соблюдения восточного унизительного этикета, раз навсегда уничтоженного для русских настойчивостью Ермолова. Шах был чрезвычайно благосклонен, выражал горячие чувства русскому императору, с уважением говорил о Паскевиче, удивлялся строгой дисциплине в русских войсках. “Если подданные мои и потерпели разорение,– сказал он Розену,– то не от русских, а от своих же соотечественников”. Шах поинтересовался, между прочим, как русские смотрят на Аббаса-Мирзу, и остался весьма доволен, когда Розен дал ему тонкий дипломатический ответ, что “Аббас-Мирза есть достойный сын великого государя”.
Через два дня, в день навруза, шах получил назначенный ему подарок. К сожалению, впечатление подарка было ослаблено непрошеной молвой, которая с чудовищной быстротой облетела всю Персию и заранее дошла до шаха. Говорили именно, что Розен везет с собой не пять тысяч червонцев, а четыреста тысяч рублей, и шах, доверивший слуху и уже предвкушавший удовольствие получил именно означенную сумму, был разочарован. Судьба, впрочем, позаботилась изгладить в уме повелителя Ирана нелестное мнение о щедрости русских. Почти в тот самый день, как Розен представлял шаху подарок, вспыхнуло восстание среди племени эздов. Жители выгнали от себя правителя, одного из царственных принцев, разграбили дом его и, может быть, из опасения наказания, отправили шаху из награбленного богатства восемь миллионов рублей, рассчитывая смягчить гнев его. Это было совершенной неожиданностью для шаха, а о том, каким путем достались ему эти сокровища, он не хотел и думать. Розен писал Паскевичу, что шах был в восторге и даже сказал ему: “Я не жалел платить деньги русским для блага и спокойствия своего государства, и Аллах ниспослал мне эти, взамен тех”.
Изыскивая сделать что-либо приятное русскому государю в ответ на подарок, шах повелел, чтобы гвардейский батальон джанбазов, расположенный в Тегеране, именовался батальоном Его Величества, императора Всероссийского, а один из батальонов азербайджанских – именем Паскевича. В то же время, чтобы дать своим подданным пример к возвращению русских пленных, шах приказал освободить даже нескольких женщин из своего гарема. “Такой беспримерный случаи – говорит Розен в донесении к Паскевичу,– изумил тегеранских вельмож и народ, но не вызвал среди персиян подражания”.
Вообще, пленные возвращались с большими затруднениями. В Казвине, еще на пути к Тегерану, Розену едва не силой пришлось освобождать многих несчастных, скрытых и запертых в тайниках при первом слухе о приближении русской миссии. Собрать всех пленных не было уже никакой возможности: многие были проданы туркменам и через десятые руки дошли до самой Хивы; немалое число их томилось в отдаленнейших провинциях Персии, где шахский фирман являлся гласом вопиющего в пустыне. А в Тавризе совершалось и нечто такое, что было прямой противоположностью размену военнопленных. Именно в последние дни замечено было, что персияне исподтишка склоняют русских солдат к побегам и что эти подговоры идут с каждым днем все с большей энергией. Были даже случаи открытого насилия, и нескольких солдат, захваченных поодиночке, увели в плен, а впоследствии или зачислили в шахскую гвардию, или продали в далекое безысходное рабство. Вспоминается при этом подвиг рядового ширванского полка Куксенки, который, в одном из подобных случаев, обнаружил замечательное присутствие духа и оказал русскому делу весьма серьезную услугу.
Однажды,– это было вечером 4 марта,– тавризскому коменданту дали знать, что несколько русских солдат задержаны персиянами в одном из домов, стоявших в самой отдаленной части глухого форштадта. Полицеймейстер с офицерским патрулем немедленно отправился туда, и солдаты были освобождены. На шум сбежалась между тем огромная толпа вооруженного сброда и напала на патруль; офицер был ранен, и слабая команда вынуждена отступить. Вот в это-то время двое рядовых, Куксенко и другой, имя которого не сохранилось, были отрезаны от своих и очутились среди толпы персиян. Товарищ Куксенки, оступившись, упал в какую-то яму, и хотя успел выскочить из нее, но уже без оружия. Тогда оба они бросились в первую попавшуюся хату и в ней заперлись. Персияне, окружив дом, потребовали, чтобы солдаты сдались, и, получив отказ, вломились в двери. Тогда ширванцы сделали почти невероятное дело. Выстрелив два раза из оружия и положив на месте двух персиян, Куксенко громко скомандовал самому себе: “На руку!” – и с криком “ура!” поднял на штык первого персиянина; затем он устремился в толпу и, прокладывая себе путь штыком и прикладом, не только отбился от сотен вооруженных людей, но успел провести сквозь остолбеневшую толпу и своего безоружного товарища. Геройский подвиг этот послужил достойным эпилогом к персидской кампании. Паскевич собственноручно надел на Куксенко знак отличия Военного ордена.
Случаи, вроде рассказанных, указывали на враждебное настроение жителей Азербайджана в отношении к русским и заставляли ожидать все больших и больших беспорядков. Действительно, когда седьмой курур был кое-как Аббасом-Мирзой собран и уплачен, когда таким образом наступало время выступления русских войск из Тавриза и известке об этом распространилось по Азербайджану, повсюду вспыхнули волнения. Персияне, опасаясь теперь мщения Аббаса-Мирзы за измену и стараясь смягчить его гнев, видимо усердствовали нападениями на русских. В самом Тавризе несколько солдат и офицеров были убиты из-за угла; в Мараге команда, посланная на фуражировку, встречена была каменьями; в Урмии один офицер, проходивший по улице ночью, был ранен кинжалом. Ходили слухи, что урмийские жители готовятся даже устроить и поголовную ночную резню.
Конечно, как в Урмии, так и в Хое оставался довольно значительный русский отряд, под начальством генерала Панкратьева, и потому серьезной опасности не было; но так как войска эти оставались в персидских провинциях на неопределенное время, пока не будет уплачен персиянами восьмой курур, то естественно было позаботиться о водворении порядка в буйствовавших провинциях,– и меры принимались.
Выступление русских войск из Тавриза началось 22 февраля, когда из города вышла первая колонна, и продолжалось до 8 марта. И все это время население города провело в тревоге, усложнившей для русских войск и без того хлопотливое дело. Произошло это, между прочим, оттого, что вместе с войсками готовился уехать из Тавриза и глава мусульманского духовенства, тавризский “муджтехид” Ага-Мир-Феттах-Сеид, пожелавший переселиться в Россию. Нужно сказать, что влияние муджтехида на весь Азербайджан, и тем более на жителей столицы, было громадно. Добрые качества души его, бескорыстие и готовность помогать бедным привязывали к нему всю чернь, находившую в нем всегдашнего своего защитника, и отъезд его не мог не поднять на ноги все население Тавриза. Само персидское правительство думало, что отъезд Феттах-Сеида в Россию будет настолько же пагубен для власти Каджаров в Азербайджане, насколько принесет пользу России окончательным умиротворением ее мусульманских провинций.
Действительно, приобретение в лице муджтехида, столь важной духовной особы Алиевой секты, не могло не иметь для русских серьезного политического значения, которым Паскевич и намеревался воспользоваться в полной мере. Он думал подчинить Феттах-Сеиду все духовенство шиитов, по необходимости относившееся до сих пор в делах, касавшихся веры, к персидским муджтехидам, которые своим влиянием и поддерживали только ненависть к русским в своих единоверцах. Но персидское правительство далеко не прочь было удержать эти старинные порядки и принимало меры, чтобы отклонить муджтехида от его намерения. Аббас-Мирза слал ему пригласительные письма, английский посланник его уговаривал, Аллаяр-хан требовал от Сеида какой-то небывалый долг, чтобы этим иском задержать его,– но муджтехид остался непреклонен, и выезд его из Тавриза был назначен на 7 марта. Наступил, наконец, этот день. С утра народ запрудил все улицы, а кровли усеялись женщинами. Толпа волновалась.
Муджтехид сам вышел на балкон своего дома. С большим смирением, всегда его отличавшим, он говорил народу, что изменить слову, однажды им произнесенному, для него было бы еще прискорбнее, чем расстаться с родиной и близкими, что поступок его не может быть подвергнут осуждению, так как не деньги и почести влекут его в Россию, а исключительно привязанности к народу, который он имел случай узнать и среди которого решился окончить свою жизнь. Толпа отвечала воплями и рыданиями. Наружность муджтехида в эти трудные минуты изменилась; он был бледен и дрожащим голосом уговаривал народ забыть его пребывание в Тавризе.
В восемь часов утра дорожная коляска Феттах-Сеида, окруженная казачьим конвоем, выехала из ворот дома; за ней бросилась толпа. Многие кидались под лошадей, все – целовали руки его и просили на память куски его одежды. Верст пять за городскую заставу провожала его толпа; но вот экипаж понесся во всю прыть, и – народ отстал.
На следующий день, 8 марта, утром, выехал из Тавриза Паскевич, а в полдень Аббас-Мирза имел торжественный въезд в свой загородный дворец,– и торжественный и печальный в одно и то же время. Управляющий тогда Азербайджанской областью генерал-майор барон Остен-Сакен, еще оставшийся в городе, так рассказывает об этом в своих записках:
“Положение Аббаса-Мирзы, при возвращении в Тавриз, было самое неприятное, которое стеснило бы и умнейшего из умных. Но я был свидетелем забавной сцены, выразившей и находчивость его, и дерзость в высшей степени. Я оставался в Тавризе с последней колонной войск до приезда Аббаса-Мирзы, которому должен был передать управление Азербайджанским краем. Я ожидал его с почетным караулом в загородном дворце, вокруг которого толпились тысячи народа. После приветствия, обращенного к солдатам, Аббас-Мирза пригласил меня с собой в комнату. Войдя, мы подошли к окну, и я с возрастающим любопытством ожидал, что он скажет народу. Я приказал переводчику слушать со вниманием и передать мне все буквально. Вот вкратце слова его:
“Несчастье, ниспосланное нам Богом, да послужит для нас уроком. Взгляните на этот дворец; здесь зимовала казачья бригада. И что же? Прутика не тронуто, как будто бы я поручил мой дворец лучшему хозяину. А вас, негодяев, куда ни поведу,– вы везде грабите, жжете и убиваете. Вас встречают и провожают проклятиями. Может ли быть над вами благословение неба?”
Народ был ошеломлен такой речью,– но разразился знаками одобрения.
Довольный спокойствием, порядком и сохранением Тавриза, Аббас-Мирза сказал между прочим полковнику Лазареву:
“Кто любит своего коня, тот радуется, когда его холят. И я тем более обязан вам за попечение о жителях, что они весьма близки моему сердцу; я жил с ними от самой моей юности”.
Как только Аббас-Мирза приехал в загородный дворец, последние русские войска, полки Херсонский и Грузинский, покинули Тавриз, чтобы дать ему возможность в тот же день торжественно вступить в свою резиденцию и уже в отсутствие гяуров встретить 9 марта, то есть навруз, новый мусульманский год. Войска потянулись по персидской земле, конвоируя громадные обозы, магазины и парки,– все, что засело в Тавризе до последней минуты и теперь двигалось обратно на русскую сторону Аракса. Еще стояла суровая зима, попутная гористая часть Персии была совершенно безлюдна и безлесна, и войскам приходилось переносить неимоверные лишения, не имея часто даже кустарника, чтобы разложить на ночлег скудный бивуачный огонек. Так дошли до Аракса и 24 марта переправились через него у Асландуза, чтобы встретить раннюю в тот год Пасху уже на русской земле. Южная часть Карабага ничем не отличается, правда, от Персии: те же опустошения, то же безлюдье,– следы минувшего персидского вторжения, от которого страна не успела еще оправиться. Но здесь ласковее было солнце, приветливее смотрело ясное, голубое небо. Начиналась весна, и оживающая природа вливала силу и бодрость в усталых солдат. Сухое разговенье одними сухарями, даже без водки, которой не нашлось у маркитантов, не ослабило общего веселого настроения духа. Войска сознавали, что пришли домой, что труды долгой войны закончены, и закончены со славой, обессмертившей имена участников ее.



