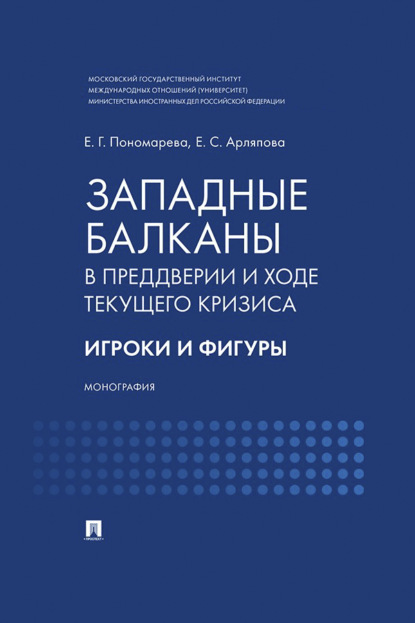
Полная версия:
Западные Балканы в преддверии и ходе текущего кризиса. Игроки и фигуры
Объективное исследование сложной и многоуровневой балканской материи возможно только на комплексной методологической основе. Базовыми теоретическими подходами стали историко-системный, оптимально подходящий для детального изучения траектории развития политической повестки и эволюции инструментария балканских игроков классический политический реализм и неореализм. Последний особенно актуален в контексте «революции» К. Уолтца, который в теории системных регуляторов международных отношений учел наработки либеральной школы. В частности, при определении долгосрочных правил межгосударственного взаимодействия необходимо учитывать намерение мирополитических гигантов не рассматривать войну в качестве альтернативы переговорному процессу решения существующих и возникающих проблем[45].
Важным дополнением к разработкам Уолтца стала концепция «баланса угроз» С. Уолта. Он предложил четыре критерия, по которым можно определить потенциальную угрозу международного и в данном случае регионального конфликта: экономический потенциал, географический ресурс, военные возможности и наличие/отсутствие агрессивных, в том числе ревизионистских, замыслов. Поскольку чаще всего этой стратегии стараются следовать малые и средние акторы, «баланс угроз» определил понятие «сила (власти) от угроз»[46]. Игроки верхнего уровня всегда внешние по отношению к региону. При этом именно они играют определяющую роль и имеют первостепенное значение для Балкан. Таким образом, в условиях разбалансировки современной системы международных отношений и роста потенциала конфликтности принципиально важными инструментами анализа стали положения неореалистов о зависимости возможностей противодействия различным угрозам и вызовам со стороны государства от его места и роли в мировой системе[47]. По-прежнему движущей силой международных отношений остается жесткое, сдерживающее воздействие структурных ограничений международной системы, что, в свою очередь, зависит от развития структурного и нормативного потенциала западнобалканских стран, с одной стороны, и от интересов и возможностей ведущих игроков мировой политики – с другой.
Самое время определить понятия «игроки» и «фигуры». В 1997г. в работе «Шах планете Земля» Бернд фон Виттенбург (псевдоним Бернда Любека) предложил следующую иерархию мировой власти: хозяин игры, игроки, помощники игроков, игровые фигуры и битые фигуры[48]. При всей спорности многих воззрений этого автора полагаем, что предложенная им градация политической иерархии позволяет заглянуть за кулисы публичной политики. Предложенная Виттенбургом-Любеком схема не научная теория. Это метафора. Но, что существенно, «любая метафора, предполагая целеполагание, содержит в себе три содержательных измерения». Это онтология – бытийная система координат. Это аксиология – ценностное измерение, задающее критерии – что хорошо, а что плохо. «И наконец, это процедурное измерение, уровень практик, которое регламентирует, какие действия нужно предпринимать в рамках достижения цели»[49]. На уровне онтологии метафора формулирует ответ на вопрос: зачем нужно предпринимать конкретные действия и к чему они должны привести? На уровне ценностного измерения метафора отвечает на вопрос: как оценивать действия, что можно считать удачей и успехом, а что – провалом, проигрышем, злом? На уровне процедуры звучит ответ на вопрос: что именно должно быть предпринято? При анализе политической ситуации, используя/реконструируя метафору, «мы можем выяснить мотивы и целеполагания сторон даже лучше, чем это представляют себе ее непосредственные участники»[50].
Таким образом, часто именно метафора позволяет понять истинную природу власти. Еще А. Смит определил политику как коллективную деятельность, основанную на разделении труда[51]. Очевидно, что функционал хозяина, игрока или фигуры различен. Последние никогда не видят всей картины целиком и не осведомлены о стратегических замыслах первого. Так что метафора – важный элемент научного анализа.
В России метафору ранжирования власти развил О. Г. Маркеев[52]. Писатель выделил хозяев мировой игры, игроков и фигуры. Кстати, весьма показательно, что британский премьер (1868) и один из представителей социального романа Б. Дизраэли в своих литературных произведениях назвал властителей судеб, причем не всегда явных, публичных, хозяевами Истории: «Мир управляется совсем иными людьми, о которых даже представления не имеют те, кто не заглядывает за кулисы»[53]. Ему же принадлежит потрясающего наполнения фраза: «Колонии не перестают быть колониями лишь потому, что они получили независимость».
Итак, хозяева руководят игроками, которые в значительной степени самостоятельны, но только в рамках правил, которые составляют и произвольно меняют хозяева. Есть фигуры, которыми игроки делают ходы. Фигура может попытаться стать игроком, но навсегда останется в рамках, определенных хозяевами. Игроки, как и фигуры, представляют разные неравноценные ряды. Фигура не может охватить взглядом всего игрового поля. Делать ходы – это прерогатива внешних сил, играющих. «Задача фигуры – выполнять определенные действия. При этом она не преследует каких-либо собственных целей, а лишь реагирует на приказы „сверху“. Иногда фигуры попадают в ситуации, смысла которых не могут понять, если, конечно, не попытаются проникнуть в суть игры. Но по разным объективным обстоятельствам им все же приходится отказываться от попыток выяснить свою роль в игре»[54].
Вряд ли можно согласиться с Виттенбургом-Любеком в том, что фигура «не преследует каких-либо собственных целей». Безусловно, они есть даже у маленькой и незначительной фигуры. Элементарное выживание, доступ к разного рода благам и, конечно, власть, пусть в ограниченном пространстве и при скудных ресурсах. В противном случае политика не знала бы сбоя в реализуемых игроками операциях. В какой-то момент фигура может стать «камешком в жерновах ихнего прогресса»[55] и именно на этом «камешке» жернова могут затормозиться. Также, используя конфликт интересов (практика сидения на двух стульях), фигура может в своих интересах довольно долгое время лавировать между несколькими игроками. И наконец, фигура при определенных обстоятельствах может стать игроком: история знает и обратное превращение. Например, по итогам Второй мировой войны СССР стал ведущим игроком мировой политики, одной из двух супердержав, а в конце 1980-х гг. из игрока превратился в фигуру.
Используя метафору игроков и фигур, необходимо обозначить их круг применительно к изучаемому региону. Сразу оговоримся, что хозяев мировой игры мы выводим за скобки. Предметный анализ их состава, возможностей и стратегий требует иного формата изысканий.
Итак, игроки и фигуры могут быть двух уровней – институциональные и персонифицированные. Институциональные игроки в свою очередь делятся на наднациональные (ЕС, ЕАЭС, НАТО, ОБСЕ, СБ ООН, ШОС; особым наднациональным субъектом является Ватикан), транснациональные (ТНК и финансовые структуры) и национальные. К последним относятся экономически сильные государства, обладающие, несмотря на серьезные ограничения неолиберальной эпохи, определенной долей суверенитета, имеющие исторический опыт мирового или регионального управления. Таковых в мире немного. Применительно к Западным Балканам крупных национальных игроков не больше десятка – это Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция. С оговорками – Австрия, Венгрия, Италия. В последние годы в регионе активизировался целый ряд государств, которых можно определить как игроков «второго плана». Прежде всего, это Иран, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Турция.
Западнобалканские страны даже на региональном поле не являются игроками. При всем уважении к историческому прошлому народов региона, особенно к подвигу сербов, которые выстояли в двух мировых войнах, международной субъектностью в этой части света даже не пахнет. После разрушения СССР и мировой системы социализма Албания и осколки бывшей Югославии превратились, словами В. Л. Цымбурского, в груду «геополитический щебенки»[56]. Последним институциональным игроком в регионе и то с определенными оговорками была Союзная республика Югославия, а персонифицированным – Слободан Милошевич. В современных условиях тот, кто следует в русле неолиберальной парадигмы, кто включен в англосаксонские структуры, по определению фигура в игре глобалистов. Шанс стать игроком есть у тех, кто либо удачно маневрирует, играет на противоречиях, либо находится в прямом противостоянии с глобалистами. Есть случаи, когда в стране может быть несколько игроков мирового уровня. Например, Иран играет как государство, как Улама и как КСИР. Причем, последние два игрока имеют наднациональную природу. Этот пример является еще одним подтверждением того, что есть игроки открытые и закрытые. К первым относятся институты публичной власти, ко вторым – спецслужбы и группы давления. В данном исследовании мы рассматриваем только открытый контур.
Что же касается современных национальных лидеров, то здесь серьезные проблемы. Причем это общемировая тенденция. Франсуа Миттеран неслучайно называл себя последним французским президентом. Он знал, о чем говорил. Субъектность европейских и балканских лидеров в настоящее время отсутствует как явление. Подавляющее большинство из них – фигуры. Есть исключения, которые лишь подтверждают правило: Виктор Орбан – фигура, пытающаяся стать игроком. Что же касается персонифицированных субъектов Китая, Ирана, России, Турции, ряда арабских монархий, то это игроки, которые, однако, имеют ограничения в свободе ведения своих партий. Их деятельность во многом зависит от логики внешних обстоятельств, которые часто оказываются сильнее логики намерений этих игроков.
Технология превращения национальных лидеров в фигуры проста: «…опровергайте любые мысли, что ведется игра, скрывайте правила от игровых фигур, не давайте им извлечь никакой пользы для себя. Скрывайте цели игры, сохраняйте фигурам такие условия, чтобы они не смогли отказаться от участия в игре. Препятствуйте появлению у них чувства удовлетворенности от проделанной работы. Сделайте так, чтобы фигуры выглядели как игроки, но не позволяйте, чтобы они действительно таковыми становились. Со стороны они могут казаться всемогущими, но реально у них не должно быть никакой власти»[57]. И сколько бы Альбин Курти или Эди Рама ни говорили об объединении Албании и Косово, это вопрос не их компетенции. Настоящих целей ведущейся игры они даже не знают.
В данной книге мы предприняли попытку определить региональные стратегии ключевых и пока второстепенных внешних (национальных и наднациональных) игроков; проследить трансформацию видения и практических шагов ведущих акторов сквозь призму украинского кризиса; выявить региональные расхождения в восприятии и оценке украинского конфликта; обозначить вероятные тренды активности западнобалканских фигур на внешнем контуре; оценить российские перспективы в регионе в условиях острого противостояния с Западом и общего обострения международной обстановки.
Следуя формуле «Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя „натыкаться“ на эти общие вопросы»[58], содержательно монография построена по принципу «от общего к частному».
Первая глава представляет экскурс в историю изучаемых стран региона, начиная с раннего Средневековья и заканчивая современностью. Обзоры построены по принципу историко-политической значимости страны: сначала идет сербский «блок» – Сербия, Черногория, БиГ; затем Албания, Северная Македония и полития Косово.
Вторая глава посвящена одной из самых актуальных тем балканской повестки – геополитическому соперничеству мирополитических гигантов в регионе в текущем столетии. В этой части работы дан анализ балканской политики Европейского союза, показаны ее сильные и слабые стороны. Отдельный параграф посвящен военно-политическому тяжеловесу – Соединенным Штатам. Великобритания начиная с XIX в. рассматривала Балканы как отвлекающую зону в Большой игре. Сегодня геополитические задачи Лондона не изменились, но усовершенствовались методика и инструменты игры. Китай – исторически новый, но уже весьма влиятельный игрок на Балканах. Ресурсы и стратагемное видение определяют успех Пекина в продвижении своих экономических интересов и политических амбиций в странах региона. Специфика российского присутствия на Балканах отличается подчеркнутым сербоцентризмом, отсутствием долгосрочного планирования и интересных для региональных столиц инициатив. Значительное внимание в этой части уделено предложениям по активизации политики присутствия.
Североатлантический альянс уже давно стал выгодным инструментом в продвижении интересов многих членов этой наднациональной организации. Поэтому важно рассмотреть развитие и современное состояние инфраструктуры альянса в Балканском регионе в контексте текущего кризиса и общего расширения НАТО на Восток. Украинский театр противостояния России и Запада активизировал балканскую повестку блока, что также определяет важность понимания качества и уровня имеющихся у организации ресурсов, а также возможных сценариев дальнейшего поглощения до конца не освоенных пространств на Балканах.
Третья глава вызовет интерес не только у балканистов, но и востоковедов. Значимые внешние игроки с восточным колоритом представлены Турцией, Ираном, Королевством Саудовская Аравия, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Кувейтом. Причины оживления их внешнеполитической деятельности на Балканах многогранны и индивидуальны, но не лишены объединяющих черт. К числу последних стоит отнести общую активизацию мусульманских государств в региональных и международных делах и усиление религиозного (исламского) дискурса. Особенности каждой из названных стран выявлены в отдельных параграфах.
Завершается анализ пока второстепенных, но уже весьма влиятельных внешних игроков коротким обзором региональной политики Японии. В аналитическом дискурсе относительно Западных Балкан Токио практически не фигурирует. Однако с 2018 г. у страны есть своя программа по развитию двусторонних отношений с регионом под названием «Инициатива сотрудничества с Западными Балканами». Весьма интересно посмотреть, как и почему Страна восходящего солнца проявляет интерес к столь далекой от нее зоне, а потому наше весьма короткое обращение к этому кейсу полагаем началом более широких научных изысканий.
В заключении работы обобщены главные исследовательские выводы, намечены перспективные направления дальнейшего изучения поднятых в книге проблем. Весомым дополнением монографии является довольно объемная библиография. В нее включены только наиболее значимые источники, научные и аналитические материалы. Ссылки на публикации в СМИ и соцсетях, а также на большинство информационных ресурсов (сайты госструктур изучаемых стран, международных и наднациональных организаций) представлены в тексте работы.
Отличительной особенностью книги являются обширные примечания, касающиеся исторических фактов, а также содержащие биографические данные значимых фигур балканской повестки и раскрывающие ряд важных понятий. Кроме того, при первом упоминании политических деятелей в скобках указаны их даты рождения или жизни. Это дает возможность быстро определить эпоху и возраст лиц, оказавших и оказывающих влияние на региональные процессы.
Текущий кризис еще ярче высветил глубокую зависимость Западных Балкан от внешних игроков. Сегодня, как и во времена Берлинского конгресса, «крупнейшие государства, международные военно-политические блоки и экономические союзы в соответствии со своими интересами проводили и проводят здесь границы, определяли и определяют лицо политических режимов, идеологий и экономических систем, пытались и пытаются урегулировать порожденные их собственными действиями межэтнические и межгосударственные конфликты»[59]. В то же время именно масштабный мировой кризис, с одной стороны, открыл возможность новым игрокам потеснить традиционных для региона лидеров; с другой – дал шанс балканским нациям выбрать государственно ориентированную траекторию, что является обязательным условием перехода в ранг игроков.
Глава I. Балканские окраины империй: краткий исторический экскурс
1.1. Сербия – сердце Западных Балкан
1.2. Черногория: как сербская Спарта стала вассалом Запада
1.3. Босния и Герцеговина – государство-фантом
1.4. Албания – рукотворная государственность
1.5. Северная Македония – страна, меняющая названия
1.6. Полития Косово – балканский голем
История Западных Балкан, как история вообще, «…демонстрирует не прямые пути развития, а… закрученные спирали „нелинейной“ эволюции»[60]. Применительно к региону закрученная и нелинейная эволюционность уже на старте формирования национальной государственности в значительной степени была определена внешним фактором. Огромное влияние на социокультурный климат и политический выбор народов региона оказало его включение в орбиту империй – политических и духовных. Здесь устанавливали свой порядок Ватикан и Венеция, Византия и Священная Римская империя, Османская Турция и Австро-Венгрия, Третий рейх и Советский Союз. Российская империя, не имея на полуострове собственных владений, с первой половины ХIХ в. покровительствовала православным, бережно опекала сербов. После Второй мировой войны влияние СССР, прежде всего политическое и идеологическое, часто оказывалось в зависимости от установок и мировоззрений советских лидеров.
«Балканы всей своей историей доказали, что конструирование, целенаправленное изобретение и социальная инженерия играют важнейшую роль в формировании национальной идеи, столь необходимой при государственном строительстве»[61]. Причем именно Ватикан, Вена, Венеция, Берлин, Лондон, Рим, позже в этот процесс включился Вашингтон, конструировали «сверху» и «снизу» многие балканские нации, создавали и разрушали государства.
Учитывая активно развивающуюся последние десятилетия политизацию истории и все большее внимание к обоснованию «разнонаправленной» памяти[62], сделаем краткий экскурс в прошлое изучаемых стран сквозь призму внешнего присутствия и с целью выявления интересов, связей и ресурсов традиционных и новых для балканской сцены игроков. Исторический обзор выстроен не по алфавиту, а по принципу историко-политической значимости страны: поскольку сербы, несмотря на многовековой процесс дробления и культурного переформатирования, в результате которого появились новые нации (бошняки, хорваты, черногорцы), остаются ядром балканской политики, сначала идет сербский «блок» – Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина; затем Албания, Северная Македония и Косово.
1.1. Сербия – сердце Западных Балкан[63]
Первое сербское протогосударственное образование – Рашка, основанное князем Властимиром в IX в., до XII в. оставалось одним из сильнейших на Балканах. Правда, в 924 г. болгарский царь Симеон на некоторое время подчинил Рашку своему влиянию. Сербскому князю Чаславу Клонимировичу через несколько лет болгарского господства удалось освободить сербские территории и создать первое Сербское княжество, в которое, помимо Рашки, вошли Дукля и Травуния, а также часть территории современной Боснии. Восстание проходило при непосредственной поддержке Византии, что отчасти определило вассалитет от империи ромеев.
Однако политические и экономические мотивы и последствия этого события не идут ни в какое сравнение с духовным влиянием Константинополя. Прибытие в Рашку в 863 г. миссионерской группы Кирилла и Мефодия и основание первых православных храмов не только на многие века определило цивилизационный выбор сербов, современных македонцев и черногорцев, но и навсегда превратило Балканы в зону конфронтации между Первым, Вторым и Третьим Римом. Османские завоевания добавили региону проблем. С XIV в. сформировался треугольник религиозной идентичности и векторы геополитической ориентации: православие – католицизм – ислам. Причем вера на протяжении нескольких столетий не меняла этничности своих приверженцев: сербы в зависимости от места проживания и его принадлежности к тому или иному имперскому центру могли исповедовать ислам, католичество, православие. В то же время имперский центр мог не только поощрять и/или диктовать религиозный выбор, но и влиять на формирование языка.
Применительно к сербскому языку первоначально это выражалось в сосуществовании двух способов написания. Сербы-католики писали на латинице, православные – на кириллице. Сужение зоны сербского языка началось через его расширение посредством включения некоторых диалектов и разговорных норм. Хорватского языка как такового не было. Он получил свою путевку в жизнь благодаря сербскому. Основы единого сербохорватского языка были заложены в начале XIX в. сербским просветителем Вуком Караджичем (1787–1864). Окончательное решение о едином литературном языке было принято Венским литературным соглашением, подписанным 28 мая 1850 г. Сербскую сторону представлял Караджич, хорватскую – Людевит Гай (1809–1872), патронируемый Габсбургами. Именно поэтому местом подписания документа была выбрана Вена. Первая серьезная попытка обособления хорватского языка была предпринята во время Второй мировой войны, когда усташи путем введения большого количества неологизмов попытались искусственно выделить хорватский из сербохорватского. После окончания войны практически все искусственно внедренные слова прекратили существование.
В 1954г. было заключено Новисадское соглашение, признавшее существование хорватского и сербского вариантов одного сербохорватского языка, который имел две нормы произношения – экавскую и иекавскую, а кириллический и латинский алфавиты признавались равноправными в ареале своего использования. Политико-юридический статус сербохорватского как государственного языка СФРЮ был закреплен в Основном законе страны.
Разрушение социалистической Югославии, сопровождавшееся кровопролитными войнами за территории, привело к языковому размежеванию. В каждой новой республике было принято политическое решение о языке. В настоящее время в Боснии и Герцеговине говорят на боснийском (босанском), в Сербии – на сербском, в Хорватии – на хорватском, в Черногории – на черногорском. Таким образом, один сербохорватский язык стал базой для трех новых. Стратегический план австрийцев принес тучные плоды. На балканском примере хорошо видно, что язык может быть значимым инструментом внешнего влияния.
Вернемся к становлению политических институтов.
Собственно история средневековой сербской политии начинается с правления династии Неманичей в XII в. Ее расцвет пришелся на царствование Стефана Душана. В 1345 г. он провозгласил себя царем сербов и греков, а в 1346 г. была учреждена Сербская патриархия. Со смертью Душана в 1355 г. происходит ослабление сербского протогосударства.
После поражения сербских войск под предводительством князя Лазаря от султана Мурада в битве на Косовом поле 15 июня 1389 г. власть турок-османов постепенно распространилась на все сербские земли (прежде всего в современной Боснии). Окончательно Сербия была завоевана турками в 1459 г. и на протяжении последующих 350 лет сербские земли находились под властью Османской империи. Северные районы современной Сербии с конца XVII в. входили в состав Австрийской империи.
Процесс создания национального государства сербов начался с Первого сербского восстания 1804–1813гг. против власти янычар, вступивших в конфликт с султаном и захвативших Белградский пашалык[64]. Таким образом, «превращение Белграда в центр сербской государственности было в определенной степени спровоцировано внутренними противоречиями в самой Османской империи»[65]. В XVIII – начале XIX в. ее сотрясали мятежи. Бунтовали Албания, Босния и даже центр империи – Румелийский вилайет. Зачастую инициаторами выступлений против центральной власти были янычары, многие из которых к тому времени активно участвовали в городской торговле и ремесленном производстве, занимались ростовщичеством. При этом за ними сохранялось не только жалование, но и все привилегии, которые давались при поступлении в элитный корпус. Янычарские должности, таким образом, становились предметом купли-продажи, а боеспособность корпуса и, как следствие, всей турецкой армии резко упала, что и показали войны второй половины XVIII в., особенно с Австрией и Российской империей. Неслучайно в конце XVIII в. султан Селим III стал проводить серию военных реформ, получивших название «Низам-и Джедид» (новый порядок), а при султане Махмуде II в 1826 г. янычарский корпус был ликвидирован.
В самом начале XIXв. ситуация была иной. Мятежные янычарские военачальники, представляя угрозу для центральной власти империи, фактически подчинили себе Белградский пашалык, полностью игнорируя данные султаном привилегии сербам. Захватив в 1801г. власть в пашалыке, убив белградского визиря Хаджи-Мустафу-пашу, янычары установили кровавый режим. Пашалык был разделен на четыре удела, по количеству янычарских военачальников – дахиев. В конце января 1804г. они устроили резню сербских старейшин – «сечу кнезов», в которой было убито свыше 70 влиятельных людей. Это событие явилось поводом для восстания. Возглавивший его Георгий Петрович Карагеоргий (1762–1817) был официально признан первым вождем Сербии и стал основателем династии Карагеоргиевичей. Восстание, охватившее всю территорию Центральной Сербии, продолжалось девять лет. В ходе него были не только заложены основы будущей сербской государственности, но и положено начало антиосманским выступлениям на всем Балканском полуострове. В свою очередь этот факт заставил Европу заговорить о восточном вопросе, который с этого времени стал неотъемлемой частью европейской политики. Война России с Наполеоном непосредственным образом сказалась на судьбе сербских земель. Заключенный в 1813г. Российской империей мир с Турцией позволил Стамбулу вернуть под свой контроль мятежную провинцию. Руководители восстания были вынуждены бежать в Австрию. В 1817г. Карагеоргий тайно вернулся в Сербию для подготовки нового выступления. Однако в ночь с 13 на 14 июля 1817г. был коварно убит сторонниками Милоша Обреновича, претендующего на роль вождя сербского народа. Эта трагедия стала точкой отсчета непримиримой, продлившейся более 100 лет борьбы двух сербских династий[66].



