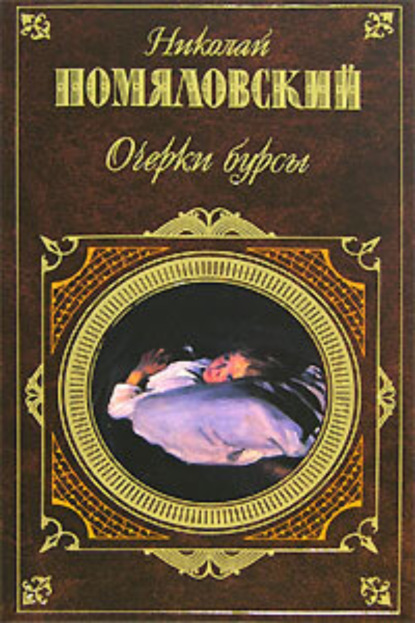 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Очерки бурсы
О Разумникове мы должны сказать несколько слов, потому что он был одним из лучших педагогов бурсы. Мы упоминали о нем в первом очерке как о честном экономе училища. Он учредил должность комиссара, выбранного из старших учеников, обязанностью которого было наблюдать за количеством и качеством пищи. Прежде служителя, в заведовании которых находились жизненные продукты, имея каждый по нескольку родственников, содержали их на счет бурсацкого питания; но лишь только комиссар вступил в свои права, он тотчас уличил повара в краже тридцати фунтов мяса и двух мешков гречневой крупы, за что повар был изгнан из училища. По крайней мере третья часть продуктов, прежде похищаемая служителями, была возвращена ученикам.
Кроме того, Разумников никого и никогда не на-
казывал лишением обеда и ужина, как будто боялся подозрения, что он из экономических [7] расчетов заставляет голодать провинившихся. Он всегда стоял против педагогического изречения: Satur venter non studet libenter [8] Ученики за это любили его.
Он, кроме того, преподавал «закон божий» и «священную историю». И здесь он пошел далее своих сотрудников. Он запретил носить в класс учебники и отвечать по ним. Рассказав ясно и толково урок, он тут же в классе заставлял повторять его со своих слов. Когда ученик не мог ответить, он заставлял другого растолковывать незнающему; если и этот оказывался плох, он поднимал третьего, четвертого и т. д. Урок учился сразу всеми учениками и оживлялся спорами. Но и после этого многие плоховато знали урок, особенно слабые, а Разумников хотел, чтобы у него все без исключения учились хорошо. Для достижения такой цели он постановил: «Авдиторы отвечают за незнание своих подавдиторных». Авдиторы выбирались из лучших учеников, успевали хорошо выслушать урок вовремя, и потому они были обязаны учить своих подавдиторных в приготовительные занятные часы. Для устранения случаев, когда ученик, по интриге с авдитором, являлся в класс с нулем, ссылаясь на то, что авдитор не хотел ему помочь, требовалось на то подтверждение со стороны товарищества, иначе незнающий подвергался сугубому наказанию, а авдитор был прав. Такие приемы для бурсы были слишком прогрессивны. Лентяи были уничтожены Разумниковым. Но главное достоинство его нововведений состояло в том, что с ним сама собою падала власть авдиторов и второкурсников, они из притеснителей должны превратиться в помощников своих подчиненных, из начальников – в их братьев. Таким образом Разумников положил начало к уничтожению подлой власти товарища над товарищем. Он не уничтожил наказаний и даже был очень строг, но все-таки явление такого учителя в бурсе было редкостью, тем более что в описываемое нами время и в других учебных заведениях, а не только в бурсе, царила дремучая ерунда и свинство.
Одно лишь лежит на совести Разумникова – это обиход. Положим, что косноязычных и безголосых он оставил в покое, но держался вредного убеждения, что всякий, имеющий какой-нибудь голос, при старании непременно постигнет нотное искусство. Горше всех пришлось от него Карасю, тем более что у Разумникова была система наказаний особого рода: он наблюдал, на кого какое наказание действует сильнее. Он понял, что для Карася всего хуже неувольнение в родительский дом. Несмотря на то, что Карась доказывал учителю свою бездарность изгнанием его из певческого хора, он ничего слушать не хотел.
Вошел учитель обихода в класс и вместе с учениками пропел звучным голосом «Царю небесный», после чего прямо обратился к Карасю:
– Пропой на седьмой глас…
Уши режет Карась.
Учитель говорит Лапше:
– Покажи ему.
Лапша заливается…
– Повтори, – говорят Карасю.
Уши режет Карась…
– И нынешний праздник не ходи в город…
– Всеволод Васильич, я уже три недели не был дома…
– И четвертую не ходи…
– Простите…
– А я вот что тебе скажу, – отвечал твердым, безапелляционным голосом учитель, – если ты не выучишься петь, я тебя на всю пасху не отпущу…
Учитель отошел от него.
Карась побледнел и затрясся всем телом. Несчастный Карась. Замечательно широкая глотка, которою он был награжден от природы, служила вечным источником его несчастий. Еще дома ему досталось, когда он закричал на поповну, дразнившую его, так яростно, что его голос был слышен за рекой. В бурсе его нарекли Карасем в тот момент, когда он, по приказу регента, пустил нотку, которая надорвала животы слушателям. Впоследствии, в семинарии, голос его развился до необъятного горлобасия, его выбрали опять в хор, и регент, по прозванию Капелла (он же Редакция, Конструкция и Мелочная лавочка ), употреблял его как стенобитную машину, как хоровой таран: подойдет крепкая нота, мигнет регент – и рявкнет Карась, а при тихих нотах ему велят молчать, – это оскорбляло Карася. Однажды Карась упражнял свой голос в комнате по соседству с семинарским экономом, он едва не оглушил его громовыми нотами, за что эконом, схватив Карася за шиворот, потащил к ректору и только по доброте своей помиловал его. Инспектор ненавидел его, говоря, что человек, обладающий рыканием льва, должен иметь характер зверский: должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом, несравненно сильнейшим Карасиного, по натуре был настоящий зверь, за что и получил прозвище не рыбье, как Карась, а звериное, ибо имя его – Медведь. Даже по окончании курса Карась, хвативший однажды чарочку-другую и вышедши на улицу, пустил такую руладу, что городовой должен был внушить, что подобные рулады суть не что иное, как нарушение общественной тишины и порядка. Одно из сильных несчастий, причиною которых был голос, посетило его теперь. «С таким альтом, – думал Разумников, – невозможно не научиться петь». Неувольнение на пасху для Карася было глубоким несчастием, которое подвигло его на многие скандальные похождения.
Он от слов Разумникова тихо плакал.
Кому горе, а кому радость. День поступления Разумникова в училище был днем торжества и счастия некоего Лапши… Лапша был чудак, парень шальной и благой. Широкоскулое серого цвета лицо, голова, почти вросшая в плечи, выдавшаяся вперед неестественно грудь и остальная часть туловища, помещенная на коротких ногах, – делали фигуру его в высшей степени странною, попеременно то жалкою, то уморительною. Лицо его освещалось каким-то неразгаданным, постоянно меняющимся внутренним светом: оно сериозно, даже угрюмо, но вдруг Лапша без всякой причины покраснеет, а потом раскатится смехом, и все это совершается в нем быстро и неуловимо. Он при всем этом не был дураком. В лице его вы видите образчик бурсацкой застенчивости, которая особенно развилась от его несчастного безобразия. Не будь этой застенчивости, он, быть может, и не сидел бы в Камчатке. Таков был Лапша. Но он делался совершенно иным человеком, когда пел что-нибудь; значит, талант. Голосок он имел довольно приятный и владел тонко развитым слухом. Всегдашней, самой задушевной мечтой его было иметь свою скрипку и выучиться играть на ней, но мечта и осталась мечтой: теперь он где-то пастухом монастырских коров и, говорят, отлично играет на рожке…
Подходит к Лапше Карась.
– Что тебе? – говорит Лапша, ежась, двигая плечами и выпячивая свое странное лицо.
– Поучи меня обиходу.
Лапшу медом не корми, а только дай в руки обиход.
– Пойдем. Сначала надо ноты выучить.
Отправились они в Камчатку и затянули «ут, ре, ми, фа» и т. д.
– Не так: надо тоном выше!
Карась усиливается тоном выше.
– Чересчур высоко – теперь ниже надо!
Карась на новый манер.
Долго они упражнялись в церковногласии. Спотели оба.
Но вот Лапша съежился, перегнулся, вытянулся, сделал сначала тоскливую рожу, а потом вдруг поднес к носу Карася кукиш…
– Это что?
– Кукиш!
Лапша после этого захохотал.
– Да что с тобой?
– Не буду учить…
– Голубчик… Лапша…
– Не поймешь ничего…
Лапша убежал…
Остервенение напало на Карася. Он грыз свои ногти и, мигая глазами, усиливался удержать злую, соленую слезу, которая ползет на щеку.
– Когда так, к черту всё!
Он ударил об пол обиходом…
– Проклятое училище! – проговорил он…
Карась начал вести себя неприлично. Если бы не проклятое наказание, Карась от среды до воскресенья провел бы время, мирно почивая на лаврах, но теперь он был раздражен, и жизнь его пошла ломаным путем.
Подходит к нему один из его любимых дураков, бедная Катька.
– Нет ли у тебя хлебца?
– Этого не хочешь ли?
Карась предлагает голодному Катьке туго натянутую фигу. Катька отходит от него печально…
Карась идет развлечься на училищный двор.
– Карасики, пучеглазики! – говорит ему Тальянец, второкурсный мужлан старшего класса, ученик с вывороченными ногами.
– Кривы ножки, кочережки! – отвечает Карась…
Тальянец начинает его преследовать.
– На кривых ногах пять верст дальше! – отвечает Карась, пускает в него комом грязи и удаляется опять в класс.
Подходит к нему другой дурак, Зябуня.
– Карасик, – говорит он ласково.
– Ты что, животное безмозглое?
– Карасик…
– Поди прочь, пустая башка!
Пустая башка тоже отходит от него печально…
Карась стал несговорчив и несправедлив. Он чувствует это, и его начинает мучить совесть…
– Черт знает какая тоска, – объясняет он приступы совести…
Идет Карась ко второуездному классу, берется за ручку двери и начинает стучать ею: ученики низших классов, не имевшие права входить в высший, так вызывали второуездных. Выходит ученик.
– Кого тебе?
– Тавлю.
– Сейчас.
Вышел Тавля.
– Что тебе?
– Дай в долг.
– Сколько?
– Пять копеек.
– В воскресенье семь.
– Нет, уж после воскресенья, в другое. Я не уволен. Откуда ж мне взять?
– Тогда десять.
Карась задумался на минуту.
– Давай, – сказал он, махнув рукою…
Тавля отсчитал ему пять копеек…
Карась отправился в сбитенную, съел там на три копейки сухарей, а на две выпил сбитню. И угощение не успокоило его. Оно напомнило ему только домашний чай и кофе. Затосковал Карась.
– Боже мой, – проговорил он, – неужели не отпустят меня на пасху? Пойду, попрошу еще Лапшу: не поучит ли? А нет! черт с ними!.. не выучиться мне!..
После этого Карась из пустяков каких-то полез в драку, и хотя пустил в дело зубы, когти и ноги, как обыкновенно, однако его все-таки поколотили.
Для Карася не было наказания тяжелее, как неотпуск домой. И вот еще порядочный бурсацкий учитель Разумников не понимал же, что такое наказание гнусно, незаконно и вредно. Не понимают педагоги и понимать не хотят, что они когда запрещают человеку, в виде наказания, переступать порог отцовского дома, то этим самым вгоняют его в скуку, тоску и апатию, подвигают на скандалы разного рода, поселяют к уроку или нравственному правилу, за которое штрафуют и шельмуют, полное отвращение, лицемерное исполнение и страсть к запрещенному поступку. Неужли такие плоды в видах здравой педагогики? Кроме того, чем виноваты отец и мать, когда они во время праздника, по приговору педагогов, не видят в своей семье сына, часто любимого, часто единственного сына? за что братья и сестры лишаются свидания со своим братом? за что их-то наказывают педагоги? Воскресный день во многих семействах один только и есть свободный день в неделе – к чему же он туманится печалью по сыне или брате? Портить чужой праздник никто не имеет права, это дело нечестное, дело несправедливое. И неужели отец и мать, если они любят своего сына, меньшее могут иметь на него влияние, нежели черствый педагог? Многие педагоги скажут на это: «да». Был же, например, болван, которого мы называли Медведем, семинарский инспектор, который привязанность к родному дому ставил ученику в преступление на том основании, что желающий быть дома не желает быть в школе, значит, ненавидит науку и нравственность, проводимые в ней. Диво, что такие черные педагоги, как лишенные деторождения, не наказывали детей за любовь к родителям!
Но таких педагогов скорее прошибешь колом, нежели добрым словом. Бог с ними. Лучше посмотрим, что сталось с Карасем, когда он страдал от мысли, что его не отпустят домой на целую пасху.
Учителем арифметики того класса, где был Карась, был некто Павел Алексеевич Ливанов; собственно говоря, не один Ливанов, а два или, если угодно, один, но в двух естествах – Ливанов пьяный и Ливанов трезвый.
Третья перемена, которая была после обеда, назначалась для арифметики… Стоят при входе в класс караульные, ожидающие Ливанова. Ливанов входит в ворота училища…
– Каков? – спрашивает один караульный…
– Руками махает, значит, того…
– Это еще ничего не значит…
– Да ты не видишь, что он у привратника просит понюхать табаку?
– Именно так… Значит, пишет по восемнадцатому псалму.
Караульные бегут в класс и с восторгом возвещают:
– Братцы, Ливанов в пьяном естестве…
Класс оживляется, книги прячутся в парты. Хохот и шум. Один из великовозрастных, Пушка, надевает на себя шубу овчиной вверх… Он становится у дверей, чрез которые должен проходить Ливанов… Входит Ливанов. На него бросается Пушка…
– Господи, твоя воля, – говорит Ливанов, отступая назад и крестясь…
Пушка кубарем катится под парту.
– Мы разберем это, – говорит Ливанов и идет к столику.
В классе шум…
– Господа, – начинает Ливанов нетвердым голосом…
– Мы не господа, вовсе не господа, – кричат ему в ответ…
Ливанов подумал несколько времени и, собравшись с мыслями, начинает иначе:
– Братцы…
– Мы не братцы!
Ливанов приходит в удивление…
– Что? – спрашивает он строго…
– Мы не господа и не братцы…
– Так… это так… Я подумаю…
– Скорее думайте…
– Ученики, – говорит Ливанов…
– Мы не ученики…
– Что? как не ученики? кто же вы? а! знаю, кто.
– Кто, Павел Алексеевич, кто?
– Кто? а вот кто: вы – свинтусы!..
Эта сцена сопровождается постоянным смехом бурсаков. Ливанов начинает хмелеть все больше и больше…
– Милые дети, – начинает Ливанов…
– Ха-ха-ха! – раздается в классе…
– Милые дети, – продолжал Ливанов: – я… я женюсь… да… у меня есть невеста…
– Кто, кто такая?..
– Ах вы поросята!.. Ишь чего захотели: скажите им кто? Эва, не хотите ли чего?
Ливанов показывает им фигу…
– Сам съешь!
– Нет, вы съешьте! – отвечал он сердито.
На нескольких партах показали ему довольно ядреные фиги. Увлекшись их примером, один за другим ученики показывают своему педагогу фиги. Более ста бурсацких фиг было направлено на него…
– Черти!.. цыц!.. руки по швам!.. слушаться начальства!..
– Ребята, нос ему! – скомандовал Бодяга и, подставив к своему носу большой палец одной руки, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой, он показал эту штуку своему учителю… Примеру Бодяги последовали его товарищи…
Учителя это сначало поразило, потом привело в раздумье, а наконец он печально поник головою. Долго он сидел, так долго, что ученики бросили показывать ему фиги и выставлять носы…
– Друзья, – заговорил учитель, очнувшись…
Господа, братцы, ученики, свинтусы, милые дети, поросята, черти и друзья захохотали…
– Послушайте же меня, добрые люди, – говорил Ливанов, совсем хмелея…
Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны…
– Слушайте, слушайте!.. тише!.. – заговорили ученики.
В классе стихло.
– Я, братцы, несчастлив… Я женюсь… нет, не то: у меня есть невеста… опять не то: мне отказали… Мне не отказали… Нет, отказали… О черти!.. о псы!.. Не смеяться же!
Ученики, разумеется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо Ливанова… Он заплакал…
– Голубчики, – начал он, – за меня никто не пойдет замуж, никто не пойдет…
Рыдать начал Ливанов.
– У меня рожа скверная, – говорил он, – пакостная рожа. Этакие рожи на улицу выбрасывают. Плюньте на меня, братцы: я гадок, братцы…
– Гадок, гадок, гадок, – подхватили бурсаки…
– Да, – отвечал их учитель, – да, да, да… Плюньте на меня… плюньте мне в рожу.
Ученики начинают плевать по направлению к нему.
– Так и надо… Спасибо, братцы, – говорит Ливанов, а сам рыдает…
У Ливанова была не рожа, а лицо, и притом довольно красивое, ему и не думала отказывать невеста, к которой он начал было свататься, напротив – он сам отказался от нее.
Спьяна Ливанов напустил на себя небывалое с ним горе. Со стороны посмотреть на него, так стало бы жалко, но для бурсаков он был начальник, и они не опустили случая потравить его.
– Братцы, – продолжал он, – я отхожу ко господу моему и к богу моему… Я вселюсь…
– Смазь ему, ребята! – крикнул Пушка.
– Что такое? – спросил Ливанов…
– Смазь…
– Что суть смазь?
– А вот я сейчас покажу тебе, – отвечал Пушка, вставая с места…
– Не надо!.. сам знаю… Сиди, скотина… Убью!.. Ах вы, канальи!.. Над учителем смеяться!.. а? – говорил Ливанов, приходя в себя… – Да я вас передеру всех… Розог! – крикнул он, совсем оправившись…
В классе стихло…
– Розог!
– Сейчас принесу, – отвечал секундатор.
– Живо!.. Я вам дам, мерзавцы!..
Хмель точно прошел в Ливанове. «Что за черт, – думали бурсаки, – неужли в другое естество перешел?» Но это была минутная реакция опьяненного состояния, после которого с большею силой продолжает действовать водка, и когда вернулся в класс секундатор, то он увидел Ливанова совершенно ошалевшим. Ливанов, стиснув зубы и поставив на стол кулак, смотрел на учеников безумными глазами…
– Розог, – сказал он, однако, не забывая своего желания…
– Что, Павел Алексеич? – отвечал секундатор, смекнув, как надо вести себя…
– Розог…
– Все люди происходят от Адама… – говорил ему секундатор…
– Так, – отвечал Ливанов, опять забываясь, – а роз…
– Добро зело, то есть чисто, прекрасно и безвредно.
– Не понимаю, – говорил Ливанов, уставясь на секундатора.
– Я родился в пятьдесят одиннадцатом году, не доходя, минувши Казанский собор…
– Ей-богу, не понимаю, – говорил Ливанов убедительно…
– Как же не понять-то? Ведь это написано у пророка Иеремии…
– Где?
– Под девятой сваей…
– Опять не понимаю…
– Очень просто: оттого-то и выходит, что числитель, будучи помножен на знаменатель, производит смертный грех…
– Ты говоришь: грех?
– Смертный грех…
– Ничего не понимаю…
– Всякое дыхание да хвалит…
– Что хвалит?.. скотина!.. винительного падежа нет в твоей речи!.. черт ты этакой!.. По какому вопросу познается винительный падеж?
– По вопросу «кого, что?».
– Так кого же хвалит? что хвалит? черт ты этакой, отвечай!
– Черта хвалит.
Ливанов посмотрел на него злобно…
– Ты это сериозно говоришь? – спросил он.
– Вот тебе крест.
Ученик перекрестился.
– Ты мне сказал «тебе»?
– Я, тебе, мне, мною, обо всех…
– Уйди!.. убью! – отвечал, озлившись, Ливанов. – Прошу тебя, уйди!.. Я в пьяном виде не ручаюсь за себя…
– Он ушел, – говорит ученик…
– Он?.. Что мне за дело до него?.. ты-то уйди!.. Черт же с тобой, скотина, – говорит опьяневший педагог, стуча по столу кулаком… – Не хочешь уйти? Так я же уйду… Я пьян… Я уйду…
Учитель после этих слов неожиданно встает со стула и направляется к двери. Его провожают хохотом, криком, визгом и лаем…
– Это всё пустяки, – говорил он, – в жизни всё пустяки, – и выходит на лестницу…
Лишь только он ступил на первую ступеньку, как тот же секундатор, следивший за ним, схватил его за ногу. Пьяный педагог полетел с лестницы вниз головою. Счастье его, что он не переломал себе ребер…
– Оступился, черт возьми, – говорил перепачканный учитель, вставая на площадке, у которой кончалась лестница.
Подле него уже очутился секундатор, дернувший его за ногу…
– Вы, кажется, замарались? – спрашивает он. – Позвольте, я вас почищу.
– Не надо, друг мой, вовсе не надо… Всё пустяки…
Учитель наконец ушел домой.
Вот каков был Павел Алексеевич Ливанов в пьяном естестве.
Описанная нами сцена была в четверг. В субботу Ливанов явился в трезвом естестве. Ученики держали себя, как и Ливанов, иначе – прилично, разумеется прилично по-бурсацки. С Ливановым, когда естество его переменялось, из пьяного переходило в трезвое, шутить было опасно. Вообще Ливанов был не дурной человек; хотя как учитель не выдавался из среды своих товарищей; но по крайней мере он не запорывал своих учеников до отшибления затылка… Лобов, Долбежин и Батька были представителями террора педагогического, Краснов и Разумников – представителями прогрессивного бурсацизма, а Ливанов был какая-то помесь тех и других: иногда строг до лобнических размеров, иногда добр бестолково. Во всяком случае, не любили шутить с Ливановым, когда он был в трезвом естестве…
Карась не выходил на сцену, когда был пьян Ливанов, но сегодня, когда шутки с Ливановым были опасны, он решился на скандалы…
Хотя Карась сидел в Камчатке и заявил своему авдитору «ноль навеки», но он был все-таки довольно любознательная рыба. Вышел такой случай. Однажды от нечего делать Карась рвал арифметику Куминского; он в этом занятии прошел уже до деления. Тут его злодеяния вдруг прекратились. «Деление? – подумал он. – А ведь я знаю деление… А дальше что?.. Именованные числа… Это что за штука?.. Сначала узнаю, а потом раздеру…» Остановившись на такой мысли, он стал читать Куминского и без посторонних пособий понял именованные числа. «Дальше дроби – это что такое?» – сказал он. Понял он и дроби… Все это было пройдено им в три приема. Значит, когда захочет человек учиться, то можно обойтись и без розги. «Дальше что? десятичные дроби… Не хочу читать… Довольно». После этого он Куминского обратил в клочья. Задано было о «приведении дробей к одинаковому знаменателю», и хотя у Карася стоял в нотате ноль, однако он знал урок, приготовив его без всякого поощрения и принуждения гораздо ранее, чем требовалось…
Учитель вызвал к доске Секиру. Секира, несмотря на то, что был авдитор, путался…
– Дурак, – сказал ему Ливанов…
– Дурак и есть, – подтвердил Карась из Камчатки…
– Кто это говорит? – рассердившись, спросил Ливанов… Ему дерзким показался отзыв Карася…
– Я, – отвечал Карась. – Помилуйте, Павел Алексеевич, не умеет привести к одному знаменателю: ну не дурак ли?
– Ах ты скотина! – закричал Ливанов.
– Помилуйте же, Павел Алексеевич. Я сижу в Камчатке; значит, дурак из дураков, а все-таки «приведение знаменателей» знаю!
– Если же ты не сделаешь мне «приведения», я тебя запорю…
– Запорите…
– К доске!..
Карась вышел и отлично ответил урок…
– Ну, не правду ли я сказал, что дурак он? – говорил Карась, показывая на Секиру. – Даже я умею это сделать.
Ливанов подошел к Карасю и Секире.
– Дай мел, – сказал он Карасю…
– Извольте…
Взявши в руки мел, Ливанов сделал на лице Секиры крупный крест. Делая крест, он говорил:
– Пентюх, перепентюх, выпентюх!..
– Ну, дурак и есть, – подтверждал Карась…
После этого Карась отправился в Камчатку. Развлеченный на несколько минут своим ответом, он, однако, скоро начал скучать. Пришла ему на мысль предстоявшая опасность неотпуска домой на святую. Злость на него нашла, которую он и выместил на грифельной доске, попавшей ему под руки. Сняв с краев ее боковые планки, он хотел обратить их в щепы, но, приложив палец ко лбу, сказал себе: «Подожди, дружище, тут выйдет скрипка». Из трех планок он сделал треугольник, к вершине его прикрепил четвертую, в треугольнике натянул веревочные струны, добыл из розог, лежавших в печке, по соседству его, прут, из которого смастерил смычок, и таким образом устроил нечто вроде цевницы… Это заняло его на время, но в голову его опять приходит мысль о пасхе. «Черти, – думал он, – неужли так-таки и не пустят на пасху?.. Лучше бы пересекли пополам! Сколько хочешь секи, мне все одно». – «Так ли?» – рефлектирует он. «А вот попробуем». Карась берет свою цевницу и начинает водить по ней смычком, то есть розгой…
Раздается на весь класс страшный визг, произведенный Карасем для скандала.
– Кто это? – спрашивает изумленный учитель.
– Я это, – отвечает храбро Карась…
Визг был до того неожидан и неуместен, что учитель растерялся…
– Что это значит?
– Ничего не значит.
– Скотина…
Карась сел спокойно. Учителя поразил этот случай, и потому только он не отпорол Карася…
«Врешь, – думает между тем Карась, – ты меня отпорешь!» – и берет в свои руки цевницу…
Раздается еще сильнейший его визг…
Ливанов на этот раз вышел из себя. Он, озлобленный, бросается к Карасю. Карась же становится коленями на ребро парты…
– Я наказан, – говорит он при приближении к нему Ливанова…
– Стой, скотина, весь класс…



