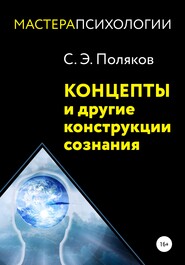скачать книгу бесплатно
Б. Рассел тоже принимает постулаты монизма. Он (2009, с. 237) соглашается с У. Джеймсом и пишет (с. 214), что нет такой простой сущности, на которую вы могли бы указать и сказать, что она является физической, а не ментальной. Сам он (1999, с. 121) вообще считает, что мир состоит не из вещей, а из событий. Если причинно-следственные взаимосвязи одного рода, то соответствующая группа событий может быть названа физическим объектом, а если они другого рода, то соответствующая группа событий может быть названа сознанием. Любое событие, проистекающее в голове человека, будет принадлежать к группам обоих видов. Сознание и материя являются просто удобными способами организации событий.
Г. Г. Шпет (2010, с. 179–180) указывает, что никакой принципиальной разницы между психическими и физическими явлениями не существует.
Итак, казалось бы, монизм преодолел пропасть между психическим и физическим, доказав, что образ восприятия превращается то в психическое содержание человеческого сознания, то в физический предмет в зависимости от плоскости, в которой мы его рассматриваем. Однако, как это ни парадоксально, открытие монистов мало повлияло на доминирующие не только в естественных науках, но даже в психологии дуалистические представления, а сама теория была фактически проигнорирована.
В своей экологической теории прямого восприятия Дж. Гибсон (1988, с. 336–374) тоже пытается, как мне представляется, отождествлять репрезентации с предметами, хотя этот аспект проблемы он нигде прямо не обсуждает.
Несмотря на то что наука так и не нашла достоверных различий между психическими и физическими явлениями[25 - Подробнее см. об этом: С. Э. Поляков, 2011. – с. 156–160.], наш здравый смысл не готов отказаться от привычной дуалистической картины мира. Тем не менее нельзя не признать доводы монизма (см. У. Джеймс (1997, с. 362–363)), который доказал, что образы восприятия трансформируются в физические объекты и наоборот в зависимости от контекста. То есть заставил нас задуматься об ошибочности дуалистической теории. Продолжим рассуждения.
Получается, что если образ восприятия это и есть физический предмет, то сознание выстраивает и психические, и физические сущности… Этот вывод порождает неожиданную мысль: сознание способно, репрезентируя «реальность в себе», чувственно конституировать своими психическими средствами физические сущности – предметы. Следовательно, сознание – это не просто и не только нечто психическое. И либо оно формирует и психическую, и предметную физическую реальность, либо такое разделение неадекватно.
Попробуем замкнуть логическую цепь и начать на практике разрушение дуалистической парадигмы.
В «реальности в себе» нет предметов и явлений, их свойств и действий. Она внечувственна, то есть без человека или другого существа, наделенного сознанием, невидима, безмолвна, не имеет запаха, вкуса, температуры, шероховатости или гладкости и других чувственных качеств. «Реальность в себе» доступна человеческому познанию лишь в форме его же чувственных либо символических репрезентаций. В результате взаимодействия с «реальностью в себе» сознание строит в себе самом, но в месте локализации «реальности в себе» свою психическую по механизмам формирования, но физическую по форме предметную реальность, которую здравый смысл привычно и обоснованно заставляет нас считать окружающим предметным физическим миром.
Еще классическая психология установила, что формируемые сознанием чувственные репрезентации «реальности в себе», или образы восприятия предметов, обладают всеми свойствами предметов: предметностью, реальностью, полнотой или завершенностью, целостностью, достоверностью, дистальным характером по отношению к наблюдателю, находятся во внешней реальности и т. д. (см.: С. Э. Поляков, 2011, с. 277–300). Это еще раз свидетельствует о том, что образ восприятия объекта не просто «как бы картинка в голове», а единственно реальный, то есть оригинальный, подлинный предмет, чувственно конституируемый и располагаемый нашим сознанием во внешнем конституированном им же физическом мире.
Другого физического предмета просто нет, и не может быть нигде больше. Наш образ восприятия и представляет собой единственный реальный предмет[26 - См. Примечание 2.]. И вещественность[27 - О вещественности см.: С. Э. Поляков, 2011, с. 629–633.] этому предмету придают исключительно наши же разномодальные психические его – предмета – чувственные репрезентации.
Наше чувственное репрезентирование предоставляет нам истинную, но антропоморфную версию «реальности в себе» в единственно возможной для нас форме. При этом мы должны понимать, что это лишь один из бесчисленного множества возможных вариантов репрезентирования «реальности в себе», каждый из которых потенциально может быть столь же достоверным, как и человеческий, то есть «реальность в себе» имеет столько ипостасей – репрезентаций, сколько существа, обладающие сознанием, способны создать.
Итак, наше сознание не отражает и не копирует, а созидает в специфически антропоморфном виде и в себе самом, но во внешнем пространстве сознания окружающий предметный физический мир, являющийся репрезентацией «реальности в себе».
Об этом так или иначе и в разном контексте говорят многие исследователи. Э. Шредингер (2000, с. 44), например, полагает, что картина мира человека является и всегда остается построением его разума. У. Р. Матурана и Ф. Х. Варела (2001, с. 149) пишут, что нервная система создает мир. Е. Н. Князева (2008, с. 242) тоже считает, что мы создаем мир, в котором живем, в процессе коммуникации, познавательной и преобразующей деятельности.
Во многом верно, но надо постоянно помнить об опасности впасть в другую крайность. Не «мы создаем мир». Он есть вне нас и независимо от нас как «реальность в себе». Мы создаем в своем сознании и для себя лишь антропоморфную, понятную только нам и пригодную только для человека специфическую психофизическую репрезентацию «реальности в себе». А это уже совсем другое дело. Да, наши психические репрезентации конституируют в сознании предметы. Говоря метафорически, они «лепят» из «теста» «реальности в себе» то, что мы считаем затем предметами и более сложными сущностями реальности. Но эти предметы являются предметами только для нас, а не для «реальности в себе». Мы творцы человеческого предметного мира, мира для нас самих, а не «реальности в себе».
Предметная физическая реальность существует только в индивидуальном сознании, но из этого не следует, что создаваемый сознанием физический мир иллюзорен, что он – фикция. Напротив, индивидуальная чувственная репрезентация предметного физического мира совершенно материальна, точнее, вещественна, достоверна и бесспорна, но эту вещественность ему придают свойства чувственных психических репрезентаций человеческого сознания. И вне сознания нет ни чувственной вещественности, ни предметности.
Из-за доминирования дуалистической парадигмы в нашем мировоззрении кажется странной и даже нелепой мысль о том, что наша психика конституирует и преподносит нам «реальность в себе» в вещественной, материальной, предметной форме, которую мы привыкли называть физической, что именно психика ответственна за появление окружающих предметов.
Мы привыкли к тому, что материя и сознание – антагонистические сущности, и поэтому не можем принять очевидный вывод о том, что эти наши представления не соответствуют реальности. Философские определения материи[28 - См. Примечание 3.] и сознания действительно превратили их в противостоящие друг другу сущности. И эти философские представления распространились на научные представления. Тем не менее, научные представления о материи и сознании резко отличаются от философских, к тому же научными средствами невозможно обнаружить бесспорные доказательства противоположности и несовместимости материи и сознания.
Материю сегодня понимают в науке как некий несотворимый и неуничтожимый субстрат, представленный, например, в виде физического вещества, обладающего свойствами иметь форму, химическую структуру, вес, протяженность, способность к превращениям, движению и т. д.; субстрат, воздействующий на органы чувств, переходящий из одной формы в другую, даже в формы, недоступные восприятию, пребывающий в пространстве-времени; субстрат, из которого состоит окружающий человека предметный физический мир. Мало у кого из исследователей вызывает поэтому сомнение материальность предметного физического мира. При этом в науку из философии перешло убеждение о противоположности и несовместимости материи, а, следовательно, и предметного физического мира, с одной стороны, и сознания, с другой.
Усвоенная наукой идея об антагонизме материи и сознания порождает в исследователях уверенность в том, что сущности окружающего мира бывают либо материальные, то есть предметные и физические, либо психические, и пропасть между ними непреодолима. Материальное «отражается» или является человеку с помощью его психических феноменов, но и только, так как психические явления нематериальны и принципиально отличаются от материи и материальных предметов окружающей человека физической реальности. «Психический мир» «противостоит» «миру вещей». Именно эта форма дуалистической парадигмы доминирует в современной науке, несмотря на то, что раздается все больше голосов исследователей, призывающих отказаться от дуализма.
Можно сказать, что Р. Декарт (цит. по: Дж. Реале, Д. Антисери, с. 321) лишь заложил основы дуализма своим утверждением, что материя и сознание (res extensa (вещь протяженная) и res cogitans (вещь мыслящая)) – это принципиально разные субстанции. Но он рассматривал философские сущности. То есть современная дуалистическая парадигма, возможно, и началась с идей Р. Декарта, но пошла гораздо дальше и в другую сторону… И сейчас вызывает возражения не столько философский, сколько научный дуализм. Упрощая существующую картину, можно сказать, что большинство исследователей считают сейчас материей сущности, лежащие, по их мнению, в основе окружающего нас предметного физического мира: вещество, поле и вакуум. И даже идею антагонизма последних с сознанием можно с оговорками принять. Нельзя принять идею о том, что сознание лишь репрезентирует предметный физический мир, существующий вне сознания, и к формированию физических предметов сознание не имеет отношения, так как за предметный мир ответственна материя. Я полагаю, что сознание имеет самое непосредственное отношение к конституированию физических предметов, так как оно выстраивает их в себе самом. Предметный физический мир – это предметно оформленная сознанием в сознании же человеческая репрезентация материи, которую вполне можно назвать «реальностью в себе». При этом само сознание полностью зависит от «реальности в себе».
Я пытаюсь показать, что психические перцептивные репрезентации (ощущения и образы восприятия) существуют в вещественной, материальной форме, создавая для нас предметы окружающего физического мира. Данное положение противоречит всей истории развития идей о психическом и физическом, а потому кажется странным и неадекватным. Однако принятие этого факта позволяет на практике не только отказаться от декартовского дуализма, но и многое объяснить.
Если «вещь в себе» – это не вполне физическая вещь, точнее, вовсе не вещь, то что же она такое? А если предмет создается сознанием, то как он может быть материальным?
Мы привыкли к идее о том, что «материя (мозг) порождает нематериальное сознание». Но получается, что и сознание порождает материю, по крайней мере, в том предметном, вещественном виде, в котором мы традиционно ее себе представляем?
Пусть не порождает, а лишь конституирует, но в материальной форме. Однако как такое возможно?
Последовательность должна выглядеть так: элемент «реальности в себе» (вне сознания) – ее психическая репрезентация в форме физического (парадокс!) предмета (или образ восприятия предмета в сознании, но в месте локализации элемента) – психические образы воспоминания и представления предмета.
Возникает очередной вопрос: а куда делась в этой схеме «объективность» физического предмета, ведь предмет в ней субъективен, уникален и неповторим, так как создается конкретным сознанием? Мы-то «знаем», по крайней мере мы привыкли к тому, что предмет «объективен», так как доступен всем, кто его сейчас воспринимает. Получается, что физический предмет субъективен, а объективно только то, что позволяет конкретному сознанию порождать его субъективную репрезентацию… То есть объективна лишь «реальность в себе», являющаяся нам в виде наших субъективных психофизических репрезентаций или предметов.
Признание того, что предмет дан нам в нашем сознании, но в физической форме, сразу на практике разрушает дуализм, так как физическое дано нам в психическом и через психическое, а следовательно, мало того, что физическое и психическое неразделимы, эти сущности просто нет смысла выделять. Сформулирую несколько постулатов.
• От концептов (и понятий) физическое[29 - Я широко пользуюсь далее термином «физическое», который в моем понимании означает общее свойство всех перцептивных чувственных репрезентаций человеческого сознания. Физическое – то, что репрезентируется нашими образами восприятия и ощущениями. Оно объединяет такие ярко выраженные специфические признаки, как вещественность, предметность, реальность, константность, тождественность, инвариантность и т. д., которые заставляют человека безусловно верить в подлинность и наличие вокруг него независимого от него предметного мира. Используя здесь и далее термин «физическое», я имею в виду только то, что репрезентируется в человеческом сознании с помощью образов восприятия и ощущений, то есть я не вкладываю в этот термин никакого дополнительного значения, широко распространенного, например, в философии и естествознании. Я не считаю правильным рассматривать данный термин как аналог «материального» в противовес «идеальному», или «психическому», так как считаю такую дихотомию устаревшей и ошибочной.] и психическое в их привычном смысле необходимо отказаться, так как они неопределимы и неразличимы.
• Если «физическое» существует в сознании, то оно отнюдь не более «объективно», чем «психическое», а вербальные репрезентации не менее реальны и «объективны», чем то, что мы считаем «физическим» миром. Соответственно, понятия, например, ничем не отличаются в смысле их «объективности» и реальности от окружающих предметов, представленных в сознании в виде чувственных репрезентаций.
• Для человека именно психические феномены и есть первичная реальность, так как «реальность в себе», традиционно рассматриваемая как бесспорно объективная и материальная, дана ему лишь в форме его же психических феноменов.
• Психические явления – не эпифеномены, а реальность, так как даже «реальность в себе» дана человеку лишь в форме их.
• Психика – это, говоря метафорически, воплотитель, устройство, трансформирующее «реальность в себе» в доступную человеку предметную психофизическую форму.
• Образы восприятия = окружающие физические предметы – не что иное, как особая разновидность человеческих психических феноменов.
Повторю, что нам необходимо отказаться от старых концептов (и понятий) психическое и физическое. Полагаю, что принципиально возможна и допустима замена в том числе глобальных концептов (и понятий), имеющих вековую и даже тысячелетнюю историю и от того представляющихся нам неоспоримыми, естественными и мировоззренческими. Порой такая замена просто необходима и идет только на пользу, так как ее отсутствие тормозит развитие науки.
Но вернемся к сознанию и его репрезентациям. Говорить, что сознание создает предметы, все же не совсем верно. Роль сознания сводится скорее к тому, что оно как бы «помещает» в специфическую антропоморфную предметную «упаковку» элементы «реальности в себе». В результате человек оказывается в глобальной антропоморфной репрезентации «реальности в себе». «Реальность в себе» дана нам в очень специфическом и явно не изоморфном ей психофизическом варианте, как не изоморфна, например, самолету светящаяся точка на мониторе радара. Впрочем, об изоморфности и соответствии точки и самолета можно долго и безуспешно спорить.
Меняет ли что-то антропоморфная форма репрезентирования сознанием «реальности в себе» для нашего понимания последней? Думаю, для нас непринципиально, что точка на радаре или кривая записи магнитографа не копируют самолет или землетрясение, а лишь как-то сложно и опосредованно соответствуют им. Во-первых, точка и кривая показывают нам, что некие сущности реально присутствуют в мире. Во-вторых, они соответствуют им настолько, что позволяют нам предвидеть дальнейшие трансформации сущностей в реальности, что нам, собственно, и надо. Сама данная метафора, впрочем, достаточно условна, так как модели в ней – точка на радаре и кривая на ленте самописца – сами являются физическими объектами в отличие от наших психических[30 - От дуализма мы еще долго не избавимся.] репрезентаций. Но некоторая общая аналогия все же прослеживается.
Можем ли мы говорить о том, что наши репрезентации не изоморфны «реальности в себе»? Имеет ли вообще смысл обсуждение их изоморфности, если «реальность в себе» и является-то нам только в форме этих наших репрезентаций и никак иначе явлена нам быть не может; если, наконец, эти репрезентации и есть для нас единственно абсолютно реальные и бесспорные физические предметы? Если мы не представляем себе и не можем представить, что такое «реальность в себе», о какой изоморфности репрезентаций вообще можно говорить?
Полагаю, что, рассматривая вопрос о соотношении элемента «реальности в себе» и его репрезентации, мы должны говорить здесь лишь об использовании термина «подходит», предложенного Э. фон Глазерсфельдом[31 - Глазерсфельд Э. фон. Указ. соч.].
Критики конструктивистского подхода, например Е. Я. Режабек и А. А. Филатова (2010), так формируют свою позицию: «…Характеристики реальности, которая существует сама по себе, от нас не зависят… Иначе нам никогда не приходилось бы натыкаться на сопротивление той жизни, которую мы ведем, нашим желаниям. Именно сопротивление природных вещей человеческому насилию заставляет людей пожалеть о своем неразумии… Остается наивный вопрос: неужели адептам конструктивизма никогда не приходилось сталкиваться с неуспехом в повседневном поведении, а возможно, и с катастрофами в личной жизни? Неужели провалы наших начинаний – в особенности в общественном масштабе – ничему нас не учат? Можно ли быть настолько риторичными хоть в теории, хоть на практике?» (c. 216–217). «Ни один серьезный ученый не примет рекомендаций философа-конструктивиста. …Приняв конструктивистскую доктрину, современный человек никогда не сможет отличить науку от научных домыслов, граничащих с шизофреническим маниакальным бредом» (с. 300–301).
Думаю, что конструктивисты не хуже цитируемых авторов понимают зависимость человека от окружающей «реальности в себе» и ее господство над нами. Однако из этого отнюдь не следует, например, необходимости признания ее предметного характера. Со времен Д. Беркли его оппоненты спорили с его сторонниками, чаще всего находясь на разных уровнях понимания реальности… Идеи Д… Беркли касались более глубоких уровней понимания соотношений человека и реальности, чем большинство идей его противников. Мне кажется, что и с критикой конструктивизма происходит нечто подобное.
То, что наше сознание конституирует для себя окружающий мир в физической предметной форме, во-первых, никак не влияет на «реальность в себе», во-вторых, никак не мешает «реальности в себе» определяющим образом влиять на нашу жизнь. Тут нет никаких противоречий и непонятно, о чем вообще может идти спор. Из признания того, что предметный физический мир, конституированный нашим сознанием, является репрезентацией «реальности в себе», отнюдь не следует, что «реальность в себе» зависит от человека.
§ 5. Чувственные психические конструкции
Важное значение для психической феноменологии имеет понятие психическая конструкция (С. Э. Поляков, 2004; 2011). Этим понятием я предложил обозначать сложные психические образования, состоящие из относительно простых психических феноменов. Они представляют собой особую разновидность психических явлений, их отдельную самостоятельную форму. Психическая конструкция – более сложный по сравнению, например, с ощущением и мгновенным образом[32 - См. Примечание 4.] психический феномен, состоящий из многих жестко ассоциированных между собой мгновенных образов и ощущений. В отличие от ощущения и мгновенного образа психическая конструкция не существует в сознании в каждый конкретный момент времени целиком, а проявляется в нем лишь теми или иными своими элементами, которые метафорически можно сравнить с выступающими над водой частями вращающегося деревянного многогранника с разноцветными гранями.
Психическая конструкция разворачивается в сознании во времени. В каждый следующий момент в сознании появляется ее новая часть так же, как над неспокойной водой появляется новая грань многогранника… Каждая психическая конструкция уникальна, самостоятельна и независима от других психических конструкций, хотя и связана с ними. Психическая конструкция – это отдельная форма психических феноменов, самостоятельное сложное целостное психическое явление. Это не просто ассоциация образов и ощущений, не просто набор связанных между собой относительно простых психических явлений, который обладает лишь суммой свойств этих явлений, а новый психический феномен, приобретший в результате их ассоциации новые свойства. Эти сложные феномены возникают благодаря особому свойству сознания, описанному И. Кантом (1994, с. 100–106), которое автор назвал единством апперцепции или единством сознания: «Синтетическое единство сознания есть, следовательно, объективное условие всякого познания; не только я сам нуждаюсь в нем для познания объекта, но и всякое созерцание, для того чтобы стать для меня объектом, должно подчиняться этому условию, так как иным путем и без этого синтеза многообразное не объединилось бы в одном сознании» (с. 103). «Многообразное, данное в чувственном созерцании, необходимо подчинено первоначальному синтетическому единству апперцепции, потому что только через него возможно единство созерцания» (с. 106).
Психические конструкции[33 - Более подробно о психической конструкции см. гл. 2.3.] репрезентируют в сознании самые разные сущности, относимые человеком к физическому и психическому миру. Типичным примером чувственной психической конструкции является, например, модель-репрезентация предмета[34 - Более подробно о модели-репрезентации см.: раздел 1.1.3 и С. Э. Поляков, 2011, с. 209–276.].
Чувственная психическая конструкция возникает в сознании обычно как удивительный синтез разномодальных и уже поэтому радикально различающихся между собой, а потому, казалось бы, принципиально несопоставимых друг с другом психических явлений – разных сенсорных репрезентаций одного и того же аспекта «реальности в себе». Можно напомнить в связи с этим слова Д. Беркли (2000, с. 7) о том, что воспринимаемые зрением движение, форма и протяжение отличны от идей того же названия, воспринимаемых осязанием. По мнению автора (2000, с. 82), у нас не больше оснований доказывать, будто видимые и осязаемые квадраты принадлежат к одному и тому же роду, исходя из того, что они называются одним и тем же именем, чем доказывать, что осязаемый квадрат и слово, которым он обозначается, принадлежат к одному и тому же роду, потому что оба они называются одним и тем же именем.
Тем самым Д… Беркли (2000, с… 39–40) указывает, что человеческие представления о том, что мы будто бы видим то же самое протяжение и ту же самую форму, которые мы осязаем, – не более чем иллюзии. То, что видится, есть одна вещь, а то, что осязается, – совершенно другая вещь. Однако из того, что видимые форма и протяжение не тождественны осязаемым форме и протяжению, еще не следует, что одна и та же вещь имеет разные формы и разные протяжения. Следствием будет только то, что объект зрения и объект осязания суть две отдельные вещи.
Я бы уточнил: репрезентации разной модальности действительно конституируют совершенно разные сущности. Проще говоря, в нашем сознании возникают репрезентации одного и того же элемента «реальности в себе» в разных несопоставимых и несравнимых сенсорных плоскостях. И лишь сознание в акте апперцепции объединяет эти разномодальные репрезентации в единую сущность. Д. Беркли точно фиксирует тот факт, что в сознании возникают совершенно разные по своей форме, содержанию, а часто и по времени возникновения репрезентации одного и того же элемента реальности. Эти репрезентации не просто различаются. Они несопоставимы и несоизмеримы. Нельзя, например, никак сопоставить желтый цвет и кислый вкус или ощущение гладкости и запах лимона. Тем не менее сознание объединяет их в единую чувственную психическую конструкцию, конституируя новый предмет – лимон.
Эти разномодальные психические феномены объединяются в новую целостность благодаря «единству сознания». Слова И. Канта (1994, с. 101 и 104) можно трактовать так: не предмет обусловливает связь своих репрезентаций в сознании. Их связь – результат действия сознания, которое способно связывать многообразное содержание представлений в целостную репрезентацию предмета.
Наше сознание обладает способностью накапливать множество разных, в том числе и разномодальных чувственных репрезентаций одной и той же части «реальности в себе», формируя в итоге психическую конструкцию, представляющую собой типичный гештальт[35 - «Гештальт – немецкий термин, который… не имеет точного английского/русского эквивалента. Было предложено несколько терминов, таких как “форма”, “конфигурация”, однако здесь “суть” или “способ” также допустимые варианты перевода. Этот термин… используется для обозначения единого целого, полной структуры, множества, природа которого не обнаруживается с помощью просто анализа отдельных частей, его составляющих. Афоризм, порожденный этой идеей, – “целое (то есть гештальт) отличается от суммы его частей”» (А. Ребер, 2000, с. 176). По словам Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко (2009, с. 99), гештальт – основное понятие гештальтпсихологии, обозначающее целостные (то есть не сводимые к сумме своих частей) структуры сознания. Примерами гештальтов являются кажущееся движение, инсайт, восприятие мелодии, не сводимое к сумме ощущений звуков этой мелодии, и т. д. В гештальтпсихологии гештальты рассматривались как единицы сознания и психики на всех ступенях психического развития. В Лейпцигской школе они считались единицами анализа сознания.]. Такая психическая конструкция репрезентирует обычно предмет и, что особенно удивительно, локализует его вне нашего тела. Э. Кассирер (2009), обсуждая мысли И. Канта, пишет: «Предмет, стало быть, достигается и познается… путем объединения в замкнутое целое всей совокупности наблюдений и данных в опыте измерений» (с. 43).
Не все психические конструкции – гештальты, так же как не все гештальты – психические конструкции. Гештальтпсихология рассматривает, например, образы восприятия как гештальты. В моем понимании, однако, образы восприятия – это не психические конструкции… По крайней мере, это какие-то очень специфические психические конструкции либо даже вообще другие, хотя тоже сложные психические явления. Образ восприятия – психический феномен, растянутый во времени, занимающий часто не одну секунду. Он не типичная психическая конструкция, а скорее поток однородных психических феноменов – мгновенных образов (восприятия, представления и воспоминания), репрезентирующих воспринимаемую в данный момент часть «реальности в себе» и множества сходных с ней элементов реальности, воспринятых человеком в прошлом.
Следовательно, образ восприятия – сложный психический феномен, но все же не психическая конструкция. Правильнее было бы назвать его как-то иначе, например психический комплекс, психическое образование, перцептивный психический процесс и т. п. К тому же образ восприятия всегда навязывается сознанию «реальностью в себе». Он неразрывно связан с ее элементами и исчезает при прекращении их восприятия. Психическая конструкция, напротив, относительно «свободный» от окружающей реальности психический феномен, который может появиться в сознании и исчезнуть из него вне явной связи с актуально воспринимаемым окружающим миром. Элементы образа восприятия иначе ассоциированы между собой, чем составные части психических конструкций, поэтому появление в сознании образов воспоминания предмета, например, не может вызвать появление в сознании мгновенных образов его же восприятия. Элементы же типичных психических конструкций, появляясь в сознании, способны актуализировать ее в целом.
Сознание создает сложные и целостные психические конструкции, репрезентирующие сущности окружающего мира и самого сознания, которые затем сохраняются в сознании в качестве его объектов и изобретений. Оно способно формировать гипотетические и даже совершенно умозрительные сущности, явно отсутствующие в реальности. Например, новые технические устройства (телефон, ракета, автомат), образы будущих произведений искусства или новые формулы химических веществ (известный пример – модель бензола Кекуле), репрезентации атома или электрона, математические уравнения и пр. Интересный и показательный пример такой психической конструкции, описанный В. А. Моцартом, приводит Р. Пенроуз (2010, с. 362) (см. Примечание 5).
Тезисы для обсуждения
1. Вне человека существует объективная непредметная «реальность в себе», не зависящая от него, но целиком определяющая его жизнь. В ней нет предметов и явлений, их свойств и действий. Без репрезентирующего ее сознания она невидима, безмолвна, не имеет запаха, вкуса и других чувственных качеств. Ее элементы доступны познанию лишь в форме репрезентаций, конституируемых сознанием в виде физических сущностей.
2. Предметный физический мир – это человеческая преимущественно чувственная глобальная репрезентация «реальности в себе», формирующаяся в пространстве сознания и с помощью его феноменов, но в месте локализации «реальности в себе». Эта глобальная чувственная репрезентация имеет свойства, заставляющие людей верить в ее независимость от них, то есть в первичность возникающего в их сознании физического предметного мира.
3. Сознание не отражает, не воспроизводит и не копирует «реальность в себе», а своими психическими средствами конституирует и конструирует, то есть созидает ее репрезентацию в себе в соответствии с ней. На возникающие в сознании репрезентации «реальности в себе» влияет как она сама, так и сознание.
4. «Идеальное», как принято считать в соответствии с доминирующей в науке парадигмой, сознание создает психическую по происхождению, но предметную по форме глобальную перцептивную чувственную репрезентацию «реальности в себе», то есть оно формирует не только психические, но и физические сущности.
5. Образ восприятия предмета и есть предмет, то есть единственный оригинал, подлинник того, что человек привык считать предметом. Этот образ существует в месте локализации репрезентируемого им элемента «реальности в себе», но в сознании, обладая всеми свойствами предмета: предметностью, реальностью, целостностью и т. д.
6. Психические явления можно разделить на относительно простые и сложные. Простые психические явления – это то, что невозможно разложить далее, например ощущения и мгновенные образы (восприятия, воспоминания и представления). Сознание ассоциирует их благодаря особому свойству – единству сознания, образуя сложные психические феномены, или психические конструкции. Простые психические феномены могут возникать и существовать в сознании самостоятельно, не нарушая этим единства психических конструкций, в которые входят в качестве структурных элементов.
7. Психические конструкции – это устойчивые совокупности ассоциированных между собой простых психических явлений, в которых целое, возникающее в результате такой ассоциации, больше, чем сумма составляющих его частей, и способно выполнять в сознании новые репрезентативные функции.
8. Психическая конструкция обычно не существует в сознании в каждый конкретный момент целиком, а разворачивается во времени, проявляясь в сознании лишь отдельными своими элементами, каждый из которых способен представлять конструкцию в целом.
1.1.3. Модели-репрезентации как чувственные концепты
§ 1. Модель-репрезентация[36 - Я предложил термин «модель-репрезентация» (С. Э. Поляков, 2011, с. 209–276), не найдя лучшего, хотя он не очень удачен.] как типичная психическая конструкция
Э. Мах (2005, с. 68–69) почти полтора века назад сделал важнейший и для физики, и для психологии вывод, что не тела вызывают ощущения, а комплексы ощущений (комплексы элементов) образуют тела. Э. Мах (с. 49) замечает, что наши сенсорные впечатления бывают самыми разнообразными, а постоянными оказываются лишь их комплексы. Комплексы представляют собой функционально связанные в пространстве и времени сенсорные впечатления. Комплексы получают особые названия, и мы называем их телами. Но и они не бывают абсолютно постоянными.
Как пишет автор, тела кажутся чем-то постоянным, действительным, а составляющие их элементы – чем-то мимолетным, преходящим отражением. И тем не менее тела – лишь абстрактные символы для комплексов элементов, которые образуют их основу. Э. Мах (с. 52) указывает, что можно отделять от комплекса каждую его составную часть, но оставшееся продолжает представлять весь комплекс, который по-прежнему может быть узнан. Вещь, тело, материя – ничто, помимо связи их элементов, цветов, тонов и т. д., помимо так называемых признаков.
Вообще-то мысль о том, что предмет – это лишь совокупность представлений, восходит как минимум к И. Канту, который, например, пишет: «Объект есть то, в понятии чего объединено многообразное, охватываемое данным созерцанием. Но всякое объединение представлений требует единства сознания в синтезе их» (1994, с. 102). Г. Риккерт отмечает, что «вещь, которая для наивной метафизики есть субстанция – носительница свойств, стала для Канта правилом соединения представлений» (1997, с. 128).
Удивительно, но психологи не обратили внимания на эти идеи И. Канта и Э. Маха. Как, впрочем, и на то, казалось бы, очевидное обстоятельство, что вещь, о которой мы думаем, полноценно существует для нас в этот момент, даже если мы ее не воспринимаем. В какой форме она существует в нашем сознании, если мы не определяем ее понятием, то есть не используем в мышлении вербальный образ? Может, как принято считать, в виде образа представления или образа воспоминания вещи? Не всегда.
Вернемся к Э. Маху, который пишет: «Тело, комплекс элементов, или основное ядро, основную сущность этого комплекса, я считаю существующими постоянно, независимо от того, влияет ли оно в данный момент на чувства или нет. Держа постоянно наготове при себе мысль об этом комплексе или выражающий этот комплекс символ, имея всегда наготове мысль о сущности данного комплекса, я тем самым обладаю преимуществом провидения…» (2005, с. 273).
Автор явно говорит о существовании в сознании комплекса, репрезентирующего некую сущность даже тогда, когда человек ее не воспринимает. Этот «комплекс» находится, естественно, не в «реальности в себе», а в сознании человека, воспринимающего соответствующий ее элемент или думающего о нем.
Один и тот же элемент «реальности в себе» не только разные люди, но даже один человек в разных условиях воспринимает порой совершенно по-разному. Каким же образом нам удается, воспринимая часто очень разные «наборы» ощущений и образов, все же выделять в окружающем мире одни и те же предметы, явления, их свойства и действия? А. Эддингтон (2003, с. 180) приводит хороший пример. Автор держит перед собою предмет и видит в нем контуры Британии. Другой наблюдатель, сидящий напротив, видит вместо контуров Британии изображение монарха. Третий, сидящий сбоку от них, вообще видит только узкий прямоугольник. Что же держит в руках автор на самом деле? Все описанные наблюдения объясняются, как только выясняется, что наблюдатели смотрят с разных сторон на монету в один пенс.
Так каким же образом нашему сознанию удается репрезентировать конкретный предмет, если на протяжении своей жизни мы видим лишь огромное количество его очень сильно различающихся между собой образов?
Если бы наше сознание не имело описанного И. Кантом (1994, с. 100–106) «единства апперцепции» – способности объединять разные образы одного или множества сходных предметов и создавать из них целостную и понятную репрезентацию предмета, например монеты, мир оставался бы для нас неясной мешаниной чувственных репрезентаций и мы не смогли бы в нем существовать.
Подобное соединение постоянно происходит в каждом человеческом сознании. Вспомним слова Э. Маха (2003, с. 66) о том, что множество сиюминутных ощущений восприятия сплетаются с предшествующими переживаниями памяти и гораздо больше определяют наше поведение, чем это могли бы сделать одни данные ощущения. В результате мы не только видим красновато-желтый шар, но нам кажется, что мы воспринимаем некоторую телесную вещь, мягкую, с приятным запахом и освежающим, кисловатым вкусом. В другом случае мы видим не желтоватую вертикальную и блестящую плоскость, а, например, шкаф.
Наше сознание непрерывно создает множество чувственных репрезентаций предмета. Причем большинство из них сильно различаются между собой, так как мы видим, например, предмет то спереди, то сзади, то снизу, то издали, то в полумраке, то в свете солнца и т. д. В результате в нашей памяти накапливается множество его образов, многие из которых настолько сильно отличаются друг от друга, что, будучи предъявленными нам для опознания вне определенного единого контекста, были бы, безусловно, расценены как образы разных предметов. В то же время возникающие в нашем сознании образы разных, но сходных в чем-то предметов, будучи предъявленными нам одновременно, вполне могли бы быть расценены нами как репрезентации одного и того же предмета… И тем не менее в результате накопления в памяти разных репрезентаций, формирующих предмет А, в сознании в конечном счете возникает нечто узнаваемое и однозначно расцениваемое нами как известный нам предмет А, отличный от других даже сходных с ним предметов В и С. Это «нечто» и есть тот психический инвариант, та сложная психическая сущность, точнее, та устойчивая психическая конструкция, которая чувственно репрезентирует известный нам предмет А. Эту психическую сущность я называю «моделью-репрезентацией» определенного предмета.
В. Декомб (2000, с. 64) пишет, что нельзя увидеть все шесть граней куба одновременно, поэтому, когда мы говорим: «Это куб», мы говорим о большем, нежели видим. Мы предвосхищаем свое будущее восприятие скрытых сторон куба, которые могли бы увидеть, встань мы с другой стороны. Во всяком нашем актуальном восприятии содержится ссылка на другойопыт, прошлый или будущий. Вещь, предстающая перед нами, никогда не является полностью открытой. Мы предполагаем, что скрытые грани куба наличествуют с другой стороны, с той стороны, где нас нет, хотя на самом деле в настоящий момент мы о них ничего не знаем.
Автор должен был бы сказать не «не знаем», а «не воспринимаем», так как мы как раз знаем. И это предшествующее восприятию знание, выражающееся в наличии в сознании моделей-репрезентаций всех знакомых предметов, сопровождает человеческое восприятие и участвует в нем. Более того, имеющаяся в нашем сознании модель-репрезентация позволяет нам мысленно увидеть знакомый предмет сразу в целом как единую сущность, хотя мы и видим обычно лишь его часть. Ж.-П. Сартр (2001, с. 59–60) пишет, что, когда он мыслит куб в конкретном понятии, он мыслит шесть его сторон и восемь углов одновременно, мыслит его углы прямыми, а стороны – квадратными. Он находится в центре своей идеи, сразу схватывая всю ее целиком. Он может мыслить конкретные сущности в одном акте сознания.
Я тоже легко представляю себе сразу все шесть граней куба как бы в одном, едином его мысленном образе. На деле это, конечно, не один, а множество мгновенных образов представления и воспоминания куба, которые калейдоскопически сменяют друг друга, формируя тем не менее некий единый объект. В этом объекте невидимые обычно грани куба проступают сквозь закрывающие их видимые грани. Причем представляемый мною куб то прозрачный, как из стекла, то окрашенный, медленно вращается в моем сознании. Но это не модель-репрезентация конкретного знакомого мне куба. Это собирательная модель-репрезентация куба вообще – умозрительного объекта, синтезируемого моим сознанием из множества виденных мной на протяжении жизни разнообразных кубов.
В сознании никогда не возникают одни и те же, то есть тождественные самим себе, чувственные репрезентации, в лучшем случае появляются очень похожие репрезентации той же грани реальности, но чаще присутствуют довольно сильно различающиеся ее репрезентации. Тем не менее в итоге каким-то непонятным образом сознание формирует репрезентации конкретных уникальных предметов. Что заставляет нас считать разные репрезентации элемента «реальности в себе» той же самой вещью? Кажется, Б. Рассел писал про пальто, которое было куплено много лет назад и за прошедшие годы превратилось совсем в другую, старую и поношенную вещь, но мы по-прежнему считаем это пальто одним и тем же предметом. Почему? То же касается людей, например одноклассников, которых мы не видели десятки лет и, случайно увидев, не узнали. Это действительно те же люди или мы просто почему-то считаем их теми же?
Мы считаем и знакомых людей, и знакомые предметы теми же, потому что они даны нам в виде наших моделей-репрезентаций, или психических конструкций, чувственно конституирующих в нашем сознании конкретные сущности внешнего мира. Именно модель-репрезентация обеспечивает не только наличие целостной репрезентации предмета в сознании при отсутствии его восприятия, но и субъективную тождественность предмета самому себе. Только благодаря наличию модели-репрезентации карандаша, например, его излом, возникающий при погружении в воду, воспринимается нами как иллюзия. Дело в том, что имеющаяся у нас модель-репрезентация карандаша в воздухе не соответствует новому образу восприятия карандаша в воде. И у нас немедленно возникает вопрос: «Что произошло с карандашом?» Извлечение и повторное погружение карандаша в воду свидетельствуют, что его изменение – иллюзия.
Красивые эксперименты Ж. Пиаже с младенцами (подробнее см.: С. Э. Поляков, 2011, с. 225–230) показали, что для очень маленького ребенка в окружающем мире существует лишь то, что в данный момент находится в его зрительном поле. Вера же в продолжение существования уже невидимых в данный момент предметов появляется у него только в результате формирования в его сознании их моделей-репрезентаций. И эта вера в существование ранее воспринятых предметов, как пишет П. Вацлавик (2001, с. 107), в конечном счете ведет к началу процесса конструирования ребенком действительности.
Если мельком бросить взгляд на знакомого и незнакомого человека, то можно заметить, что мгновенный образ восприятия знакомого сопровождается чем-то делающим этот образ «наполненным», тогда как образ восприятия незнакомого, метафорически выражаясь, «пустой». Образ восприятия знакомого человека актуализирует его модель-репрезентациюв нашем сознании. Образу восприятия незнакомого человека просто почти нечего актуализировать в сознании. В образе восприятия незнакомого человека мы тоже сразу распознаем, во-первых, человека, во-вторых и в-третьих – его пол, возраст, расовую принадлежность и т. д. Но наличие модели-репрезентации знакомого человека радикально меняет для нас воспринимаемый нами образ этого человека. Даже в образах восприятия звука голоса знакомого человека, доносящихся, например, из-за двери, мы, благодаря наличию модели-репрезентации, буквально «видим» его визуальный образ – то, что просто не могли реально сейчас увидеть.
Лежащая передо мной фотография знакомого человека вызывает в моем сознании представление не о ней, а о совершенно другом объекте – самом этом человеке. Происходит это потому, что образ восприятияданного искусственного объекта – фотографии, выступающей как иконический знак изображенного на ней человека, актуализирует в моем сознании устойчивую психическую конструкцию – модель-репрезентацию конкретного человека. Без нее фотография была бы для меня фотографией незнакомца. Я не обсуждаю здесь то, что модель-репрезентация, конечно, ассоциируется с понятиями, например образом слова, обозначающего имя человека, и т. д.
Модель-репрезентация известного человеку предмета не является чем-то раз и навсегда данным ему, неизменным и статичным. Она постоянно видоизменяется в течение жизни и в процессе взаимодействия человека с репрезентируемым ею элементом «реальности в себе». Даже всплывая в сознании, она в отличие от мгновенного образа восприятия или ощущения не является феноменологически чем-то однородным. Появившись в сознании какой-то своей частью, она как бы «течет», так как составляющие ее элементы сменяют друг друга. Удачной метафорой для нее мне представляется видимая часть вращающегося в воде деревянного многогранника с разноцветными гранями. Скрытая его часть прячется где-то в памяти, а видимая часть все время меняется. Его элементы один за другим появляются в сознании, сменяя друг друга. Однако полностью психическая конструкция не помещается в поле сознания из-за своих «размеров» (если можно говорить о размерах психической конструкции).
Например, возникающая в моем сознании модель-репрезентация моей собаки репрезентирует мне непрерывно движущийся объект, который то бежит, то играет с мячом, то лежит, то ест и т. д. Даже модель-репрезентация неподвижного объекта – моего дома – тоже изменяется. Он поворачивается ко мне разными сторонами: то входом, то верандой, видится то рядом, то как бы издалека, то снаружи, то изнутри. Как будто его снимают разные камеры, причем изображение все время перескакивает с одной его стороны на другую без всякой системы и независимо от моей воли. Хотя я все же могу при желании остановиться на какой-то его части, как бы выделить субобъект в этом большом объекте и мысленно рассмотреть его внимательнее.
Таким образом, можно заключить, что модель-репрезентация знакомого предмета представлена совокупностью образов воспоминания и представления этого и даже, возможно, сходных с ним предметов, с которыми человек уже сталкивался в прошлом, в динамике их возможных изменений. А в формировании вновь возникающего образа восприятия предмета непосредственно участвуют не только перцептивные впечатления, но и модель-репрезентация воспринимаемого предмета, если она уже сформировалась к моменту этого восприятия.
Появление в сознании ребенка моделей-репрезентаций упорядочивает для него калейдоскопически меняющиеся сенсорные репрезентации окружающего мира. Формируя в окружающей ребенка реальности конкретные предметы, их модели-репрезентации делают для ребенка мир относительно стабильным и узнаваемым, доступным познанию. В его сознании упорядочивается процесс постоянного движения неопределенных чувственных форм. Без этого сознание утонуло бы в нескончаемой череде меняющихся сенсорных репрезентаций даже одного объекта реальности. Благодаря единству апперцепции сознание строит из бесконечных рядов мгновенных чувственных образов относительно завершенные чувственные же репрезентации вычленяемых и конституируемых сущностей – предметов. Тем самым оно формирует вокруг себя относительно инвариантный для самого сознания предметный физический мир. Хотя мир внешний, «мир в себе самом» не содержит инвариантов и постоянно меняется.
Сознание формирует моно- и полимодальные модели-репрезентации, которые репрезентируют и конкретные объекты (например, ваш дом, вашу собаку, вашего друга Петю и т. д.), и множества сходных объектов, обозначаемых универсалиями (например, дом, дерево, лодка вообще). Визуальная модель-репрезентация конкретного объекта представляет собой множество зрительных образов воспоминания и представления именно этого объекта. Ее можно условно назвать также собирательным образом воспоминания и представления данного объекта. Собирательная модель-репрезентация сходных объектов одного вида включает в себя множество образов воспоминания и представления конкретных объектов данного вида. Например, всех стульев, или всех треугольников, или всех врачей, которые встречались человеку на протяжении его жизни.
У каждого человека, сидящего за общим столом, есть своя уникальная перцептивная репрезентация данного стола, а также уникальная модель-репрезентация стола вообще. Общность доступного всем предмета «стол», да и сам этот «объективный» предмет существуют лишь благодаря общему воспринимаемому элементу «реальности в себе», сходству его сенсорных моделей, возникающих у разных людей, и наличию общего для всех людей понятия стол.
Вспомним известный вопрос, поставленный кажется Б. Расселом: остается ли от воспринимаемого нами стола что-нибудь еще, что не является чувственными данными, когда мы выходим из комнаты? Формулируя вопрос иначе, можно спросить: действительно ли стол лишь продукт человеческого сознания, исчезающий, если человек перестает его воспринимать? В форме образа восприятия привычного нам стола, в форме субъективной модели-репрезентации этого предмета, а также в виде вербальной символической репрезентации, или понятия стол, он действительно только продукт человеческого сознания. И как только мы прекращаем воспринимать стол, он превращается из стола в элемент «реальности в себе», в нечто иное, нечто, которое бессмысленно даже обсуждать в силу его непонятности и недоступности нам.
Модель-репрезентация объекта – это не просто чувственная репрезентация предмета и его изменений во времени. Это еще и репрезентация отношений данного предмета к другим предметам.
§ 2. Модели-репрезентации предметов
Б. Рассел (331, с. 225) пишет о том, что вещи выглядят по-разному даже в зависимости от того, в какой части сетчатки локализуется образ. По мнению автора, обыденный здравый смысл научается отличать эти преходящие изменения в восприятии от тех изменений, которые вызваны изменениями в самих предметах.
Думаю, однако, что здесь надо благодарить не наш здравый смысл, а способность сознания создавать устойчивые психические конструкции – модели-репрезентации каждой воспринятой нами вещи[37 - «Вещь – целостная и относительно устойчивая часть объективной действительности, обладающая определенностью, выраженной в структурных, функциональных, качественных и количественных характеристиках» (Г. В. Осипов, 1998, с. 40). «Предмет – вещь, конкретный материальный объект» (Предмет: справ. ст. [Электронный ресурс]: Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Предмет). Я понимаю вещь как отдельную часть физического мира, эквивалент предмета.] – и сохранять их затем в памяти. Любое столкновение в будущем с «реальностью в себе», образы восприятия которой ассоциативно связаны с определенной моделью-репрезентацией, немедленно актуализирует данную модель-репрезентацию в сознании. Модель-репрезентация вещи обеспечивает ее инвариантность для нас и то, что любые изменения вновь возникающего образа восприятия вещи становятся нам заметны. Полагаю, что модель-репрезентация нового предмета формируется у нас после первого же или нескольких первых его восприятий.
Э. Мах (2003, с. 144) описывает процесс формирования даже у животных того, что я определяю как модели-репрезентации, и называет их «понятиями» и «типическими представлениями». Следовательно, его «типические представления» и есть модель-репрезентация, возникающая и постепенно обогащающаяся в процессе жизни человека или даже животного. Собирательных моделей-репрезентаций сходных предметов (кочанов капусты, людей, коров и т. д.) животному вполне достаточно для адаптации и выживания. Опыт наблюдения за животными исключает, как мне кажется, сомнения в том, что животные способны формировать модели-репрезентации конкретных объектов и собирательные модели-репрезентации многих сходных предметов.
Например, собаки и кошки имеют модели-репрезентации своих хозяев, других животных, а также способны запоминать и узнавать объекты им приятные или неприятные. Тем не менее модели-репрезентации у животных никогда не включают в себя образы слов, обозначающих данные объекты. Можно поэтому сказать, что у животных модели-репрезентации никогда не превращаются в концепты, то есть не становятся «завершенными». Так я называю модели-репрезентации, в структуру которых включились образы соответствующих слов, обозначающих репрезентируемые ими предметы.
Нельзя согласиться с Б. Расселом (1999, с. 39–40), который полагает, что очень многие из наших повседневных убеждений основываются на «законе животных привычек». Что наши ожидания восхода солнца завтра, яблочного вкуса у яблока или появления второй половины объекта после появления его первой половины – результат нашего опыта, вероятно откладывающегося в «привычках тела».
Опыт «откладывается» у нас не «в привычках тела», а в формирующихся моделях-репрезентациях окружающих нас сущностей. Мы верим в то, что солнце взойдет снова, потому что у нас есть соответствующие модели-репрезентации разных сущностей, в том числе солнца и его регулярных изменений, например восхода, заката, затмения и т. д.
Модели-репрезентации предметов начинают создавать новорожденные, еще не владеющие речью. В их сознании модели-репрезентации формируют сущности, выделяющиеся из прочего потока чувственных репрезентаций. Сущности эти способны привлекать к себе внимание детей. Дети их отличают и с ними взаимодействуют. Но сущности эти еще не стали для детей конкретными предметами, которые известны взрослым. Модель-репрезентация превращается в концепт, репрезентирующий предмет, только после ее связывания с образом слова, обозначающего данный предмет. С этого момента модель-репрезентация становится значением соответствующего слова, то есть превращается в полноценный, сформированный концепт. И ее можно назвать завершенной моделью-репрезентацией.
Модель-репрезентацию, в отличие от образов воспоминания и представления предмета, следует рассматривать как сенсорную психическую репрезентацию следующего по сравнению с ними уровня сложности. С момента появления моделей-репрезентаций начинается конституирование сознанием в окружающей реальности чувственно репрезентируемых им предметов. Мир на чувственном уровне постепенно становится для ребенка предметным и тем самым более ясным для него.