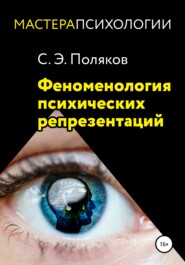скачать книгу бесплатно
…наглядный образ предмета или явления (события), возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и восприятий) путем его воспроизведения в памяти или воображении. В связи с этим различают представления памяти (образы воспоминаний. – Авт.)… и представления воображения (образы представления. – Авт.) [Большой психологический словарь, 2004, с. 406].
В качестве образов воспоминания рассматривается:
…извлечение из долговременной памяти образов прошлого, мысленно локализуемых во времени и пространстве [Психологический лексикон, 2005, с. 105].
С. Л. Рубинштейн (2007) определяет образ воспоминания как:
…представление, отнесенное к более или менее точно определенному моменту в истории нашей жизни [с. 18].
Ощущение, как и образ, можно не только воспринимать, но и представлять и вспоминать. Я определил бы представление как акт спонтанной или произвольной актуализации в сознании любых по модальности образов, не являющихся результатом актуального восприятия и не имеющих непосредственного отношения к автобиографической памяти; а воспоминание – как акт спонтанной или произвольной актуализации в сознании образов, относимых сознанием к автобиографической (эпизодической) памяти. Данные определения по крайней мере помогают уловить разницу между обсуждаемыми психическими феноменами.
В литературе выделяются и другие разновидности психических образов: последовательный, иконический, эйдетический и т. д.
По мнению некоторых авторов [см., например: У. Эко, 2005, с. 282; Б. Мещеряков, В. Зинченко,2004,с. 342], образ по своему содержанию может быть чувственным и рациональным (образ атома, мира, войны и т. д.). Однако образ в принципе не может быть ни по форме, ни по содержанию, ни по каким-либо еще параметрам рациональным. Образ – всегда только чувственная психическая модель. Она по своей природе не может быть рациональной или иррациональной, так как понятие рациональный означает:
…предполагающий использование обоснования или свойства разумности (то есть обычно немыслимый без и вне вербальных конструкций. – Авт.)… [Большой толковый психологический словарь, 2001а, с. 177–178].
Поэтому термин рациональный неуместен применительно к образу. Говорить о рациональном образе столь же бессмысленно, как, например, о сенсорной вербальной идее. Другое дело, можно говорить об образах, иллюстрирующих некую рациональную идею (идея атома, мира, войны и т. д.).
1.3.4. Образы представления и их отличия от образов восприятия
Если образ восприятия, возникающий при фиксированном в течение даже достаточно продолжительного времени на объекте восприятия взгляде, субъективно кажется единичным и устойчивым, то возникающие в нашем сознании в течение нескольких секунд образы представления даже одного и того же объекта отчетливо распадаются в процессе интроспекции на множество последовательно возникающих очень кратковременных, мимолетных образов. Это что-то вроде непрерывной последовательности, «потока» кратковременных образов. Даже удерживаемый сознанием более или менее устойчивый образ воспоминания определенного объекта интроспективно представляет собой такой «поток» непрерывно сменяющих друг друга образов. Причем лишь некоторые из них идентифицируются сознанием как точные репрезентации вспоминаемого объекта. Представьте себе, например, лицо знакомого человека, и вы немедленно убедитесь в том, что, скорее всего, не сможете удержать в сознании его образ. Образ этот возникает и немедленно сменяется другими образами, в том числе не имеющими отношения к вашему знакомому, а затем вновь появляется в сходном, но все же уже ином виде.
В норме нам достаточно легко удается прозвольно управлять течением своих образов представления. Например, представив себе нарисованного человечка, мы можем легко заставить его двигать правой ногой, мизинцем, левой рукой, крутить головой и т. п. Эта очень важная особенность образов представления «привязана» к вербальному мышлению. Достаточно подумать: он крутит головой, и образ делает это, как бы иллюстрируя соответствующую вербальную конструкцию. Образ представления, следовательно, способен изменяться в результате появления вербальных мыслей о представляемом предмете. Как только, например, мое вербальное знание напоминает мне, что объект представления может иметь нечто или, наоборот, не должен иметь чего-то, моментально это нечто появляется или исчезает в визуальном образе представления.
Образы представления вслед за Э. Гуссерлем (2000) можно разделить на то, что он называет «потенцией» и фантазией. Первые – образы представления того, что должно вот-вот произойти, – продолжение, развитие событий, как бы достраивание реального восприятия. Вторые – фантастические образы, которые, в свою очередь, можно разделить на абсолютную фантазию и относительно реальные образы воображения. Фантазия абсолютная – это, например, образы тролля, русалки, Змея Горыныча и т. п. Относительно реальные образы воображения – это, в частности, фантазии в отношении собственных действий, которые, к примеру, человек совершил бы, находясь в данный момент совершенно в ином месте или в иных условиях.
В. М. Аллахвердов (2000) приводит интересные наблюдения Т. И. Бжалава:
После адаптации в темноте испытуемому дают в руку красный треугольник и в течение 2 секунд освещают его. У испытуемого, как и положено, возникает послеобраз. Пусть теперь испытуемый в темноте начинает медленно (безразлично, с закрытыми или открытыми глазами) приближать невидимый ему треугольник – размер послеобраза увеличивается. Когда испытуемый, наоборот, начнет разгибать руку, размер послеобраза станет уменьшаться. Если же предмет, находящийся в руках испытуемого, был освещен и испытуемый выпускает его из рук и далее выполняет сгибание и разгибание рук без предмета, то размер последовательного образа не изменяется [с. 317].
Эти наблюдения демонстрируют зависимость образа представления от имеющегося у испытуемого знания об особенностях трансформации реального образа восприятия в результате изменения, например, условий восприятия, а также от установки испытуемого.
Образы восприятия, с одной стороны, и образы представления и воспоминания – с другой, обычно представляют собой отчетливо различимые субъективно феномены сознания. К. Ясперс (1997), например, приводит следующие их различия:
1. Восприятия телесны (имеют объективный характер), представления образны и имеют субъективный характер. 2. Восприятия возникают во внешнем объективном пространстве, представления возникают во внутреннем субъективном пространстве представлений. 3. Восприятия ясно очерчены и предстают перед нами во всех подробностях, представления лишены ясных очертаний и являются нам неполными, лишь в отдельных деталях. 4. Чувственные элементы в восприятиях отличаются полнотой и свежестью; например, цвета яркие. Иногда чувственные элементы адекватны тем, которые даны в восприятиях, но в большинстве случаев степень их выраженности неадекватна. Зрительные представления большинства людей никак не окрашены. 5. Восприятия постоянны и легко могут удерживаться без изменений, представления рассеиваются, и их каждый раз нужно воссоздавать заново. 6. Восприятия не зависят от воли. Они не могут быть произвольно вызваны или изменены и воспринимаются с чувством пассивности, представления зависят от воли. Они могут быть вызваны или произвольно изменены. Они порождаются с чувством активности [с. 103].
В табл. 2 представлены эти и другие различия между визуальными образами восприятия и представления, которые можно обнаружить в процессе интроспекции при обычном дневном освещении.
Таблица 2. Различия между визуальными образами восприятия и образами представления
Необходимо отметить, что описанные выше различия между образами представления и образами восприятия верны лишь при определенных условиях – для зрительных образов, например, при достаточно ярком естественном освещении в состоянии обычного бодрствования субъекта. Если же мы попробуем сравнить их в сумраке или в особых состояниях сознания, то многие их качества резко изменятся, а различия частично сотрутся. Это касается, например, цветовой яркости, четкости границ, ясности форм, пространственных отношений между репрезентациями объектов и их удаленности от нас.
Достаточно провести небольшой эксперимент и, как предлагал Г. Гельмгольц (2002), зайти ночью в знакомую комнату. Зрительное восприятие окружающего при этом разительно изменится. Вместо привычных ярких, рельефных, цветных объектов с четкими границами, контрастных и насыщенных, располагающихся на разном расстоянии от нас, мы увидим нечто черно-серое с сильно размытыми границами, почти утратившее объемность и формы, состоящее из разных по размерам темных и очень темных пятен. При этом мы, как ни странно, обычно не замечаем отличий таких необычных образов восприятия от привычных образов тех же объектов и не задумываемся о том, что же на самом деле видим в привычных условиях и видим ли в сумерках или даже в темноте. Мы понимаем, конечно, что при недостатке света плохо видно окружающее, но это почему-то не мешает нам в знакомой обстановке всегда действовать более или менее уверенно и не испытывать особых затруднений.
Объясняется это тем, что у нас есть модель-репрезентация той части окружающего мира, в которой мы бываем часто, представленная детальными образами воспоминания и представления. Именно поэтому в знакомой обстановке даже в полной темноте мы в состоянии ориентироваться и двигаться в нужном направлении, находя необходимые нам предметы. Причем наши образы представления и воспоминания окружающего в этом случае становятся несравнимо более красочными, рельефными и структурированными, чем образы восприятия тех же объектов, предстающих перед нами в виде серо-черных пятен. Данное обстоятельство позволяет нам не замечать того факта, что образы представления и воспоминания замещают в нашем сознании в эти моменты образы актуального восприятия.
Я, например, ловлю себя на том, что даже не замечаю, что картину, которую вроде бы вижу сейчас в сумраке собственной спальни, я на самом деле вспоминаю, в то время как реально воспринимаю черное пятно на темном фоне. Подмена образа восприятия образом воспоминания обусловлена установкой – пониманием того, где я сейчас нахожусь. Но установка легко может и ввести в заблуждение, изменяя неясные образы восприятия и создавая аффективные или установочные иллюзии, например трансформируя на кладбище ночью смутный образ восприятия надгробия в образ угрожающей фигуры.
Ядвига Конрад-Мартиус (2006) описывает интересный психический феномен, заключающийся в одновременном моделировании окружающей реальности сразу в двух плоскостях (перцептивными образами и образами воспоминания):
…представляемый предмет… является в том же самом «реальном» пространстве… здесь он предметно «укоренен» так же, как и воспринимаемые предметы; нет никакого существенного различия в том, перевожу ли я у себя в комнате взгляд с одного воспринимаемого предмета на другой или обращаю его на не воспринимаемый, но все же поддающийся непосредственному обозрению коридор [с. 260].
Здесь образ восприятия предметов комнаты непосредственно связан с образом воспоминания коридора и словно продолжает актуальный образ восприятия. То же самое происходит, когда, например, вслед за Р. Декартом я вижу лишь шляпы и плащи на улице, но одновременно я и как бы «вижу» за ними людей, хотя фактически их не воспринимаю. Таким образом, чувственные модели-репрезентации окружающего меня мира, актуализируясь лишь какими-то отрывочными восприятиями, представляют моему сознанию все богатство моего прежнего опыта, даже если сейчас мои восприятия крайне отрывочны и рудиментарны. «Чувственный опыт» – это вся глобальная чувственная модель мира, которая уже существует к данному моменту в моей памяти.
По данным литературы, образы представления-воспоминания у отдельных людей могут быть не менее яркими, чем образы восприятия, и могут иметь многие свойства, характерные для образов восприятия. Так, Ч. Ф. Стромейер III (2005) приводит, например, следующее наблюдение:
Элизабет… может по своему желанию мысленно спроецировать точное изображение какой-то картины или сцены на свое полотно или на другую поверхность. …Образ содержит все детали текстуры и цвета оригинала. Как только образ сформирован, он остается неподвижным, и Элизабет может перемещать по нему свой взгляд, чтобы исследовать детали. Элизабет… говорит, что может, например, спроецировать бороду на безбородое лицо или же листья – на обнаженное дерево; эти дополнения настолько яркие, что они могут затмить истинный образ. Однако она никогда не путает эйдетические образы с реальностью, и ее редко беспокоят спонтанные мысленные образы. …Через годы после прочтения стихотворения на иностранном языке она может извлечь из памяти образ печатной страницы и воспроизвести стихотворение с нижней строки до верхней со скоростью, с которой она обычно пишет [с. 623].
Нередко у наших образов представления отсутствуют важнейшие детали. Несмотря на это, мы легко узнаем в этом своем смутном образе конкретный предмет. Почему?
Мне представляется, что тут играют роль два фактора. Во-первых, то, что образ представления, и особенно образ воспоминания предмета, обычно возникает вместе с образами других предметов, окружающих данный предмет в физической реальности – в некоем привычном контексте. Например, образ здания появляется одновременно с образами других зданий, располагаясь на своем месте среди них, как фрагмент определенной площади или улицы, то есть возникает в рамках целостной модели-репрезентации реальности. Во-вторых, то, что образ представления предмета сопровождается обычно обозначающим его понятием, следовательно, он является еще и чувственным значением данного понятия.
Между феноменологически разными мирами воспринимаемого и представляемого существует важнейшее различие, а именно – первый мир объективно реален. Он нам дан. И мы имеем в своем сознании его устойчивую глобальную перцептивную модель, состоящую из актуальных образов восприятия и ощущений. Тогда как второй мир – это скорее внутренние меняющиеся психические содержания нашего сознания. Именно наличие резкой субъективно регистрируемой феноменологической разницы между образами восприятия и образами представления расщепляет для нас мир на физический и психический. Первый находится в воспринимаемом пространстве, тогда как второй – в воображаемом. Что такое воображаемое, или представляемое, пространство?
Ядвига Конрад-Мартиус (2006) так характеризует его:
…наглядно данное в представлении – в отличие от наглядно данного в восприятии… имеет нечто своеобразно «отдаленное» – как если бы это содержание само по себе требовало того, чтобы его вынесли из затемняющей его среды и показали в «правильном свете». …Представляемое содержание в себе указывает на иной, возможный для него наглядный способ данности, а именно на данность в восприятии. …Явление представляемого происходит не там, где является воспринимаемое, а в сфере, которая отчетливо отличается от этой сферы восприятия… Этот момент, очевидно, имеет в виду Мах, когда говорит о явлении представляемого «в ином поле» и прежде всего об «изменении направления внимания»: «я ощущаю, как при переходе к представлению отвожу внимание от глаз и обращаю его к чему-то иному». …Представляемое содержание… постоянно «удерживается» моим «умом»; оно не отделено от него полностью, как отделены или оторваны предметы восприятия (поэтому никоим образом нельзя отказать в некотором феноменальном основании выражению «представлять нечто “в уме”»), тем не менее и представляемое содержание может отчетливо являться «где-то там вовне», но только в отличие от предметов восприятия оно там – если можно так предварительно выразиться – не укоренено. Оно «парит где-то там», но место этого парения не поддается точному определению… [с. 249–250].
Действительно, можно сказать, что образы представления явно менее реальны, чем образы восприятия, точнее, реальны как-то иначе и располагаются в ином психическом пространстве. Б. М. Величковский (2006а) отмечает, что когнитивная психология установила факт:
…как сходства, так и ряда качественных различий между образами (представления. Авт.) и восприятием. Существование подобных различий не позволяет более считать образные представления просто «ослабленными копиями» предыдущих сенсорных воздействий, особенно в случае «продуктов» нашего творческого воображения, часто имеющих гипотетический и даже явно фантастический характер [с. 56].
Безусловно, образные представления – не просто «ослабленные копии» предыдущих образов восприятия. Это положение подтверждается, например, весьма необычными порой «продуктами» нашего творческого воображения. Хотя, с другой стороны, в наших образах представления, по-видимому, действительно, как говорили старые авторы (Дж. Локк, Д. Юм и др.), нет ничего такого, чего не было ранее в наших образах восприятия. Другое дело, что все то, что было в образах восприятия, настолько фрагментировано и «переконструировано» в наших образах представления, что корни этих новых «продуктов» творчества нашего сознания найти в образах представления действительно порой практически невозможно. Вместе с тем не следует забывать о том океане образов восприятия естественных и искусственных физических объектов, которые в самых неожиданных формах изливаются на нас с бесчисленных экранов и страниц. Невозможно поэтому с уверенностью сказать, что мы не видели чего-то из самых безумных своих фантазий на этих еще более безумных экранах и страницах.
Существуют весьма интересные экспериментальные данные об общности физиологических механизмов, лежащих в основе тех и других видов образов. Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и др. [2007, с. 389–390], ссылаясь на Farah at al., сообщают, что все нарушения зрительного восприятия у пациентов с поврежденным мозгом, как правило, сопровождаются аналогичными нарушениями зрительных образов воспоминания.
Так, у пациентов с поражением теменной доли правого полушария развивается игнорирование левой стороны поля зрения и поля представления – воспоминания. Итальянский невролог Бизиак (Bisiach&Luzzatti, 1978) просил больных представить себе, как выглядит знакомая им площадь в их родном Милане, если стоять лицом к церкви. Пациенты называли большинство объектов, находящихся справа от них, но очень мало тех, что были слева. Когда их просили представить себе ту же площадь с противоположной точки, как если бы они стояли спиной к церкви и смотрели на площадь, пациенты игнорировали объекты, которые опять находились с левой стороны от них, хотя раньше они их называли.
Авторы делают вывод, что поврежденные структуры мозга обычно опосредуют и образы представления, и образы восприятия.
1.3.5. Образы воспоминания
Интроспективно образы воспоминания похожи на образы представления, но отличаются от них каким-то феноменологически неясным дополнением, сигнализирующим нам о том, что это все же иные образы – образы чего-то реально воспринятого нами в прошлом. В отличие от образов представления образы воспоминания более определенные, детализированные, устойчивые, конкретные и повторяющиеся всякий раз в очень сходном виде. Можно поэтому согласиться с мнением У. Джеймса (2003), что:
…предмет воспоминания проникнут яркостью и непосредственностью, какие вовсе недостижимы для объекта представления [с. 164].
Главное, возникающие образы воспоминания спонтанно сменяют друг друга и, каждый раз репрезентируя строго определенный ход событий, создают специфическое ощущение воспроизведения реально пережитого. Поэтому образы воспоминания и воспоминания пережитых ощущений субъективно рассматриваются в качестве «следов», фрагментов прошлых образов восприятия и ощущений. К образам воспоминания можно повторно возвращаться, как бы вновь и вновь их рассматривая. Даже открывать в них вроде бы какие-то мелкие, новые, забытые детали.
Несмотря на то что при каждом новом появлении образов воспоминания в сознании они различаются между собой, моделируемая ими схема развертывания изменений прошлой реальности остается прежней. В образах воспоминания, как и в образах восприятия, нет характерных для образов представления объективно невозможных трансформаций, и в них гораздо больше непроизвольности. В воспоминаниях есть только то, что действительно произошло или могло произойти в реальности в прошлом. Если образы восприятия и воспринимаемые ощущения обладают одним особым качеством – бесспорностью и очевидностью своего существования, независимого от нашего субъективного желания или нежелания, то воспоминания обладают другим особым качеством. Они сопровождаются ощущением того, что репрезентируют нечто, действительно имевшее место в прошлом. Неясно, что стоит за этим интрапсихическим ощущением феноменологически.
Некоторые образы представления тоже могут настолько напоминать события прошлого, что человеку порой трудно сказать, имело ли место данное событие в его жизни, или это лишь иллюзия его памяти. Возможно, в появлении таких обманов памяти участвуют сны, некоторые яркие события которых со временем могут становиться неотличимы от мимолетных событий прошлого. Объектом воспоминаний могут быть и собственные мысли. Не только вербальные, например воспоминания о собственных размышлениях и сформированных ранее вербальных идеях, но и даже образы представления, которые возникали в этой связи. При этом человек именно помнит, что думал так или представлял себе что-то.
Образы воспоминания в отличие от образов представления сгруппированы в устойчивые последовательные ряды, репрезентирующие связанные друг с другом события, пережитые нами в прошлом, или те, которые могли быть нами тогда же пережиты. Они всегда включены в контекст содержания эпизодической памяти как элементы последовательно разворачивающегося единого целого и занимают в нем строго определенное место. По-видимому, в этом последнем обстоятельстве и заключается основное различие между образами воспоминания и образами представления. Содержащаяся в эпизодической памяти[26 - Эпизодическая память – форма памяти, в которой информация сохраняется с «мысленными пометками» о том, где, когда и как эта информация была взята; то есть материал в памяти касается довольно определенных эпизодов [Большой толковый психологический словарь, 2001а, с. 11].] метафорическая «лента» воспоминаний, периодически разворачивающаяся в сознании, фактически представляет собой жесткую психическую конструкцию из тесно связанных между собой образов воспоминания (и представления) изменявшейся в прошлом окружающей реальности и нашего взаимодействия с ней. Видимо, именно жесткая связь между отдельными последовательностями образов в первую очередь и делает их образами воспоминания.
Отдельные образы представления порой неотличимы от образов воспоминания, и трудно сказать, действительно ли всплывающий в нашем сознании конкретный образ является неким следом пережитого, либо это образ, синтезированный нашим сознанием из многих фрагментов образов воспоминаний. Можно даже предположить, что некоторые образы представления – это либо «оторвавшиеся» от этих «рядов», от этой «ленты» памяти образы воспоминания, либо новые синтетические образы, воссозданные сознанием из фрагментов образов воспоминания. По мере удаления во времени от пережитых событий воспоминания о них стираются, местами прерываются и «лента» теряет множество образов, бесследно исчезающих из нее. Остаются только самые яркие и эмоционально важные образы, но и они уже не детализированы и схематичны.
Образы воспоминания могут быть весьма подробными и связными, но в них в отличие от образов восприятия всегда существуют более или менее явные пробелы и многочисленные «потертости», как принято говорить в психопатологии. Образы воспоминания могут в известных пределах дополняться и видоизменяться под влиянием образов представления и даже вербальных знаний. Г. Эббингауз (1998), например, пишет:
Там, где воспоминания имеют пробелы или неопределенны, они с трудом могут противостоять влиянию представлений, внушенных вопросом (например, не правда ли, г. Х. был такого же роста, как Вы?) [с. 117].
Элизабет Лофтус (E. Loftus, 1975; E. Loftus, H. Hoffman, 1989 и др.) установила, что событие, воскрешаемое в памяти, восстанавливается неточно. Она полагает, что процесс, называемый памятью, – не более чем реконструкция реального события. Вместо своего реального прошлого, например отпуска, мы реконструируем события, используя информацию из многих источников: своих реальных воспоминаний об этом отпуске, воспоминаний о других своих отпусках, проведенных там же, из фильмов, которые снимались в том же месте, и т. д. Мы уверены, что возникающие у нас воспоминания – это правда, тем более если рассказывали о них в присутствии кого-то другого, кто был вместе с нами в то время. Э. Лофтус.(E. Loftus,1975). ука-.Лофтус.(E. Loftus,1975). ука-Лофтус (E. Loftus,1975) указывает, что на наши воспоминания мощное влияние оказывают вербальные знания. Она удивляется тому, как сильно наши истории могут расходиться с реальными событиями.
Дж. Р. Андерсон [2002, с. 214] тоже пишет, ссылаясь на Ридер (Reder), что многие воспоминания в реальной жизни включают в себя правдоподобные умозаключения, а не точные воспоминания, люди часто оценивают, что может быть правдоподобным, а не пытаются извлечь из памяти точные факты. Он [2002, с. 216] приводит описание опытов Ридер и Росс (Reder & Ross), из которых следует, что люди не столько оперируют реальными воспоминаниями о пережитой ими ситуации, сколько делают выводы из своей имеющейся модели пережитой ими ситуации. Иными словами, мы часто оперируем не воспоминаниями, а выводами из воспоминаний – производными вербальными конструкциями. Дж. Р. Андерсон (2002) отмечает, что:
…рекламодатели часто извлекают выгоду из нашей тенденции приукрашивать то, что мы слышим, правдоподобными умозаключениями. …Когда испытуемым усложняют материал при заучивании, они обычно вспоминают больше заученной информации, но также склонны вспомнить умозаключения, которых не заучивали. …Умозаключения при заучивании помогают нам перейти от того, что мы фактически слышали и видели, к тому, что мы полагаем истинным. …Такие выводы обычно ведут к более последовательному и точному пониманию мира. Но существуют обстоятельства, при которых мы должны отделить то, что мы фактически видели и слышали, от наших умозаключений. …Грань между памятью и воображением весьма тонка, и легко перепутать источник информации. Серьезные ошибки памяти могут происходить потому, что люди не в состоянии отделить, что они фактически пережили, от того, что они вывели путем умозаключений или вообразили [с. 218–219].
Главная эволюционная роль образов представления и воспоминания состоит, видимо, в том, что они готовят человека к возможным в данной ситуации изменениям реальности. Кроме того, они постоянно дублируют, дополняют текущий образ восприятия реальности и немедленно замещают его при внезапном его выключении. Без этого человек мгновенно дезориентировался бы в реальности, например, даже при кратковременном закрывании глаз. Сами образы представления и воспоминания – это полученное ранее путем активного взаимодействия с реальностью и переработанное на основе предшествующего личного опыта особым образом структурированное чувственное знание о ней. Это особые сенсорные модели конкретной части окружающей реальности.
Некоторые образы представления трудноотличимы от образов воспоминания. В свою очередь, образы воспоминания легко трансформируются в образы представления. Например, я могу представить, как моя собака прыгает через обруч, чего она никогда не делала, или как моя собака управляет автомобилем. Эти новые образы субъективно даже более реальны, чем прочие образы представления. Сказанное лишний раз подтверждает феноменологическую близость образов воспоминания и представления.
Ощущения, как и образы, можно разделять на воспринимаемые и представляемые или вспоминаемые. Достаточно легко представить себе определенные ощущения (вспомнить их), если перенести себя мысленно в ту или иную ситуацию, например представив кусочек сахара или лимона во рту, розу у лица или сильный порыв ветра, поднимающего и швыряющего в лицо пыль, песок и листья с земли. Представляемые (вспоминаемые) запах или вкус отличаются от воспринимаемых ощущений запаха и вкуса столь же отчетливо, как образы представления и воспоминания – от образов восприятия. Даже в том случае, если, например, в помещении при отсутствии цветов пахнет розами, мы легко узнаем, что это именно восприятие, а не представление.
Бывает, мы непроизвольно вспоминаем пережитые в прошлом ощущения. Например, возникает воспоминание прошлого ощущения, которое порой трудно даже привязать к определенной модальности. Первоначально это, скорее, даже сложное полимодальное воспоминание некой прошлой эмоционально приятной ситуации, которое было спровоцировано образами восприятия окружающей нас сейчас и в чем-то сходной с прошлой ситуации. Порой воспоминание о пережитом в прошлом ощущении невозможно соотнести с конкретным эпизодом прошлого. Оно всплывает как воспоминание, относящееся скорее к целому периоду жизни, например к детству или периоду жизни в конкретном месте, а не к какой-то определенной ситуации. Есть лишь понимание того, что нечто подобное переживалось мною раньше, непонятно когда конкретно, где именно и в связи с чем, но возникшие воспоминания ощущений знакомы и приятны или неприятны.
Упрощая сенсорные психические феномены, исследователи втискивают их в жесткие рамки понятий: ощущение, образ, репрезентация и т. п. В результате рассматриваемые сущности кажутся достаточно простыми. Такими же простыми объектами, как окружающие нас физические предметы: гвозди, рыбы, овощи и т. п., только объектами психическими. В действительности же рассматриваемые психические сущности неизмеримо сложнее, неопределеннее, а главное – непонятнее, чем конкретные физические объекты, даже для самого конституирующего их сознания. В этом смысле они скорее ближе к тем абстрактным физическим сущностям («сила», «работа», «энергия» и т. п.), в самом наличии которых создавшее их человеческое сознание не вполне уверено.
Глава 1.4
Образ и объект
1.4.1. Эволюция содержания понятия «образ»
Как я уже отмечал выше, первые попытки изучения зрительных образов в психологии восходят к сэру Фрэнсису Гальтону (1883), который просил людей описывать свои образы, оценивая при этом их отчетливость. Однако понятие образ используется в философии очень давно. П. Кюглер (2007), ссылаясь на книги Р. Керни (R. Kearney) «История философии», Ф. Коплестона (F. Copleston) «Пробуждение воображения» и других авторов, сделал интересный исторический обзор взглядов на эволюцию понятия образ. По его словам, значение понятия образ многократно изменялось на протяжении двух последних тысячелетий. История понятия начинается в западной философии с Платона. П. Кюглер (2007) приводит его аллегорическую историю, в которой люди сидят в пещере в оковах и не могут двигаться с места. Высоко за людьми сзади – огонь, а прямо за ними стена, выполняющая роль ширмы. Стена скрывает от них дорогу, по которой движутся другие люди. Эти люди несут разные фигуры, утварь, изображения живых существ и др. Несут так, чтобы они были над стеной и отбрасывали тени на противоположную, видимую людям стену пещеры. Люди в оковах могут видеть только их и воспринимают их как единственную реальность. Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, они узнают, что были обмануты тенями, отбрасываемыми на видимую стену пещеры реальным миром. По Платону, образы – внешние производные материального мира, который сам является лишь проявлением высшего идеального мира. Образы – это копии копий.
Аристотель, по мнению П. Кюглера, трансформировал теорию Платона. Согласно его учению, образ находится уже внутри человека, а его источником является материальный мир. Образы – посредники между чувствами и разумом, мост между миром сознания и миром материальной реальности. Тем не менее Аристотель наделяет свойством первичности не образ, а сенсорные данные. Образ является их отражением, а не источником. Ни Платон, ни Аристотель не рассматривали процесс возникновения образа как изначальный и автономный. Для них образы – это результат копирования, имитации, повторения. Вторичное отражение чего-то более «сущностного», находящегося вне человеческого существа.
П. Кюглер (2007) констатирует, что взгляд на образы сохранялся, практически не меняясь, в философских системах неоплатоников: Порфирия, Прокла, Плотина – и у средневековых теологов: Августина, Бонавентуры и Фомы Аквинского. Он замечает, что и библейская (иудейско-христианская), и эллинистская традиции считали создание образов воспроизводящей активностью, отражением «истинного» источника смысла, находящегося за пределами человеческого мира, – Бога или форм (метафизических, как у Платона, или физических, как у Аристотеля). Со времени древних греков существование этих пар противоположностей: внешнего и внутреннего, души и тела, разума и чувства, духа и материи, мыслилось незыблемым, закладывая основу западной метафизики. В них видели каркас, поддерживающий структуру нашего мышления. Образ занимал позицию между любой парой этих противоположностей.
По мере развития западной культуры понимание образа постепенно менялось. По словам П. Кюглера, уверенность в том, что образ – это только копия некоего оригинала, пошатнулась. С приходом Ренессанса пропало понимание того, «что есть образ – одежда, которую мы надеваем, или наша собственная кожа» [2007, с. 126]. П. Кюглер выделяет несколько выдающихся фигур Ренессанса (Парацельс, Фичино и Бруно), которые развили новое понимание образа. Рассматривая образ как творческую, трансформирующую силу, действующую внутри человека, алхимики перевернули традиционную теорию знания и образа так же, как Коперник перевернул космологию. Бруно вообще посмел заявить, что человеческое воображение само является источником познания! Что работа воображения предваряет разум и в действительности создает его. Из чего следует неизбежный вывод о том, что творец не Бог, а человек. Эти идеи и привели Бруно на костер.
Представления Р. Декарта, как считает П. Кюглер, окончательно узаконили дуализм и разделили мир на объекты и субъекты. Его теория мыслящего субъекта окончательно обозначила перелом в западной психологической мысли, поместив источник смыслов, творчества и истины внутрь человека, которому был отдан приоритет перед объективной сущностью или божественным. Д. Юм, по словам П. Кюглера, пошел еще дальше, предположив, что человеческое знание может строиться на основании себя самого. Д. Юм считал образ оставшейся в уме копией пережитых и «поблекших» чувств. И настаивал на том, что мир представлений содержится внутри человека. Вся реальность, с которой мы имеем дело, – наш внутренний музей искусств. И мир разума, и сама так называемая материальная реальность – лишь субъективные представления, выдумка. Согласно Д. Юму, психический образ более не связан ни с какими трансцендентными сущностями. Образ – вся истина, которая нам доступна. Однако Д. Юм – сторонник теории соответствия: если мы не можем утверждать, что есть соответствие между образом и трансцендентным объектом, мы не можем установить истину, следовательно, нам недоступна никакая истина.
П. Кюглер [2007, с. 130] считает, что позиция Д. Юма по отношению к психическим образам заключает в себе следующую проблему: если мир, который мы знаем, есть лишь коллекция пустых выдумок, лишенных всякого трансцендентного основания, то все, на чем основывается наше чувство реальности, – это субъективный вымысел, лишенные фундамента образы.
П. Кюглер пишет, что в 1781 г. И. Кант ошеломил коллег, объявив воображение неизменным начальным условием любого знания, процесс формирования образа – неотъемлемым условием любого знания, а процесс создания образов – как воспроизводящим, так и производящим. П. Кюглер полагает, что после работ И. Канта философия перестала рассматривать психические образы как копии и придала им роль творящего начала.
И. Кант (1994) действительно пишет:
…само… пространство и время, а вместе с ними и все явления суть сами по себе не вещи, а только представления и не могут существовать вне нашей души… утверждать, что явление существует само по себе, безотносительно к нашим чувствам и возможному опыту, можно было бы, конечно, лишь в том случае, если бы речь шла о вещи самой по себе («вещи в себе». – Авт.). Но речь идет только о явлении в пространстве и времени, которые суть лишь определения нашей чувственности, а не определение вещей самих по себе, и потому то, что находится в пространстве и времени (явления), не существует само по себе, а есть только представления, которые, если они не даны в нас (в восприятии), не встречаются нигде [с. 306–307].
… явления вообще вне наших представлений суть ничто… [с. 314].
Вещи, которые мы созерцаем, сами по себе не таковы, как мы их созерцаем, и… отношения их сами по себе не таковы, как они нам являются, и если бы устранили наш субъект или же только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношения их в пространстве и времени и даже само пространство и время исчезли бы: как явления они могут существовать только в нас, а не сами по себе (курсив мой. – Авт.). Каковы предметы сами по себе и обособленно от этой восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно неизвестно. Мы не знаем ничего, кроме свойственного нам способа воспринимать их, который к тому же необязателен для всякого существа, хотя и должен быть присущ каждому человеку. Мы имеем дело только с этим способом восприятия [с. 61–62].
Из сказанного следует, что: 1) «мир в себе» не идентичен нашим чувственным репрезентациям, и какой он – нам знать не дано; 2) мир в репрезентируемом нашим сознанием привычном для нас виде только в нашем сознании и существует; 3) наши же чувственные модели окружающих вещей – и не модели вовсе, а самые что ни на есть единственно реальные для нас вещи.
Как должно понимать кантовскую «вещь саму по себе (вещь в себе)», как «стол в себе», то есть уже все же «стол», а не «нечто», пусть и «в себе», или все же лишь как неопределенную часть – фрагмент аморфной, никак недоступной нам иначе, чем в виде стола, «реальности в себе»? Сам И. Кант пишет о «вещи самой по себе» («вещи в себе»):
…каковы вещи сами по себе, я не знаю и мне незачем это знать, потому что вещь никогда не может предстать мне иначе как в явлении [там же, с. 205].
Попытаемся изменить поставленный выше вопрос: есть ли вообще «вещь сама по себе (вещь в себе)»? Мне представляется, что И. Кант не довел свои рассуждения до логического конца. Если, как он сам утверждает:
…вещи… все свойства объектов и все отношения их… могут существовать только в нас, а не вне нас [с. 61], —
то и «вещей в себе» нет и быть не может. Без человеческого сознания никакой «вещи», даже «вещи в себе» нет вовсе. Она – творение человеческого разума, в ее основе – человеческое понятие вещь и специфическая чувственная конструкция нашей психики.
Именно сознание создает объекты, предметы и вещи, их свойства и действия, овеществляет окружающую реальность. Без психических моделей в физической реальности есть лишь невоспринимаемое и невещественное «нечто в себе». Сенсорные модели сознания придают физической реальности чувственную вещественность, хотя и не создают еще в ней понятные сознанию сущности. Символические модели сознания – понятия и конструкции из них конституируют эту чувственную вещественность физической реальности и создают уже в ней физические сущности: вещи, предметы, явления, свойства и т. д. В аморфной «реальности в себе» без человека нет «вещей». «Вещь», как, впрочем, и «вещь в себе», конституируется лишь сознанием, способным оперировать понятиями.
В. Виндельбанд тоже обращает внимание на это противоречие в позиции И. Канта, хотя и в другой связи:
Во всем том, что нам представляется данным, кроется уже деятельность нашего разума… [В. Виндельбанд, 1995а, с. 9].
С точки зрения теоретического разума, которая одна лишь признается Маймоном, вещь в себе является абсолютным противоречием. Каждый признак понятия существует в качестве представления в сознании, следовательно, зависит от самого сознания и имеет смысл только в нем. Поэтому представление, независимое от сознания, не имеющее признаков (так как это-то и называется непознаваемостью) вещи в себе, является немыслимым и совершенно невозможным. Вещь в себе не только не может быть познана, но не может быть и мыслима [В. Виндельбанд, 2007а, с. 215].
И это очевидно, так как сама «вещь в себе», как и вещь вообще, является таким же понятием нашего сознания, как и любое другое. Она – порождение человеческого сознания, которое только и может существовать в самом сознании и нигде больше. Чтобы сделать дальнейшее изложение более понятным, я вынужден сказать здесь, что еще буду ниже подробно рассматривать то, как объекты (предметы, вещи и др.), явления, их свойства и действия конституируются человеческим сознанием. Мои оппоненты могут сказать, что уже для животных существуют объекты: партнеры, пища, хищники и т. д.
Однако позволю себе уточнить: эти объекты тоже созданы человеческим сознанием, так как без соответствующих понятий нет и не может быть всех этих объектов. Есть что-то иное. В частности, у животных есть лишь чувственные репрезентации окружающего мира. Своеобразное понимание реальности животными на чувственном уровне окружает их знакомыми или незнакомыми, приятными или неприятными прикосновениями, запахами, притягательными или отталкивающими вкусами, пугающими, привлекательными или индифферентными визуальными образами, громкими или тихими звуками и т. д. и т. п. Для животных не существует объектов в нашем их понимании: вещей и предметов, явлений, их свойств и действий. Есть лишь более или менее выделяемые и на чувственном уровне понимаемые, то есть узнаваемые чувственные репрезентации и типовые реакции на них.
Безусловно, у животных формируются сложные модели-репрезентации того, что мы называем конкретными объектами: партнеры, детеныши, другие члены группы и др. Но для них это лишь чувственные фрагменты окружающего мира. Даже у высших животных, обладающих чувственными предпонятиями, не существует предметов в нашем понимании последних, пока и если они не усвоили соответствующие простые понятия (см. гл. 2.1).
Мне опять могут сказать: да, с возникновением развитой психики появляется способность репрезентировать изначально присущие реальности, то есть имеющиеся в ней исходно сущности: предметы, явления и т. д. И чем более развито сознание животного, тем лучше оно может выделить в окружающем мире сущности, исходно уже присутствующие в нем. Чтобы убедиться, что это все же не так и И. Кант был прав, имеет смысл разобраться в том, из чего складывается в нашем сознании предмет. Он репрезентируется в сознании как что-то светлое или темное, что-то цветное или черно-белое, что-то приятно или неприятно пахнущее, что-то твердое или мягкое, что-то вкусное или отвратительное, что-то теплое или холодное, что-то гладкое или шершавое и т. д. Возникает вопрос: состоит ли предмет из всего перечисленного?
Очевидно, что все то, что приписывается нами предмету как его физические качества: яркость, цвет, запах, твердость, вкус, теплота и т. д. – на самом деле лишь повторяющиеся особенности наших психических репрезентаций, имеющие к сущности предметов весьма условное отношение. Например, цвет. Очевидно, что цвет – это психический феномен, а не физическая сущность, хотя «здравый смысл» заставляет нас считать, что цвет порождается в сознании совокупностями электромагнитных волн определенной длины, следовательно, они и есть сущность цвета, то есть цвет – это репрезентация электромагнитных волн определенной длины. И все же цвет – это психический феномен, специфическое визуальное переживание, хотя и возникающее при воздействии определенных электромагнитных волн на зрительные рецепторы человеческого глаза. И если не будет человека с его глазами и сознанием, то и цвета не будет в человеческом его понимании, даже если сохранится в физической реальности то, что мы репрезентируем себе сейчас вербально как электромагнитные волны определенной длины.
Если меня спросят: «Видят ли, например, даже животные разные цвета предметов?» – я отвечу, что некоторые животные способны реагировать на световые волны разной длины, соответствующие разным цветам человеческого спектра, но из этого не следует, что они воспринимают цвета предметов. Да, они, вероятно, испытывают разные визуальные ощущения, но говорить при этом, что они воспринимают разные цвета, означает впадать в антропоморфизм[27 - Антропоморфизм. Приписывание человеческих характеристик организмам, находящимся на более низких ступенях развития, или неодушевленным объектам [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 55].]. Подчеркну еще одно важное обстоятельство: мы не воспринимаем электромагнитные волны (об этом пишет и Дж. Гибсон, 1988, с. 157), а лишь имеем в сознании психическую репрезентацию состояния своего тела. Состояния, возникшего в результате взаимодействия этих волн с особыми структурами тела – рецепторами. Хотя в соответствии со «здравым смыслом» принято считать, что мы воспринимаем именно цвет, который является свойством физических предметов.
Сказанное о цвете в полной мере относится и к сущностям, воспринимаемым нами как другие качества предметов: запах, вкус, теплота, твердость и т. д. Вообще ко всем сущностям, которые мы привычно отождествляем с качествами объектов, якобы вызывающими у нас соответствующие ощущения. Не будет нашего сознания, не будет и этих качеств физических предметов, так как именно особенности наших анализаторов и нашего сознания порождают именно такие репрезентации в известных нам модальностях. Очевидно также, что будь у нас иные сенсорные системы, окружающие нас объекты радикально изменились бы. Поменялась бы даже их пространственная локализация, и исчезли бы их привычные для нас границы и формы, не говоря уже о таких их качествах, как цвет, светимость, вкус, запах, температура и др. Многие объекты просто исчезли бы, и появились бы новые.
Летучие мыши воспринимают ультразвуковые сигналы, отраженные предметами. Для них поэтому существуют те грани реальности, о существовании которых мы, возможно, и не подозреваем. Однако будь у нас соответствующие органы чувств, появились бы и новые объекты. Собаки имеют гораздо более чувствительный к запахам, чем у нас, обонятельный орган. Рыбы воспринимают специальным сенсорным органом электростатические заряды. Эти чувственные репрезентации тоже породили бы для нас множество объектов, будь у нас подобные анализаторы, а главное – новые понятия для выделения этих репрезентаций. Наша физическая реальность с ее объектами, их свойствами и действиями радикально отличается даже от мира, чувственно репрезентируемого обезьяной, а мир последней радикально отличается от мира кошки, рыбы или птицы.
Могут сказать: то, что человек не воспринимает такие объекты, как ультразвук, электростатические заряды, электромагнитные волны за пределами видимого спектра и еще массу других вещей, не свидетельствует о том, что без него их не станет в физическом мире, так как они останутся в физической реальности и их по-прежнему будут воспринимать летучие мыши, насекомые, рыбы и т. д. Или даже вообще никто не будет воспринимать, но мы-то сейчас знаем, что они есть, следовательно, они будут даже без нас. Да, животные будут воспринимать результат воздействия на их тела элементов окружающей их реальности, но они не воспринимали и не станут воспринимать и тем более оперировать мысленно такими сущностями, как объекты, например. Лишь человек конституирует объекты, которые появляются по мере создания понятий. Без понятий нет объектов, предметов, вещей, их свойств и действий. Хотя уже животные, в частности приматы, формируют чувственные предпонятия, а следовательно, для них уже существует что-то, «приближающееся» к нашим предметам.
Теперь о том, что касается существования окружающего мира якобы без конституирующего его сознания. Без чувственных моделей и конституирующих сущности понятий в окружающем нас физическом мире есть лишь никак не сегментированная, невидимая, беззвучная, безвкусная, не ощущаемая никем «реальность в себе». Сознание конституирует, структурирует особым образом эту исходно аморфную и амодальную (как пишет А. Н. Леонтьев, 1981) физическую «реальность в себе». Оно создает физические предметы и сущности из фрагментов «реальности в себе», как пекарь, делающий буханки хлеба и булки из муки, воды и огня. Другое сознание, не менее развитое, чем человеческое, если оно обладает соответствующими понятиями, будет конституировать, создавать из «реальности в себе» иные объекты или вовсе иные сущности, непонятные для нас. В случае исчезновения сознания все выделяемые им сейчас сущности исчезнут и останется не предметный мир, а лишь непостижимая и амодальная «реальность в себе».
Из сказанного мной, конечно, ни в коем случае не следует, что человек создает вокруг себя объекты физической реальности. Его сознание лишь специфически человеческим образом конституирует – «лепит» из «реальности в себе» – доступные ему чувственно и обозначаемые им вербально, а потому понятные для него предметы. Можно метафорически представить себе некое тончайшее покрывало из чувственных и вербальных репрезентаций, которое наше сознание набрасывает на невидимую трансцендентную «реальность в себе», делая ее тем самым видимой, осязаемой и относительно понятной для себя. Как человек-невидимка превращается в видимого, если надевает одежду и перчатки. Но элементы этого покрывала, которые мы принимаем за окружающие физические сущности, по-прежнему остаются лишь конструкциями нашего сознания, а не являются «отражениями», некими «копиями» предметов физической реальности.
Чтобы стало понятно то, что я имею в виду, рассмотрим гипотетическую ситуацию. Дерево для человеческого сознания – это вполне конкретный объект, обладающий специфическими признаками и репрезентированный характерными визуальными образами. Для сознания волка – это не объект, также, например, как воздух для ребенка. Чтобы стать объектом (причем такое возможно лишь для человека и в человеческом сознании), «нечто» должно получить вербальное обозначение, например дерево или объект. Для волка дерево – это лишь сенсорная репрезентация части окружающей среды.
Для иного, вообще чуждого и пока неизвестного нам, но сопоставимого по уровню развития с человеческим, сознания дерево – это, возможно, либо просто нечто несуществующее, как не существуют для нас присутствующие на окружающих нас предметах отдельные, не воспринимаемые нами бактерии и вирусы. Либо нечто, никак не совпадающее с содержанием нашего понятия дерево, так как репрезентации этого сознания могут быть радикально иными, основанными, например, на восприятии рентгеновского излучения, магнитных и электрических полей и т. д. Причем, репрезентации того, что мы называем деревом, будут располагаться для иного сознания по-другому даже в пространстве (если понятие пространства существует для чуждого разума).
Итак, другое сознание может иным образом конституировать элемент привычной нам реальности, который мы считаем именно деревом, или не конституировать его вовсе. Мы поэтому можем лишь сказать, что в «реальности в себе» есть фрагмент, соответствующий нашему понятию дерево, который для иного, не человеческого сознания, возможно, будет являться совершенно иным предметом или не будет являться предметом вовсе. Возможно, будет являться не фигурой восприятия, а лишь элементом фона или вовсе чем-то совершенно иным. Следовательно, конкретной человеческой «вещью», особым понятным нам объектом определенный «фрагмент реальности в себе» делает именно человеческое сознание. При этом возникающий объект существует для нас физически в виде специфических образов его восприятия и вызываемых им в нашем сознании ощущений.
Из того факта, что человек конституирует предметы из окружающей его «реальности в себе», отнюдь не следует, что, кроме нашего сознания, вовсе ничего нет. Некое невещественное «нечто в себе», безусловно, есть. Но воспринимаемым и существующим в вещественно-предметной форме его делает именно наше сознание. Как и любое другое сознание, пусть и не человеческое. Это было очевидно еще епископу Д. Беркли. Мне представляется, что вместо понятия непознаваемая «вещь в себе» правильнее использовать понятие фрагмент физической «реальности в себе». Что же все-таки такое «реальность в себе»? Это то, что в процессе нашего восприятия становится для нас видимым (цветным или черно-белым, ярким или темным), ощущаемым тактильно (острым или тупым, гладким или шероховатым), ощущаемым на вкус, пахнущим, теплым или холодным и т. д. В то же время это нечто, не имеющее в себе ничего, обозначаемого человеческими понятиями. Это действительно лежащая для нас «по ту сторону», или трансцендентная[28 - Трансцендентное – «то, что лежит за пределами возможного опыта и не может быть пред-метом познания (душа, свобода, Бог)» [Современный философский словарь, 2004, с. 57].], «реальность в себе».
Итак, кантовской «вещи в себе», или «предмета в себе», нет. Есть лишь «реальность в себе», или сущее, или аморфное и непонятное нечто, которое наше сознание превращает в объекты. Необходимо все же признать, что, несмотря на отсутствие объектов в «реальности в себе», сама она – реальность – все же, по-видимому, включает в себя отдельные аспекты, или элементы, или части, некоторые из которых затем и конституируются человеческим сознанием в форме объектов и явлений реальности. Следовательно, мы конституируем объекты не из целостной аморфной «реальности в себе», а из отдельных составляющих ее частей или фрагментов, которые и являются для нас «сущностями в себе». Получается, что я в итоге пришел почти к тому же, с чего начал – к кантовской «вещи в себе».
Но все-таки «сущность» в моем понимании – это не «вещь», так как последняя появляется тогда, когда уже конституирована сознанием в конкретный предмет. «Сущность» отличается от «вещи» своей неопределенной аморфностью и не завершенной конституированностью – отсутствием границ, свойств и привычных нам связей каждой «вещи» с другими «вещами». Это «нечто» до того, как оно будет репрезентировано сознанием и конституировано в конкретный предмет, в определенную «вещь». Надо также отдавать себе отчет в том, что любое наше понятие: часть, фрагмент, сущность и др. – уже конституирует «реальность в себе», но без них мы не сможем ничего в ней обсуждать, так как у нас не будет предмета рассмотрения.