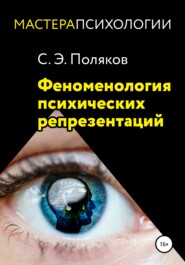скачать книгу бесплатно
Воспроизводимость, или повторяемость репрезентации [см., например: Б. Г. Мещеряков, 2007, с. 51], играет основную роль в установлении признака объективности предмета или факта, так как дает возможность проверить в научном эксперименте результаты восприятия как самому человеку, так и другим людям. В то же время Х. Г. Гадамер (2006), например, ставит под сомнение данный признак:
Каждый из нас может считать проверяемость результатов познания за идеал. Но нужно также признать, что этот идеал чрезвычайно редко может быть достигнут, а те исследователи, которые усиленно стараются его достичь, преимущественно не могут нам сказать ничего серьезного… Нужно признать, что наибольшие достижения гуманитарных наук оставляют далеко позади идеал проверяемости. С философской точки зрения это очень важно [с. 509].
1.1.4. Объективная психология
Теория «объективности науки» уже не первый век является доминирующей научной доктриной. Не принято не только критиковать эту теорию, но даже сомневаться в ее достоверности. Дж. Лакофф (2004) замечает:
Многие из тех, кто имеет отношение к миру науки, полагают, что научное мышление требует объективистского взгляда на мир – приверженности принципу существования единственно «правильной» концептуальной системы. Одно только предположение, что в мире могут существовать различные концептуальные системы, столь же разумные, как наша собственная, слишком часто рассматривается, как плевок в лицо науки [с. 33, 395].
Однако подобный подход сродни убеждению в том, что мир можно «правильно» увидеть только через специально созданные для этого очки с синими стеклами. Данное обстоятельство заставляет глубоко задуматься над высказываниями некоторых авторов, что такого рода представления – лишь заблуждение западной познавательной традиции.
О. Шпенглер (1993), например, указывает, что:
…картина души есть всегда лишь картина какой-то определенной души. А претензии западной рационалистической психологии на абсолютную объективность – не более чем европоцентристская иллюзия… [с. 482–483].
Р. Мэй (2001а) цитирует В. Гейзенберга, написавшего:
Идеальная наука, полностью независимая от человека (например, совершенно объективная), – это иллюзия [с. 129].
М. Полани (2004) говорит о том, что какие бы славословия ни возносились «объективности»,
…абсолютная объективность, приписываемая обычно точным наукам, принадлежит к разряду заблуждений и ориентирует на ложные идеалы [с. 321].
…Будучи человеческими существами, мы неизбежно вынуждены смотреть на Вселенную из того центра, что находится внутри нас, и говорить о ней в терминах человеческого языка, сформированного насущными потребностями человеческого общения. Всякая попытка полностью исключить человеческую перспективу из нашей картины мира неминуемо ведет к бессмыслице [с. 321].
С. Прист (2000) обращает внимание на то, что:
наука и значительная часть эмпирического знания дают нам только частичное объяснение реальности. Это происходит потому, что наука и эмпирическое знание являются, в сущности, объективными или же подходят ко всему с позиции третьего лица. Они трактуют свой предмет как «другого». Ни наука, ни эмпирическое знание не способны предложить объяснение субъективности, в частности сознания, которое является субъективным феноменом от первого лица. Кроме того, чисто объективные способы мышления не способны объяснить отношение между сознательными субъектами и воспринимаемыми ими объектами. Наука все рассматривает как физическое. Она не может объяснить сознание и локализацию сознающего субъекта во вселенной [с. 100].
Я ни в коем случае не предлагаю огульно отказаться от всего того, что принято относить к «объективной науке», а предлагаю лишь внимательно разобраться в том, что же именно туда относят и на каком основании. Естественно, меня интересует в первую очередь «объективная психология». Можно выделить два ее варианта: устаревший радикальный и современный. Первый основывается главным образом на бихевиористской позиции и отрицает наличие субъективных психических феноменов как таковых, замещая их чем угодно – от мозговой активности до так называемых моделей поведения. Иллюстрацией такого подхода является, например, следующее высказывание Б. М. Теплова (2005):
Объективный метод в психологии есть метод опосредованного познания психики, сознания… Для объективного метода чужая психическая жизнь не менее доступна научному изучению, чем своя собственная, так как фундаментом этого метода не является интроспекция. …Психическая деятельность всегда получает свое объективное выражение в тех или других действиях, в речевых реакциях, в изменении работы внутренних органов и т. д. Это – неотъемлемое свойство психики, забвение которого неизбежно ведет к подмене «психических реальностей» «психическими фикциями» (Сеченов) [с. 156].
Современные объективисты менее категоричны, да и сами их позиции существенно различаются. Наиболее радикальные из них полагают, что «полноправными» могут считаться только те данные психологических исследований, которые основаны на измерениях в физических, объективных терминах. Другие исследователи придерживаются гораздо более умеренных взглядов, полагая, что для того, чтобы считаться «объективным»,
…научное исследование должно проводиться таким образом, чтобы любой заинтересованный член научного сообщества мог воспроизвести его результаты [Психологическая энциклопедия, 2006, с. 495].
Многие авторы давно и неоднократно высказывали сомнения в способности объективной психологии быть адекватным средством изучения субъективной по своей природе человеческой психики. Э. Гуссерль (1995), например, пишет:
Будучи объективной, психология просто не способна тематизировать психику в ее собственной сущности, то есть исследовать действующее и страдающее «Я». Определяя телесную функцию, участвующую в деятельности оценки или воления, психология может опредметить эту деятельность, индуктивно обработать ее, но может ли она сделать то же самое в отношении целей, ценностей, норм? [С. 324.]
Представители «объективной» психологии утверждают, что в случае интроспекции отсутствует главное достоинство объективного метода[8 - Представления об объективности методов научного исследования непрерывно менялись вместе с развитием психологии как науки. В конце XIX в. объективными называли методы, заимствованные психологией из естественных наук (биологии, медицины, физики, математики), опиравшиеся на физиологические показатели работы организма (телесные реакции, движения и т. п.) и регистрируемые с помощью специальных приборов. Данные, получаемые путем прямого наблюдения за человеком, объективными не считались. В настоящее время объективные методы включают любые методы, с помощью которых можно получить достоверную информацию о психике человека, то есть методы, которые отвечают требованиям надежности и валидности [Большая психологическая энциклопедия, 2007, с. 288].], а именно, доступ разных наблюдателей к «объекту наблюдения». При этом они почему-то игнорируют то обстоятельство, что в случае наблюдения за физическим объектом в сознании у каждого из его наблюдателей тоже возникает лишь свой субъективный образ восприятия данного физического объекта. И все возникшие у наблюдателей образы различаются между собой. Самый банальный пример – различия визуальных перцептивных образов у людей с нормальным зрением и близорукостью или дальтонизмом.
Фактически каждому наблюдателю его сознание репрезентирует особую уникальную перцептивную модель объекта. И лишь наш «здравый смысл» объединяет разные субъективные репрезентации наблюдателей в некий «единый физический предмет», который, однако, есть лишь в сознании и отсутствует в таком виде в окружающем мире. Объект поэтому может быть отделен от субъекта, который его наблюдает или обсуждает, лишь умозрительно, хотя в соответствии со «здравым смыслом» мы привычно считаем, что реальный «физический предмет», данный стол например, находится перед нами в физической реальности. И факт «объективности» этого предмета, а соответственно, и метода его исследования подтверждается тем, что у разных наблюдателей этого стола возникают сходные субъективные репрезентации этого предмета и все они легко воспроизводимы при тех же условиях восприятия предмета. Однако неизменность, очевидность и реальность «единого физического предмета» – внешнего объекта, его «доступность для публичной верификации» и «надежная фиксируемость как независимого от субъекта» на самом деле заключается лишь в сходстве субъективных образов его восприятия у разных наблюдателей и феноменологических особенностях самих перцептивных образов.
Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и др. (2007) пишут в своем университетском учебнике по психологии:
Экспериментальный метод отличается от других методов научного наблюдения… возможностью осуществлять точный контроль за переменными [с. 36].
И так считают практически все исследователи. Авторы, однако, почему-то не учитывают того, что большинство этих «переменных» сами являются всего лишь психическими конструкциями[9 - К таким конструкциям относятся даже такие физические, как принято считать, характеристики испытуемых, как, например, возраст, рост, вес и т. д.], созданными исследователями со специальными целями, а не присущи исходно физической реальности. В физической реальности нет, например, единиц измерения: метра, секунды, килограмма и др. Там нет большого или малого, толстого или тонкого, высокого или низкого, быстрого или медленного и т. д. Там нет храброго или боязливого, волевого или безвольного, тревожного или спокойного. В физическом мире нет даже красного и белого, теплого и холодного, вкусного и противного, пахучего, болезненного и т. д. Все эти, как принято считать, характеристики физической реальности на самом деле – лишь порождения нашего сознания, которое пытается как-то репрезентировать эту реальность. Э. Гуссерль (1995) пишет:
…объективистская наука видит в том, что она называет объективным миром, универсум всего сущего, не замечая, что никакая объективная наука не может отдать должного субъективности, порождающей науку [с. 322].
Многие авторы отмечают, что в своих «объективных» опытах человек всегда проверяет свои уже существующие теории, а при наблюдении за другим человеком мы не более «объективны», чем при наблюдении за самим собой. Мне представляется, что многие блестящие когнитивные психологи существенно дополнили бы наши представления о психике, если бы смогли побороть наследие бихевиоризма и, кроме экспериментов, обратились бы к самонаблюдению. Когда читаешь работу по когнитивной психологии, часто складывается ощущение, что читаешь что-то, имеющее отношение к вычислительной технике или программированию: «акустические, зрительные, лексические коды», «семантическая информация», «единицы информации», «стимул», «реакция», «сигнал», «индикатор», «переменный стимульный поток», «градиенты», «отдельный импульс информации», «стимульные переменные», «осознаваемые центробежные и центростремительные импульсы», «иконическое хранилище», «вычислительные возможности мозга» и т. д. и т. п.
Дж. Серл (2002) замечает:
Не менее прискорбно то, что мы позволяем нашим методам определять предмет исследования, а не наоборот. Как пьяный, потерявший ключ от своей машины в темных кустах, но ищущий их под светом уличного фонаря, «потому что здесь светлее», мы пытаемся понять, как люди походят на наши вычислительные модели, вместо того чтобы попытаться установить, как действительно работает человеческое сознание [с. 225].
Когнитивная психология оперирует множеством моделей, объясняющих функционирование психики, но они, к сожалению, никак не соотнесены с интроспективными моделями. Складывается впечатление, что с помощью «объективных» и интроспективного методов исследователи изучают не один объект – психику, а два совершенно разных, хотя эти методы могли и должны были бы дополнять друг друга. В. М. Аллахвердов (2000) цитирует Г. Айзенка, который пишет, что для современных психологов:
…самые разумные доводы значат меньше, чем экспериментальные доказательства [с. 66].
Порой доходит до очевидного абсурда, когда когнитивная психология прилагает титанические усилия, чтобы «открыть» совершенно очевидные при интроспекции вещи. Например, проведено множество экспериментов, чтобы установить бесспорный с точки зрения интроспективной психологии факт наличия в сознании зрительных образов представления. Даже такой авторитет, как Дж. Андерсон (2002), с сомнением пишет:
…можно попробовать найти различие между репрезентацией звучания слова в сравнении с напечатанным словом [с. 135].
Между тем их различия – это совершенно очевидный и тривиальный для сторонников интроспекции факт. Достаточно закрыть глаза и представить себе звучащее слово и, например, это же слово представить зрительно в написанном на стене виде, чтобы обнаружить между слуховыми и зрительными репрезентациями слова очевидную разницу. Многие предположения и утверждения когнитивной психологии интроспективная психология могла бы уточнить сразу или изложить иначе. Например, когнитивисты в лице Дж. Андерсона (2002) утверждают, что:
пространственные репрезентации не привязаны к зрительной модальности, к ним также можно получить доступ тактильным или слуховым путем. По-видимому, имеется общая пространственная репрезентация, которая может получать информацию любой модальности [с. 124].
Интроспекция однозначно убеждает нас в том, что у человека существует полимодальная репрезентация объекта реальности, и каждый из ее компонентов имеет свои пространственные характеристики. Еще епископ Д. Беркли (2000, с. 39) установил интроспективным путем в то время, когда даже не знали ни об «объективной психологии», ни об «объективных методах исследования», что пространственные характеристики репрезентаций разной модальности различны. Пространственные характеристики репрезентаций предмета в разных модальностях сложно взаимодействуют между собой. С. Л. Рубинштейн (1999) приводит, например, интересные данные самонаблюдения, демонстрирующие, как перемещение источника звука зависит от визуального восприятия места нахождения говорящего:
Заседание происходило в очень большом радиофицированном зале. Речи выступающих передавались через несколько громкоговорителей… Сначала, сидя сравнительно далеко, я… не разглядел выступавшего… Голос… выступавшего я отчетливо услышал слева, он исходил из помещавшегося поблизости громкоговорителя. Через некоторое время я вдруг разглядел докладчика… и тотчас же звук неожиданно переместился – он шел ко мне прямо спереди, от того места, где стоял докладчик. …Воспользовавшись перерывом, я пересел на заднее место справа. С этого отдаленного места я не мог разглядеть говорившего… звук… снова переместился к громкоговорителю, на этот раз справа от меня. …В течение этого заседания раз 15 звук… перемещался на трибуну или снова возвращался к ближайшему громкоговорителю в зависимости от того, видел ли я говорящего человека… или нет [с. 208–209].
Для того чтобы убедиться в справедливости теории «двойного кодирования в памяти вербальной слуховой и зрительной информации», тоже не требовалось ставить сложные эксперименты (см. о них, например: Дж. Андерсон, 2002). Достаточно мысленно представить себе зрительный образ слона и слуховой образ слова «слон». Очевидно, что есть и тот и другой. Более того, они далеко не исчерпывают всего многообразия психического репрезентирования, так как существует множество других чувственных репрезентаций физического объекта, в том числе тактильных, вкусовых и обонятельных, поэтому следует говорить не о «двойном», а о полимодальном «кодировании информации в памяти». О «двойном» репрезентировании можно говорить лишь в плоскости вербальных – невербальных образов.
Интроспективной психологии были не нужны сложные эксперименты, чтобы установить также тот факт, что после восприятия лингвистического сообщения люди помнят только его смысл, а не точную формулировку, или то, что память на детали сообщения сохраняется на короткое время после его предъявления, а потом исчезает, тогда как память о значении сообщения сохраняется. В то же время трудно или невозможно интроспективным путем получить информацию о сохранении в памяти испытуемого части материала, который кажется ему забытым, но наличие которого эксперименты могут показать. Очевидно, что эксперимент в ряде случаев более точен, чем самонаблюдение, а порой и незаменим. На него меньше влияют знания экспериментатора.
Например, я при попытке воспроизвести опыт Уоллеса, в котором предлагается сравнить длину двух одинаковых параллельных горизонтальных прямых, предварительно заключив их мысленно в перевернутую букву V (рис. 1), получил однозначный ответ – прямые равны. Как только я предложил то же задание своей дочери, немедленно получил ответ: «верхняя – длиннее», так как у нее не было моей установки, что «прямые в любом случае равны».
Рис. 1. Параллельные горизонтальные прямые, заключенные в перевернутую букву V
Можно поэтому сказать, что экспериментальная психология и интроспекция могли и должны были бы удачно дополнять друг друга. Экспериментальная психология имеет бесспорное преимущество в определенных областях психологических исследований, например при исследовании памяти, к которой в наибольшей степени подходит модель «черного ящика», и где эффективность самонаблюдения минимальна, а интроспекция имеет неоспоримые преимущества, например при изучении психических феноменов.
Требования объективизировать психологию приводят к нелепым попыткам верифицировать, например, с помощью наблюдения за поведением факт наличия субъективных переживаний. Стремление объективизировать с помощью экспериментальной науки изучение психических явлений, не подлежащих экспериментальному наблюдению в принципе, нередко принимает гротескные формы. Достаточно вспомнить в связи с этим сначала полное неприятие, а затем яростные многолетние дискуссии в когнитивной психологии о наличии или отсутствии «ментальных образов» – образов представления и воспоминания. И это притом, что субъективная регистрация наличия в сознании любого психического явления сама по себе – наидостовернейший, очевиднейший и реальнейший для человека, переживающего его, факт, не требующий уже никаких доказательств и тем более «объективной» верификации. Даже если человеком переживается всего лишь болезненная галлюцинация.
Если один человек, обнаружив в собственной психике некий феномен, моделирует его в форме вербальной психической конструкции и предлагает на всеобщее рассмотрение в качестве особого явления сознания, а другие люди тоже обнаруживают в своем сознании сходный феномен, то его существование в человеческом сознании можно принять как очевидный факт. Такой подход к изучению сознания, впрочем, активно используется со времен античности и, несмотря на позицию объективистов, продолжает применяться в настоящее время даже в самой «объективной» когнитивной психологии. Можно предавать анафеме интроспекцию, но именно благодаря ей была создана классическая феноменология психических явлений, были описаны образы, ощущения, эмоции, потребности и т. д. и сейчас продолжается уточнение этих сущностей. В огромном количестве так называемых объективных, а на самом деле всего лишь воспроизводимых психологических экспериментов[10 - Эксперимент – метод эмпирического (эмпиризм – взгляд, согласно которому знания поучаются из чувственного опыта. – Авт.) познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях… получают знание относительно связей (чаще всего причинных) между явлениями и объектами или обнаруживают новые свойства объектов или явлений [Новейший философский словарь, 1998, с. 838].Во время эксперимента исследователь активно вмешивается в ситуацию. Он манипулирует процессом и фиксирует возникающие изменения [Большая психологическая энциклопедия, 2007, c. 511].Эксперимент в психологии отличается от «метода наблюдения» тем, что в нем «…одновременно с наблюдением осуществляется измерение отдельных психических свойств и качеств» [Экспериментальная психология, 2007, с. 15].Если, например, мы изучаем взаимное расположение цветов радуги, то это будет простое наблюдение. Если же мы, изучая явление, изменяем условия или обстоятельства, при которых оно возникает, то это может быть названо изучением при помощи эксперимента [Г. И. Челпанов, 1918, с. 11]. Эксперименты могут быть натурными и мысленными [Новейший философский словарь, 1998, с. 838].Однако мысленный эксперимент не может быть осуществлен без интроспекции. Следовательно, и в процессе интроспекции можно проводить эксперименты.] присутствует самонаблюдение – интроспекция. При этом полученные в них результаты трактуются психологической наукой как «объективные». Что же на самом деле изучают в них исследователи?
Если проводить аналогии с физическим экспериментом, то там воздействуют на объект стимулом с определенными параметрами в строго определенных условиях и регистрируют, какие с объектом произошли изменения. В «объективной» психологии тоже воздействуют на объект – тело испытуемого и опосредованно на его сознание – стимулом с определенными параметрами в строго определенных условиях. Затем регистрируют, но не изменения, которые произошли с объектом – телом и уж тем более не с сознанием, потому что изменения в сознании невозможно наблюдать непосредственно, а некие реакции второго, третьего и последующих порядков, ставшие результатом первичных изменений в объекте – теле, обладающем сознанием. Чаще всего изучается психомоторная активность испытуемого, в том числе в форме его ответов и самоотчетов.
Речевые ответы – это, как правило, самоотчеты испытуемых об их самонаблюдениях либо даже уже интерпретации испытуемыми этих их самонаблюдений. Двигательные ответы представляют собой обычно произвольное движение, которым испытуемый указывает один из предложенных ему исследователем вариантов ответа на поставленную перед ним в эксперименте задачу. Это даже не результат мысленного действия, направленного на решение задачи, а последующее указание испытуемого окружающим на соответствующий результат или вербализация результата его мысленных действий, то есть вторичная коммуникативная реакция испытуемого. Таким образом, в психологических экспериментах изучаются обычно не психические феномены, а поведенческие последствия экспериментальных воздействий на организм испытуемого.
Учитывая то обстоятельство, что субъективное пространство в принципе недоступно ничему, кроме интроспекции, то, чем занимается «объективная» психология, есть главным образом «объективизация» субъективных самоотчетов (толкование результатов чужой интроспекции) либо просто изучение поведения и изменений физиологических процессов у испытуемых в ответ на действие стимулов, обладающих для испытуемых субъективным значением. Регистрируемые поведенческие и физиологические ответы испытуемых привязываются авторами исследований к собственным психологическим теориям, обычно выстраиваемым на основе собственной интроспекции исследователей.
Рассмотрим, например, несколько классических «объективных», с точки зрения одного из основоположников «объективной» когнитивной психологии – Дж. Андерсона, психологических экспериментов, на которые автор ссылается в своей монографии (2002) по когнитивной психологии. Начнем с тех, в которых самонаблюдения, казалось бы, нет. Например, с эксперимента.
Р. Уоррен и Р. Уоррен (Warren R.M. & Warren R.P., 1970) предлагали испытуемым распознавать предложения, подобные, например, следующим:
It was found that the – eel was on the axle.
It was found that the – eel was on the shoe.
It was found that the – eel was on the orange.
It was found that the – eel was on the table.
Везде (-) обозначает неречевой звук. Однако испытуемые обычно слышали соответствующее контексту слово: wheel, heel, peel, meal. Авторы делают вывод, что восприятие неясного слова, во-первых, не происходит мгновенно и, во-вторых, зависит от контекста, то есть от восприятия других слов.
/Перевод: «Было обнаружено, что колесо на оси», «Было обнаружено, что каблук на туфле», «Было обнаружено, что шкурка на апельсине», «Было обнаружено, что еда на столе»./
В чем заключается «объективность» данного эксперимента?
Мне ответят: в доступности его результатов многим наблюдателям, в возможности повторить все условия эксперимента и его результаты (то есть в их воспроизводимости и контролируемости) и в отсутствии интроспекции в эксперименте. Еще раз напомню, что объективными в научной психологии могут считаться:
…только те данные, которые основаны на измерениях в физических, объективных терминах. Особое значение придается исключению данных, основанных на интроспекции или интерпретации [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 541].
Однако действительно ли в данном эксперименте не используется интроспекция испытуемых?
Здесь мы опять возвращаемся к рассказу военного наблюдателя (см. выше). Интроспекция, безусловно, используется в этом эксперименте, так как испытуемый рассказывает о том, что он слышал, то есть вербально моделирует собственные образы воспоминания, что невозможно сделать без интроспекции. Это становится совершенно очевидно, когда испытуемый, например, прямо говорит: «Я слышал предложение…» Однако мы опять делаем вид, что интроспекция в данном эксперименте не используется, или на самом деле не понимаем того, что имеем дело с результатами интроспекции испытуемых.
В других, тоже «объективных», экспериментах уже прямо декларируется, что используется интроспекция испытуемых.
Р. Мойером (R. S. Moyer, 1973) измерялось время, необходимое для мысленного сравнения объектов. Испытуемым предлагалось оценить по памяти относительные размеры двух животных, например лося и таракана, волка и льва. Многие испытуемые сообщали, что, давая оценки, они переживали образы объектов и действительно мысленно сравнивали их размеры. Автор предлагал также оценить абсолютные размеры животных. Он установил, что увеличение разницы в размере объектов уменьшает время реакции испытуемых. Наибольшие трудности возникали при сравнении близких по размерам объектов.
Вопрос: что изучается здесь «объективно»? Ответ: ничего. Как я уже подчеркивал, объективная психология исключает возможность использования данных интроспекции. Р. Мойер же непосредственно использует результаты интроспекции испытуемых. Основываясь на гипотезе, выстроенной на основе собственной интроспекции, экспериментатор успешно «объективно» доказывает в интроспективном эксперименте, что задача на различение визуальных образов представления двух объектов будет решаться быстрее, если объекты различаются в большей степени. И тем не менее Дж. Андерсон приводит этот эксперимент в качестве вполне «объективного» в своей основополагающей монографии по когнитивной психологии. «Объективность» же, по-видимому, заключается в факте измерения исследователем времени получения от испытуемых интроспективных самоотчетов. Следовательно, стоит только добавить в эксперимент чуть-чуть математики или физики, как мы уже готовы считать его достоверным и «объективным». Вспоминаются слова Р. Мэя (2001в):
В нашей культуре главенствует странное убеждение, что вещь или опыт не реальны, если мы не можем привести их к математической формуле, а если мы можем свести их к числам, то, так или иначе, они реальны. …Современный западный человек оказывается в странной ситуации после того, как что-то сводит к абстракции: он вынужден убедить себя, что эта абстракция существует в реальности. …Только тот опыт мы полагаем реальным, который точно таковым не является. Таким образом, мы отрицаем реальность наших собственных переживаний [с. 144].
Из сказанного мною не следует, что я не согласен с автором эксперимента или против подобных экспериментов. Я лишь демонстрирую, что это не «объективная» психология, а попытка объективизации, точнее – даже формализации результатов интроспекции исследователя и его испытуемых.
Не менее «объективен» и широко известный в когнитивной психологии эксперимент Р. Финке, С. Пинкера и М. Фараха (R. A. Finke, S. Pinker & M. J. Farah, 1989), который тоже рассматривается Дж. Андерсоном [2002, с. 125] как объективный.
Авторы предлагали испытуемым создавать умственные образы, а затем осуществлять их трансформации. Например, предлагалось представить заглавную букву N, а затем провести линию от верхнего правого угла к нижнему левому углу. Затем вообразить заглавную букву D, повернуть ее на 90 градусов влево и поместить снизу заглавную букву J. Испытуемые осуществляли эти преобразования с закрытыми глазами и отвечали, что у них получилось. В первом случае они видели песочные часы, во втором – зонтик.
По мнению когнитивных психологов, считающих себя «объективными исследователями», описанный эксперимент объективно продемонстрировал, что испытуемые способны строить в своем сознании визуальные образы представления и трансформировать их. В действительности же здесь наблюдатель предлагает испытуемому провести некое мысленное действие со зрительными образами представления и дать вербальный отчет о результатах своей интроспекции. Сам экспериментатор, без сомнения, произвел ранее те же действия мысленно. И на основании интроспекции сделал вывод о трансформации одного визуального образа в другой. Далее он сравнивает результаты собственной интроспекции с результатами интроспекции испытуемого. Данный «объективный» эксперимент целиком и полностью основывается на интроспекции испытуемых, которые что-то воображают, мысленно строят, а затем выдают ожидаемый экспериментаторами ответ. Таким образом, мы вновь имеем дело с типичным интроспективным экспериментом, который «превратился» в «объективный» лишь потому, что легко может быть повторен другими исследователями.
Эксперименты по умственному вращению зрительных образов представления, выполненные Р. Шепардом и его коллегами (см., например: R. Shepard & J. Metzler, 1971; R. Shepard, 1975; R. Shepard & S. Shipman, 1970; L. Cooper & R. Shepard, 1973), Дж. Андерсон [2002, c. 116–118] не просто считает объективными, но и рассматривает как одни из наиболее важных исследований умственных образов, проведенных в когнитивной психологии. И это несмотря на то, что существование самих мысленных образов не может быть доказано объективно и не было доказано ни в этих, ни в каких-либо других «объективных экспериментах». Мысленные образы потому и субъективны, что они не доступны никому, кроме субъекта, который их переживает. И данный факт очевиден каждому, кто их имеет, то есть всем.
В эксперименте Р. Шепарда и Дж. Мецлера (R. Shepard & J. Metzler, 1971) испытуемым предъявлялись пары двухмерных репрезентаций трехмерных объектов (рис. 2).и. пред- 2) и предлагалось определить, идентичны ли объекты без учета их ориентации. Две фигуры на рис. 2, а и б идентичны друг другу, хотя и ориентированы по-разному. На рис. 2, в изображены разные объекты. Авторы просили испытуемых оценить, имеет ли второй предмет такую же форму, что и первый.
Рис. 2. Стимулы в исследовании умственного вращения, проведенном Шепардом и Мецлером: а и б – объекты повернуты относительно друг друга на 80 градусов; в – пара не может быть приведена в соответствие с помощью вращения
На первый взгляд мы имеем дело с физическими объектами, которые вроде бы действительно изучаются в объективном эксперименте. При этом регистрируется время от момента предъявления испытуемому объекта до момента ответа испытуемого. Однако сами исследователи сообщают, что они изучали интроспективные отчеты испытуемых.
По самоотчетам испытуемых, они мысленно вращали один из объектов в каждой паре, пока он не совпадал с другим объектом. Исследователи измеряли время до ответа испытуемых об идентичности или различии объектов. Чем больше был угол поворота второго объекта по отношению к первому, тем дольше испытуемые осуществляли вращение. Требуемое на ответ время оказалось прямо пропорционально углу поворота второго объекта. Чем меньше был поворот, тем быстрее испытуемые принимали решение. Для поворота мысленного образа на 50 градусов требовалось около одной секунды. Авторы заключают, что при выполнении задания испытуемые мысленно поворачивают второй предмет в нужное положение и только после этого оценивают его как обычный или зеркально отраженный. По их мнению, мысленное вращение так же, как и реальное движение, требует времени.
Таким образом, хотя исследователи и регистрировали в процессе экспериментов, казалось бы, объективный физический параметр – время, затрачиваемое испытуемыми на выполнение задания, фактически в этих экспериментах интроспективно изучалась выстроенная экспериментаторами на основе собственной интроспекции еще до проведения исследования гипотеза о том, что испытуемые имеют пространственные визуальные образы объектов и способны мысленно их вращать. Невольно обращает на себя внимание сообщение испытуемых, что «для сравнения двух форм они мысленно вращали один из объектов в каждой паре, пока он не совпадал с другим объектом». Если мне скажут, что это не отчет испытуемых о собственной интроспекции в чистом виде, то дальнейшая дискуссия просто бессмысленна.
В очередном эксперименте Л. Купер и Р. Шепард (L. Cooper.&.R. Shepard,1973) обнаружили, что время, затрачиваемое испытуемыми на принятие решения о том, какую форму имеет буква – обычную или зеркально отраженную (например, R и Я), тоже возрастает с увеличением угла поворота от «нормального» положения.
П. Подгорный и Р. Шепард (P. Podgorny & R. Shepard, 1978) изучали «мысленные образы» (зрительные образы воспоминания и представления) при помощи квадратов, разделенных на 25 ячеек (5 строк по 5 ячеек). Часть ячеек была заштрихована так, чтобы образовалась буква. Испытуемым предлагалось запомнить квадрат с буквой, а затем предъявлялся другой квадрат, в котором лишь одна ячейка была отмечена меткой, и предлагалось ответить, попадает ли метка на букву. В других экспериментах испытуемым предъявлялись одновременно квадрат с буквой и квадрат с меткой и задавался тот же вопрос. И в тех и в других случаях время реакции было меньше, когда метка попадала на букву, а не на пустую ячейку, а также когда она попадала на удаленную пустую ячейку, когда предъявлялись более простые по форме буквы, когда метка попадала в букву на пересечение горизонтальной и вертикальной линии. Следовательно, и при использовании воображения, и в условиях восприятия общие закономерности решения задач были идентичными. Из этого авторы делают вывод о том, что образы представления функционально эквивалентны перцептивным образам.
П. Жоликер и соавторы (P. Jolicoeur, S. Regehr, L. Smith & G. Smith, 1985) в своих экспериментах обнаружили, что двухмерные репрезентации вращаются быстрее, чем трехмерные, в диапазоне от 60 до 180 градусов. Тогда как в диапазоне от 0 до 60 градусов двух- и трехмерные репрезентации вращаются с одинаковой скоростью.
Не менее показательны «объективные» эксперименты С. Косслина и соавторов (S. Kosslyn, 1973; S. Kosslyn, 1975; S. Kosslyn, 1976; S. Kosslyn, 1977; S. Kosslyn, T. Ball & B. Reisser, 1978).
В одном из них (S. Kosslyn,1973) испытуемым предлагалось запомнить набор рисунков, а затем представлять их мысленно. Попросив испытуемых сосредоточиться на одном конце представляемого ими объекта (например, на корме изображенного на рисунке катера), им называли какую-нибудь деталь катера: иллюминатор, флаг, люк и т. д. и просили ответить, присутствовала ли она на рисунке. Было установлено, что чем ближе деталь располагалась к корме, тем меньше времени требовалось испытуемым для ответа. В других экспериментах (S. Kosslyn, T. Ball & B. Reisser, 1978) испытуемым показывали карту воображаемого острова с различными объектами: зданием, деревом, лугом, колодцем и т. д. Затем им предлагали восстановить мысленно образ острова и называли два объекта (например, здание и луг), между которыми испытуемые должны были провести линию. Было установлено, что время, необходимое для этого, прямо пропорционально расстоянию между этими точками. То же самое имело бы место, если бы испытуемые проводили конкретную линию на реальной карте. Авторы заключили, что мысленные образы можно сканировать и для этого требуется примерно то же время, что и для сканирования реальных картин, а также то, что существуют параллели между мысленными образами (зрительными образами представления и воспоминания) и зрительными образами восприятия.
Продемонстрированная когнитивными психологами в указанных экспериментах тщательность проверки самого факта наличия ментальных образов вызывает у меня лично лишь недоумение, так как, с одной стороны, эксперименты эти не доказывают (тем более «объективно») факта наличия субъективных по своей природе ментальных образов, к тому же они и не являются, да и не могут являться по стандартам объективной психологии «объективными». С другой стороны, можно и нужно, конечно, проверять факты, представляющие ценность для науки, но пытаться проверять и перепроверять факт наличия собственных психических явлений, которые с античности считались самым очевидным для любого субъекта фактом, да к тому же еще и в «объективных экспериментах» – это уже чересчур. Еще для Р. Декарта сам факт наличия психических феноменов являлся бесспорным и первичным настолько, что снимал у автора сомнения в его собственном существовании. Для когнитивистов тем не менее он перестал быть такой бесспорной данностью. Они пошли дальше (?!) Р. Декарта.
Допускаю, но тогда надо быть последовательными до конца, а не рассматривать в качестве новых «объективных» доказательств факта существования ментальных образов попытки измерения времени вращения или сканирования испытуемыми тех самых «сомнительных» ментальных образов. И все это при очевидной недоказуемости (с позиции «объективной» психологии) как самого факта наличия ментальных образов, так и фактов их вращения или сканирования испытуемыми именно в данный момент.
Впрочем, лично я не сомневаюсь в том, что ментальные образы существуют, а испытуемые могут их вращать и сканировать, так как моя собственная интроспекция подтверждает данные факты, но зачем искать легкие пути и приводить в качестве доказательства заведомо необъективные «объективные» эксперименты. Я полагаю, что авторы приведенных экспериментов как раз и не сомневались изначально в существовании ментальных образов, но ставили соответствующие эксперименты, чтобы «объективно» доказать факт их наличия своим «неверующим» коллегам. Парадоксально, но они действительно многим это доказали. Правда, данное обстоятельство скорее огорчает, так как свидетельствует лишь о зашоренности и стереотипности взглядов многих исследователей и неадекватности их представлений об «объективности» собственных экспериментально-психологических исследований.
Давайте еще раз рассмотрим, на чем основываются «научная убедительность» и «объективность» экспериментальных «доказательств» факта наличия ментальных образов. Первое такое «доказательство» заключается в самом факте проведения «научного эксперимента». Данный факт легитимизирует теорию исследователей с точки зрения «объективной» психологии. Второе – в формальном измерении «объективных» физических параметров, например времени. Третье – в воспроизводимости полученных данных в рамках новых подобных «объективных» экспериментов. Что касается собственно факта наличия ментальных образов, как и факта их мысленного вращения, то именно они-то и не регистрировались «объективно», так как это в принципе невозможно, а постулировались в исходных гипотезах экспериментаторов и косвенно выводились ими из того предположения, что и при использовании образов представления, и при использовании образов восприятия общие закономерности решения задач и характер динамики затрат времени на поиск их решения должны быть сходными.
Тому, что с увеличением градуса поворота фигуры увеличивается время поиска решения, как и тому, что затрачиваемое время пропорционально расстоянию между воображаемыми точками, легко можно найти и иные объяснения. Например, то, что в решении этих задач вообще главную роль играют не образные, а вербальные репрезентации (которые, кстати, действительно играют здесь большую роль) и что именно они определяют характер динамики затрат времени на поиск решения. Выводы из всех рассмотренных «объективных» психологических экспериментов фактически постулируются уже в исходных гипотезах исследователей, основанных на их же интроспекции, и лишь косвенно вроде бы подтверждаются результатами экспериментов.
Вообще все указанные выше экспериментальные данные не были бы приняты психологическим сообществом даже к рассмотрению, появись они лет на 20–30 раньше. Просто пришло время для появления и принятия новых взглядов на старые проблемы, так как бихевиоризм сменился менее радикальным когнитивизмом. Поэтому в конечном счете неважно, насколько эти новые взгляды подтверждены «объективными» экспериментальными данными. Необходимо лишь «соблюсти приличия», так как большинство исследователей и без «объективных» экспериментов понимают, что ментальные образы есть, потому что обнаруживают их в собственном сознании. Дело, в общем-то, не в результатах данных экспериментов, относимых уже в литературе к «классическим», а в зависимости мнений и взглядов психологического сообщества от существующих в нем же установок.
Для того чтобы убедиться в том, способны ли мы в своем воображении манипулировать образами объектов, например поворачивать их, переворачивать, вращать и т. д., совершенно не обязательно было проводить специальные «объективные» эксперименты, как делали когнитивные психологи. Достаточно было просто мысленно попробовать манипулировать визуальными образами представления предметов, и результат стал бы очевиден сомневающимся. Тем не менее такие эксперименты были проведены и рассматриваются теперь как эталонные. Такой странный подход даже выдающихся исследователей к оценке «объективности» психологических экспериментов может вызвать лишь сожаление.
Возникают вопросы даже при внимательном рассмотрении «объективности» наиболее красивого и действительно классического «объективного эксперимента», исследовавшего участие «скрытой речи» в мышлении. С. Смитом и соавторами (S. M. Smith, H. O. Braun, J. E. P. Toman & L. S. Goodman, 1947) был проведен эксперимент для проверки гипотезы Дж. Уотсона о том, что «скрытая речь» и другие неявные моторные действия «ответственны» за человеческое мышление.
Авторы использовали производное кураре, парализующее всю мускулатуру человека. Испытуемым был Смит, жизнь которого поддерживалась аппаратом искусственного дыхания. Вся его мускулатура была парализована, поэтому она не могла участвовать в обеспечении «скрытой речи» (проговаривания про себя), которая, по мнению Дж. Уотсона и его сторонников, и есть вербальное мышление человека. Несмотря на это, Смит наблюдал за тем, что происходило вокруг него, понимал речь окружающих, запоминал события и обдумывал происходящее. Результаты исследования убедительно продемонстрировали, что наше мышление осуществляется при отсутствии какой бы то ни было мышечной активности, в том числе беззвучной речи. Следовательно, мышление – это не скрытая речь, не моторная, а особая внутренняя деятельность.
Казалось бы, что может быть более «объективным», чем этот эксперимент? Но возникает вопрос, а на чем основано утверждение экспериментаторов, что испытуемый «все видел, все понимал и даже размышлял об этом» в процессе эксперимента? Очевидно, что на его собственной интроспекции и на последующем отчете о ней.
«Объективность» всех экспериментов, в которых испытуемые использовали интроспекцию, заключается в одном-единственном обстоятельстве – в том, что их можно повторить. Следовательно, «объективность» психологических экспериментов сводится на деле к возможности воспроизвести нечто подобное и настолько, насколько оно вообще может быть подобным. Поэтому мы искренне заблуждаемся, говоря об «объективности» психологических экспериментов, которой на деле нет и быть не может. Есть лишь в лучшем случае относительная и условная их воспроизводимость.
Очевидно, что экспериментальные методы необходимы психологии, но еще более необходимо четко понимать, что такое эксперимент в психологии и каковы его возможности. Не следует его абсолютизировать и надо разграничивать то, что подлежит экспериментальному изучению, а что принципиально ему недоступно. Учитывая то, что в гуманитарных науках истинность новых теорий определяется предпочтениями научного сообщества, доминирующими в нем представлениями и точкой зрения, к которой оно придет в результате обсуждения, можно говорить о возможности создания в будущей психологии иной «объективности», заключающейся в том, что сравниваться могут и должны в том числе результаты интроспективных наблюдений исследователей. В итоге эти субъективные данные будут в максимально возможной степени объективизироваться.
Дискредитация интроспекции оказалась далеко не безвредной для психологии. Она привела к тому, что исследователи перестали серьезно относиться к самонаблюдению, что в конечном счете привело де-факто к признанию психологией человека сложнейшим автоматом и к превращению психики в занимательный эпифеномен.
В заключение хочу напомнить слова Э. Гуссерля (1995):
Я со всей серьезностью утверждаю: никогда не было и никогда не будет объективной науки о духе, объективной психологии – объективной в том смысле, что она рассматривает только пространственно-временные формы, обрекая тем самым психику, личностное общение на небытие. Дух и только дух есть бытие в себе и для себя; только он автономен и доступен истинно рациональному, истинно и принципиально научному изучению в своей автономности, и причем только в ней. Что касается природы и естественно-научных истин, то автономия природы – лишь кажущаяся, а естественные науки лишь представляют дело так, что в них природа якобы сама по себе достигает рациональной познаваемости. Ибо «истинная» природа естественных наук – это продукт духа, исследующего природу, и, таким образом, наукой о природе предполагается наука о духе. Дух по своей сущности способен осуществлять самопознание, а как научный дух – научное самопознание, причем снова и снова. Только если ученый займет позицию чистого познания, присущую науке о духе, его не заденет упрек в том, что деятельность темна для него самого [с. 325].
1.1.5. Кризис современной психологии
Почти сто лет назад Л. С. Выготский описал составляющие кризиса психологии начала ХХ в. При этом сам он [2000, с. 69 и 74] ссылался на своих предшественников – Г. Эббингауза и Н. Н. Ланге, которые тоже описывали кризис современной им психологии. Из чего можно заключить, что психология пребывает в кризисе с момента своего выделения из философии в самостоятельную науку. Причем все давно описанные классиками признаки кризиса присутствуют в психологии и сегодня. В начале XXI в., как и во времена Г. Эббингауза, вполне актуально замечание последнего, что «до сих пор не прекращаются споры» относительно почти всех наиболее общих вопросов психологии. Столь же актуальны и слова Н. Н. Ланге, что в психологии нет общей системы и что кризис расшатал всю психологическую науку. Н. Н. Ланге полагает [цит. по: Л. С. Выготский, 2000, с. 69], что описание любого психического процесса получает разный вид в зависимости от того, в категориях какой психологической системы: Эббингауза или Вундта, Штумпфа или Авенариуса, Мейнонга или Бине, Джеймса или Мюллера – будем мы его характеризовать и изучать. В психологии всякое описание есть всегда уже и некоторая теория.
Надо с сожалением признать, что и сейчас также справедливы слова Л. С. Выготского (2000), что «общей психологии как единой системы нет…» [с. 51], что научный язык есть орудие мысли и инструмент анализа, а психология не имеет своего языка. Ее словарь представляет собой:
…конгломерат из трех сортов слов: 1) слова обиходного языка, смутного, многосмысленного, приноровленного к практической жизни… 2) слова философского языка, утерявшие связь с прежним смыслом, многосмысленные вследствие борьбы разных философских школ, абстрактные в максимальной степени… 3) наконец, слова и формы речи, заимствованные из естественных наук и употребляемые в переносном смысле. Служат прямо для обмана [с. 61–62].
Автор подчеркивает важнейшую роль научных понятий для формирования психологии и необходимость для нее единой теории: