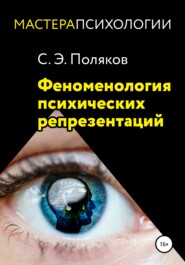скачать книгу бесплатно
Вернемся к образу объекта и к П. Кюглеру (2007). К. Юнг, по мнению П. Кюглера, предложил новый взгляд на образы. Он стал рассматривать их как промежуточное звено между субъектом и объектом, как источник ощущения психической реальности. Реальность заключается отныне в образах, так как в них соединяются внутренний и внешний мир человека. П. Кюглер считает мысль К. Юнга о том, что психический образ – это мост между идеями и вещами, третьей и промежуточной позицией, которая успешно завершает развернутую в Средние века дискуссию между номинализмом и реализмом. Являясь юнгианским психоаналитиком, П. Кюглер, естественно, переоценивает, на мой взгляд, роль К. Юнга в формировании новых воззрений на образ и умалчивает о сходных взглядах других выдающихся исследователей. Между тем аналогичные и гораздо более разработанные идеи составляют суть известной теории нейтрального монизма, созданной У. Джеймсом и представленной в работах Э. Маха. Причем сам У. Джеймс, обсуждая их, ссылается еще на Дж. Локка и Д. Беркли.
Согласно этой теории различие между ментальным и физическим, между образом и объектом зависит от того, в каком контексте рассматривается чувственно явленная нам «вещь». У. Джеймс (1997) так излагает данную идею:
Я утверждаю, что… единая часть опыта, взятая в определенном контексте, играет роль познающего, душевного состояния, «сознания», тогда как в другом контексте та же единая часть опыта будет играть роль познанной вещи, объективного «содержания». Одним словом, в одном сочетании он (опыт. – Авт.) фигурирует как мысль, в другом – как вещь. И так как он может присутствовать в обоих сочетаниях одновременно, то мы имеем полное право считать его в одно и то же время как субъективным, так и объективным. …Пусть он (читатель. – Авт.) начнет с перцептуального опыта над так называемым представлением какого-нибудь физического объекта, его настоящего поля зрения, комнаты, в которой он сидит, расположив в центре ее книгу, которую он сейчас читает; и пусть он пока рассмотрит этот сложный объект с точки зрения здравого смысла, как будто он и «в действительности» есть именно то, чем кажется, то есть коллекцией физических вещей, выделенных из окружающего их мира других физических вещей, с которыми они находятся в реальных или потенциальных взаимоотношениях. Но мы утверждаем, что его разум в то же время воспринимает те же самые вещи… то, что кажется единой реальностью, в действительности занимает два места: одно – во внешнем пространстве, а другое – в уме человека… В сущности, загадка, как может одна и та же комната находиться в двух местах, сводится к загадке о том, как одна и та же точка может находиться на двух линиях. Вполне может, раз она расположена на месте их пересечения; и подобно этому, раз «чистый опыт» комнаты представляет собой место взаимопересечения двух процессов, связывающих его соответственно каждому случаю, с различными группами явлений, то он может рассматриваться дважды как принадлежащий к каждой группе и о нем можно свободно говорить как о существующем в двух областях, хотя он неизменно оставался бы количественно единичной вещью. Итак, опыт представляет собой звено разнообразных процессов, расходящихся от него в совершенно различных направлениях. …В одном случае она (одна и та же вещь. – Авт.) будет вашим «полем сознания»; в другом – «комнатой, в которой вы находитесь», причем в оба контекста она входит целиком, так что нельзя сказать, будто она принадлежит сознанию одной своей частью или одной стороной, а внешней реальности – другой [с. 362–363].
Итак, в соответствии с представлением У. Джеймса в зависимости от того, в какую психическую конструкцию, созданную нашим сознанием, входит актуальное психическое содержание – образы восприятия и ощущения, последние можно рассматривать либо как содержание сознания (репрезентации объекта), либо как внешний физический мир (сам физический объект). Образы восприятия являются в результате одновременно и нашими психическими явлениями (содержанием нашего сознания), и физическими вещами. Парадокс, который У. Джеймс, однако, достаточно убедительно разъясняет.
Автор пробует далее распространить эти свои представления на прочие психические явления, в том числе и на понятия. Он полагает, что «любой единичный неперцептуальный опыт может, подобно перцептуальному опыту, быть рассмотрен дважды». Просто как объект или область объектов в одном контексте и как состояние ума – в другом. Причем нигде «не замечается никакого внутреннего саморазде-ления на сознание и содержание сознания». В одном контексте «неперцептуальный опыт» представляет собой, по мнению автора [У. Джеймс, 1997, с. 365], целиком сознание; в другом – его содержание. Однако «содержание сознания» не всегда есть физическая реальность, а часто – и вовсе не она. Тут у У. Джеймса (1997) возникают большие сложности, которые он и сам замечает:
Пока все чрезвычайно ясно, но мое положение, вероятно, покажется читателю менее убедительным, когда я перейду от восприятия к понятиям или от вопроса о наглядно представимых вещах к вещам, непосредственно нами не воспринимаемым [с. 364].
И он совершенно прав. Более того, к понятиям он так и не перешел, потому что не смог бы доказать применительно к ним свою точку зрения, ибо многое из того, что обозначается понятиями, просто невозможно найти в окружающей физической реальности или отнести к ней явно. Следовательно, понятия не могут, как образы восприятия, в разных контекстах выступать то психическими, то физическими сущностями. Меня здесь интересует не то, насколько не прав этот глубокий мыслитель, распространяя свою теорию на представления и понятия, а то, насколько он прав, рассматривая образы восприятия в зависимости от контекста то как явления сознания, то как физические явления.
Э. Мах (2005) говорит другими словами примерно о том же, о чем и У. Джеймс:
…там, где рядом с выражениями «элемент», «комплекс элементов» или вместо них употребляются обозначения «ощущения», «комплекс ощущений», нужно всегда иметь в виду, что элементы являются ощущениями только в этой связи, в этом отношении, в этой функциональной зависимости. В другой функциональной зависимости они в то же время – физические объекты [с. 59].
Таким образом, в зависимости от контекста содержание нашего восприятия превращается из психического явления в физический объект и наоборот. Б. Рассел [2007, с. 213–215] тоже полагает, что чувственные данные не являются ни ментальными, ни физическими, но считаются таковыми в зависимости от способов их познания. Они – «точка встречи» физики и психологии. Автор пишет:
…Нет такой простой сущности, на которую вы могли бы указать и сказать: эта сущность является физической, а не ментальной. Согласно Уильяму Джеймсу и нейтральным монистам, такого не случается с любой простой сущностью, которую вы можете взять… Я не претендую на знание того, является он (нейтральный монизм. Авт.) истинным или нет. Я все более и более склоняюсь к чувству, что он может быть истинным [с. 215].
1.4.2. Представления о соотношении объекта и его образа
Напомню утверждение П. Кюглера [2007, с. 132], что после работ И. Канта философская мысль перестала рассматривать психические образы как копии или копии копий и придала им роль творящего начала, истинного смысла и нашего ощущения бытия и реальности. О том же говорит В. Виндельбанд (1995а):
Критика чистого разума (Канта. – Авт.) раз и навсегда установила невозможность для зрелого философского сознания мыслить мир так, как он является наивному сознанию, то есть «данным» и отраженным в сознании. Во всем том, что нам представляется данным, кроется уже деятельность нашего разума: на том факте, что мы сначала создаем для себя вещи, и основывается наше познавательное право на них [с. 9].
Для того чтобы понять, приняла ли психология такую точку зрения, приведу несколько определений из авторитетных источников:
Объект… То, что существует вне познающего и действующего субъекта, независимо от его ощущений, чувств и желаний, и может стать предметом его направленной активности в качестве предмета познания и деятельности [Психологический словарь, 2007, с. 393].
Образ восприятия – субъективная представленность предметов окружающего мира или их свойств [там же, с. 389].
Объект – понятие, используемое в психологии в трех основных значениях: 1) …то, на что направлена деятельность человека как субъекта; 2) …то, что противостоит человеку как субъекту. …Предполагается, что субъект играет активную, а объект – пассивную роль; 3) любой предмет или человек, на которого направлено внимание данного человека [Большая психологическая энциклопедия, 2007, с. 288].
…образ восприятия – отражение внешнего объекта в идеальном плане… [там же, с. 283].
Объект. …В исследованиях восприятия и познания – аспект окружения, который осознается кем-то. Это значение выражается в таких фразах, как стимульный объект в отношении физического объекта, который кто-то обнаруживает, ощущает или распознает… [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 539].
Образ восприятия (син. перцептивный образ, перцепт) – отражение в идеальном плане внешнего объекта (сцены), воздействующего на органы чувств [Большой психологический словарь, 2004, с. 342].
Цитаты можно было бы продолжить, но и так совершенно очевидно, что понятие объект обозначает в психологии некий самостоятельно и независимо от человека существующий, в том числе в физической реальности, предмет, тогда как его образ – психическую репрезентацию данного предмета. Подобные взгляды разделяют и российские, и зарубежные исследователи, в том числе признанные авторитеты. Так, Дж. Гибсон (1988), например, полагает, что физический объект —
это просто устойчивое вещество с замкнутой или почти замкнутой поверхностью [с. 75].
Из всего сказанного понятно, что вопрос «Есть ли физические объекты во внешнем мире сами по себе или это сущности, конструируемые нашим сознанием?» психологи решают в рамках «здравого смысла», а не философии, хотя этот вопрос – один из центральных не только для философии, но и для психологии, и для последней, в общем-то, принципиальный.
Сегодня в психологии существуют разные точки зрения на соотношения объекта и его образа. Хотя можно попробовать выделить главные. Собственно говоря, они традиционны и были представлены в философии в течение многих веков. В соответствии с первой, которой по-прежнему придерживаются подавляющее большинство исследователей, образы восприятия «отражают» реально существующие физические объекты. В соответствии со второй окружающий мир – продукт нашего сознания. Третья пытается объединить первые две. Первая точка зрения, которая восходит еще к Аристотелю и даже, по-видимому, к еще более ранним мыслителям, рассматривает образы как отражения, модели или репрезентации реально существующих в физическом мире объектов. В. Виндельбанд (2007а) пишет:
Учение, что чувственный мир есть лишь слабое отражение внешнего мира, так же старо, как метафизическое мышление вообще. Оно не чуждо ни мудрствованиям индийской философии, ни логической ясности древнегреческих систем; неоднократно при различных обстоятельствах выступало оно в средние века в философии [с. 73].
Эта точка зрения может быть выражена следующими недавними словами В. И. Белопольского (2007):
Посредством эффекторного (в широком смысле) звена деятельности возникающий образ постоянно соотносится, «уподобляется» своему источнику – реальному объекту или ситуации, за счет чего и достигается его адекватность… [с. 26].
М. Вартофский [1988, с. 189–190], например, рассматривает объекты восприятия как:
…независимые от восприятия, хотя они… воспринимаются нами посредством их репрезентаций.
Он считает объекты восприятия:
…реальными, то есть пространственно-временными, или материальными объектами (или процессами), которые мы воспринимаем,
а сами репрезентации —
«перцептивным артефактом», «опосредующими «реалиями»… которые мы не воспринимаем, но посредством которых мы воспринимаем реальные объекты (или реальные процессы).
Не вполне понятно, как объект восприятия, например «нечто» твердое, кислое, теплое или зеленое, может рассматриваться «как независимое от восприятия», так как очевидно, что нечто кислое, твердое, теплое или зеленое «независимым от восприятия» в принципе быть не может.
Сходных взглядов придерживаются и многие другие исследователи. У. Найссер (1981), например, пишет:
…влияние воспринимающего на окружающий мир пренебрежимо мало; он не изменяет объекты, когда рассматривает их или прислушивается к издаваемым ими звукам. (Имеются, разумеется, исключения, особенно в микромире физики, но они не будут интересовать нас здесь) [с. 71].
Э. Бехтель и А. Бехтель (2005) констатируют:
Объект в психологии понимается как фрагмент реальности, на который направлена активность субъекта в процессе взаимодействия его с внешним миром. Вещи, существующие независимо от субъекта, становятся объектами по мере того, как субъект взаимодействует с ними. …Объективный мир представляет собой материальный континуум меняющейся плотности. Сгущение плотности материи есть физические тела различного размера. Субъект, воспринимая их, формирует объекты, величина которых варьируется в пределах ряда, определенного физическими законами и ограниченного пределами наших знаний, от нейтрино и электрона до галактик и их констелляций. …Мысль о том, что такая априорная конструкция, как объект, есть структура опознания, явно или скрыто прослеживается практически во всех базисных психологических теориях. …Объект понимается как некая оперантная конструкция, существующая до субъекта и независящая от него. Это положение считается столь очевидным и психологически естественным, что даже не аргументируется [с. 67].
Вторая точка зрения на соотношение объекта и его образа представляет собой современные варианты представлений Платона, Д. Беркли и многих других мыслителей, в соответствии с которыми объекты внешнего мира и, естественно, их образы являются порождениями нашего сознания. В. Иттельсон, например, считает, что:
мир, как мы его ощущаем, является продуктом восприятия, а не его причиной [цит. по: А. Н. Гусев, 2007, с. 276].
Ж. Бодрийяр (2006) замечает, что:
сегодня естественные науки пришли к признанию принципиального исчезновения объекта в поле виртуализации: отныне объект неуловим [с. 37].
Третья точка зрения пытается, и вроде бы небезуспешно, найти компромисс. Г. Гельмгольц (2002) полагает, например, что наши образы – это лишь знаки предметов, которые мы научились использовать. Он пишет:
…человеческие представления, равно как и все представления каких бы то ни было существ, наделенных разумом, являются такими образами, содержание которых существенно зависит от природы воспринимающего сознания и обусловлено его особенностями. Я считаю поэтому, что нет смысла говорить о какой бы то ни было другой истинности наших представлений, кроме практической. Наши представления о предметах просто не могут быть ничем другим, как символами, то есть естественно определяемыми знаками предметов, которые мы учимся использовать для управления нашими движениями и действиями. Если мы научились правильно читать эти символы, то мы можем с их помощью так организовать свои действия, чтобы они приводили к желаемому результату, то есть появлению новых ожидаемых ощущений. Другое соотношение между представлением и предметом не только не может существовать в действительности – с чем согласны все школы, – но оно просто немыслимо… Представление и его объект принадлежат, очевидно, двум совершенно различным мирам, которые в такой же степени не допускают сравнения друг с другом, как цвета и звуки, буквы в книге и звучание слов, которые они обозначают [с. 36–37].
Э. Кассирер (2006) тоже считает, что
…наши ощущения и представления (читай «образы». – Авт.) суть знаки, а не отображения предметов. …От образа мы требуем некоторого подобия с отражаемым объектом, а в этом подобии мы здесь никогда не можем быть уверены. Напротив, знак не требует никакого материального сходства в элементах, а лишь функционального соответствия в структуре [183, 349]. Все наше знание, как бы оно ни было завершено в себе самом, никогда не дает нам самих предметов, а знаки этих предметов и их взаимоотношений [с. 347].
Он уточняет:
Предметы физики в их закономерной связи представляют собой не столько «знаки чего-то объективного», сколько объективные знаки, удовлетворяющие определенным логическим условиям и требованиям. Из этого само собой вытекает, что мы никогда не познаем вещей в том, что они представляют собою, а всегда познаем их лишь в их взаимоотношениях и что мы можем констатировать в них лишь отношения пребывания и изменения. Но это положение уже не заключает больше в себе ни одного из тех скептических выводов, которые связаны с ним в реалистической метафизике [с. 350].
Примерно о том же говорит Б. Рассел (2001):
На самом деле не бывает иллюзий чувств, бывают только ошибки в истолковании данных как знаков вещей, иных, чем они сами [с. 181].
Обсуждая опыты с инверсионными очками, М. Мерло-Понти (1999) замечает, что образы восприятия – это скорее:
…система визуальных данных, воспринимаемых как простые знаки для дешифровки, которые еще следует переводить на язык пространства [с. 314].
В. М. Бехтерев (1999) тоже полагает, что:
…образ следует понимать не как статическую совокупность ощущений, а как знак, «иероглиф», сконструированный рассудком из ощущений, для обозначения конкретных условий [с. 163].
Таким образом, то, что мы считаем образами предметов или вещей, по мнению приверженцев третьего направления, – лишь знаки реальных сущностей. Впрочем, сторонники первого направления тоже, по сути дела, считают образы предметов иконическими знаками реальных физических предметов. Если, как полагают многие исследователи, образ восприятия объекта – знак этого объекта, то что же такое знак? В литературе определение знака очень многозначно и довольно расплывчато. В контексте настоящего обсуждения мне представляется несколько более предпочтительным следующее:
Знак – элемент символического моделирования явлений объективного мира, основанный на подстановке одного предмета или явления вместо другого, которая служит цели облегчения моделирования тех или иных отношений исходного предмета [Большой иллюстрированный психологический словарь, 2007, с. 205].
Ч. С. Пирс (2000) определяет знак более широко:
Знак, или репрезентамен, есть нечто, что замещает собой нечто для кого-то в некотором отношении или качестве. …Он адресуется кому-то, то есть создает в уме этого человека эквивалентный знак или, возможно, более развитый знак. Знак, который он создает, я называю интерпретантом первого знака. Знак замещает собой нечто – свой объект. Он замещает этот объект не во всех отношениях, но лишь отсылая к некоторой идее, которую я называю основанием репрезентамена [с. 48].
Если согласиться с тем, что психический образ объекта представляет собой знак этого объекта, то возникает вопрос: какого рода знаком он является? Иконическим, как считают сторонники независимого от человека существования объектов, или каким-то иным?
Ч. С. Пирс выделяет три вида знаков: 1) икона; 2) индекс; 3) символ. Он говорит:
…все, что угодно, может служить Заменой всему, что угодно, на основании подобия.
…Знак, однако, может быть иконичным, то есть может репрезентировать свой Объект, главным образом, через подобие… Знак есть образ своего Объекта и, выражаясь более строго, не может быть ничем иным, как только идеей – он должен произвести идею Интерпретанта, а внешний Объект – вызвать идею, воздействуя на мозг [с. 76–77].
Иконичные знаки Ч. С. Пирс [2000, с. 77] разделяет на образы, схемы и метафоры. В качестве примеров иконы он [2000, с. 63–67] приводит качества объекта и «некоторую индивидуальную схему». Д. Г. Лахути (2005) поясняет, что:
…изображение, изобразительный или иконический знак… знак, имеющий непосредственное, наглядное (например, зрительное) сходство со своим объектом, например портрет, географическая карта, геометрический чертеж [с. 463].
Ч. С. Пирс (2000) выделяет также индекс – знак, обозначающий свой объект, в силу существующей между ними естественной связи. Например, симптом болезни; указательный палец, направленный на предмет; или указательное местоимение, высказанное о предмете. Он пишет:
Индексальный знак – это знак или репрезентация, отсылающая к своему объекту… в силу существования динамической (включая пространственную) связи с индивидуальным объектом, с одной стороны, и с чувственностью или памятью того, кому он служит знаком, – с другой [с. 94].
…Индекс есть знак, отсылающий к Объекту, который он денотирует… Индекс находится под влиянием Объекта, он с необходимостью имеет некоторое общее с этим Объектом Качество. И именно в последнем причина того, что он отсылает к Объекту [с. 58–59].
В качестве примеров индексов Ч. С. Пирс [2000, с. 63–67] приводит: флюгер, указательные местоимения, выкрики уличных торговцев, непроизвольный вскрик, направляющий внимание на объект, которым вызвано его (вскрика) наличие. «Выкрик» может быть знаком, только если он имеет значение, связанное с обозначаемым предметом: «Газеты! Газеты!». В противном случае он может лишь привлечь внимание к чему-то: «Граждане! Граждане!» – и знаком будет уже, например, пачка газет в руках кричащего. «Непроизвольный вскрик» не может быть четко определенным знаком. Максимум – это знак каких-то проблем, внезапно появившихся у вскрикнувшего человека. Ложка – индекс еды, меч – войны, крест на земле – смерти. Шум дождя – индекс дождя, стук колес поезда – индекс дороги.
Третьим видом знака является, по Ч. С. Пирсу, символ[29 - Символ – это знак, который конституирован как знак просто или, главным образом, благодаря тому факту, что он используется и понимается как таковой – имеет ли привычка его использования и понимания естественный или конвенциональный характер – безотносительно к мотивации, обусловившей его выбор [Ч. С. Пирс, 2000, с. 96].…Символ есть знак, отсылающий к Объекту, который он денотирует посредством закона, обычно – соединения некоторых общих идей, которые действуют таким образом, что становятся причиной интерпретации Символа как отсылающего к указанному Объекту. …Символ… включает в себя особого рода Индекс [Ч. С. Пирс, 2000, с. 58–59].]. Это знак, связь которого с его объектом не основана ни на сходстве, ни на непосредственной связи, а вменена, или приписана, соглашением или привычкой (законом). Ч. С. Пирс [2000, с. 90] относит символы к «конвенциональным знакам» или знакам, зависящим от привычки (приобретенной или врожденной).
По его мнению:
все слова, предложения, тексты книг и другие конвенциональные знаки – суть Символы [с. 88].
Наследство Ч. С. Пирса при всей своей философской глубине оставляет много неясностей и вопросов: что есть знак у Ч. С. Пирса – физический объект, или психический, или и то и другое?[30 - Тем более что он, например, говорит: «…знак есть вещь, представляющая другую вещь для третьей вещи – интерпретирующей мысли» [Ч. С. Пирс, 2005, с. 174].] как знак соотносится с образом и идеей? И многие другие.
1.4.3. Изоморфен ли образ восприятия объекту?
Исследователи, полагающие, что образы – это репрезентации или, по крайней мере, знаки существующих во внешнем мире предметов, давно обсуждают вопрос: соответствуют ли сенсорные модели репрезентируемым ими физическим объектам и если соответствуют, то насколько? Большинство авторов (представители первого направления (см. выше)) считают (в полном соответствии со «здравым смыслом»), что образы подобны репрезентируемым ими объектам. Причем так думали не только в XIX в.: Г. Гельмгольц [2002, с. 40], например, считал, что каждый образ подобен своему объекту в одном отношении и отличен в другом, как это имеет место в картинах, статуях, музыкальных и других произведениях, – но полагают и сейчас. В. Ф. Петренко (2005), например, замечает:
Априори… можно полагать следующее: образы, символы сохраняют отношение подобия с отражаемыми объектами [с. 48].
О более сложных отношениях изоморфизма[31 - Изоморфизм (от греч. isis – «равный», «однозначный» и morphe – «форма»… тождественность, идентичность форм. Изоморфизм – сходство двух или более объектов по форме или строению.] между объектами и их образами говорит Б. М. Величковский (2006):
Как считает… Шепард, между физическими объектами, нейрофизиологическими процессами и субъективными образами существуют отношения изоморфизма. Вместо прямого структурного изоморфизма гештальтпсихологов Шепард имеет в виду «изоморфизм второго порядка», сохраняющий информацию об отношениях между объектами, а не о конкретных признаках объектов. Точное значение этого принципа не получило в работах Шепарда подробного истолкования. Неясно, например, в каком смысле можно говорить об изоморфизме в связи с восприятием и визуализацией вторичных качеств объектов [с. 395].
Тем не менее у нас нет оснований полагать наличие вообще какого-либо изоморфизма между воспринимаемой физической реальностью и нейрофизиологическими процессами, а также между ними и психическими образами.
В силу распространенного и доминирующего заблуждения «здравого смысла» в литературе принято рассматривать образ восприятия в качестве иконы физического объекта, отождествляемого, в свою очередь, с «вещью в себе». До сих пор повсеместно принято считать психический образ как бы «копией, дубликатом, воспроизведением» физического объекта, и в литературе широко обсуждается, насколько точно психические образы, или репрезентации, моделируют объекты, явления, их свойства и действия. Как я уже писал выше, «здравый смысл» не делает ясных различий между психическим образом и образом вообще, понимая и тот и другой как имитацию, копию, дубликат, воспроизведение. Толковый словарь В. И. Даля (1998а), например, определяет образ как «подобие предмета, изображение его» [с. 1582]. Во многом это объясняется, по-видимому, наличием у нас образов представлений и воспоминаний, выступающих как копии, иконы образов восприятия. Возможно, поэтому, в свою очередь, и сами образы восприятия отождествляются «здравым смыслом» с объектами. Хотя из того, что образ представления можно рассматривать в качестве иконы образа восприятия, вовсе не следует, что сам образ восприятия – тоже икона, но уже объекта.
В. Виндельбанд [2007, с. 273–274] цитирует Дж. Локка, который полагал, что даже если чувственные образы ведут свое начало от внешних предметов, у нас нет оснований допускать, будто первые должны быть безусловно похожими на вторые. Например, письменные знаки не имеют ни малейшего сходства с тем, что репрезентируют. Автор продолжает:
Необходимость… видеть в чувственных качествах только известный род представлений человека, но не копию действительно существующего телесного мира, после того как Галилей, Декарт, Гоббс и Локк с одинаковой энергией проповедовали ее (эту необходимость. – Авт.), сделалась настолько общепризнанным и само собой разумеющимся убеждением, разделяемым всей просветительской философией, что Кант, например, в своих гносеологических исследованиях уже не рассматривал специально этого вопроса… он молча предполагал его заранее как основу своих собственных теорий. Действительно, при помощи этих соображений философия больше чем на столетие предварила тот взгляд, который был впоследствии эмпирически засвидетельствован и проведен психологией под именем специфической энергии органов чувств [с. 275].
Тем не менее и сегодня, почти через два с половиной века после появления теории И. Канта, представления о том, что восприятие лишь отражает окружающий нас предметный мир, доминирует в психологии, успешно игнорируя «общепризнанность», о которой писал В. Виндельбанд.
Действительно, учитель Г. Гельмгольца И. Мюллер еще в первой половине XIX в. обратил внимание на то, что возникновение ощущения зависит не столько от воспринимаемого объекта, сколько от мозга и от особенностей импульсов, поступающих по определенным нервам, которые он назвал «специфическими энергиями органов чувств». Из чего следует очевидный вывод: мы воспринимаем не вещи, окружающие нас, а лишь переживаем определенные состояния нашего собственного тела. Наши образы, или репрезентации, моделируют изменения в структурах тела, произошедшие в результате его взаимодействия с окружающими физическими средами (твердыми, жидкими и газообразными), электромагнитными колебаниями, гравитационными полями и, вероятно, с чем-то еще, что мы пока плохо себе представляем. Таким образом, наши ощущения и образы являются особыми проявлениями наших телесных изменений, которые и информируют нас как о состоянии нашего тела, так и через них – о внешней реальности, взаимодействующей с телом. В любом случае мы не можем (хотя и делаем это постоянно) выстроить в одной плоскости прямую цепь явлений между тем, что называем «воспринимаемым физическим объектом», и тем, что называем «психическим образом этого объекта».
Эттнив [цит. по: Н. Смит, 2003, с. 88] указывает, что мы заблуждаемся, когда наивно полагаем, будто окружающий нас внешний мир нам дан, что он просто существует, что мы воспринимаем его совершенно прямым образом. По его словам, кажущаяся непосредственность этого опыта должна быть более или менее иллюзорной, поскольку каждый бит получаемой нами информации о явлениях внешнего мира проходит через наши органы чувств либо прошел через них в прошлом. Вся эта информация опосредуется активностью физиологических аппаратов и передается в мозг в форме кодов. Соответственно, все то, что мы воспринимаем якобы в качестве внешнего реального мира, может быть только репрезентацией, а не копией этого внешнего мира.
В соответствии со «здравым смыслом» до сих пор принято считать, что мы видим свет, что наше зрительное восприятие – это прямой результат попадания отраженного предметом света в глаз, что отражаемый предметом и структурированный им свет якобы «строит на сетчатке проекцию предмета» или, по крайней мере, вызывает в рецепторах сетчатки, а затем и в коре мозга соответствующие структуре предмета структурные же изменения, которые затем приводят к появлению изоморфного предмету визуального образа его восприятия. Дж. Гибсон (1988), однако, замечает:
…есть все основания утверждать, что то, что мы всегда видим, – это окружающий мир или факты об окружающем мире, и что мы никогда не видим фотонов, волн или лучистой энергии. …Если свет в точном значении этого термина никогда не виден как таковой, то из этого следует, что видение окружающего мира не может основываться на видении света как такового. Как это ни парадоксально звучит, но стимуляцию рецепторов сетчатки нельзя увидеть. Гипотетические ощущения, возникающие в результате такой стимуляции, не являются исходными данными для восприятия. Стимуляция может быть необходимым, но никак не достаточным условием для видения. Помимо стимуляции рецепторов должна быть еще и стимульная информация для воспринимающей системы [с. 94].
…события во внешнем мире не следует смешивать с содержащейся в свете информацией о них. В световом строе нет никаких материальных событий, в нем есть только информация, задающая события, – это также верно, как и то, что в световом строе нет никаких материальных объектов, а есть только инварианты, задающие объекты. В объемлющем свете нет никаких точных копий или изображений объектов реального мира. И то, что происходит во внешнем мире, тоже не может копироваться или дублироваться в свете. Мы должны ясно осознать это, ибо вопреки всему очень уж сильно искушение считать, что движение световых элементов копирует движение тел во внешнем мире… [с. 157].
Итак, даже сам свет (не говоря уже о создаваемых в результате его взаимодействия с рецепторами глаза изменениях в нервных структурах мозга и тем более возникающих затем психических феноменах) не моделирует и не копирует отражающие его физические объекты. Вместе с тем для «здравого смысла» кажется очевидным, что свет содержит копию объекта, отразившего его, так как в зеркале, например, этот отраженный объектом свет порождает копию объекта.
То, что Дж. Гибсон называет «стимульной информацией», есть не что иное, как изменчивость светового потока. Можно только добавить, что в окружающем мире нет и такой сущности, как информация. В данном случае то, что называется информацией, – просто структурированный, точнее, оцениваемый нашим сознанием как имеющий структуру свет. Он взаимодействует с нашей зрительной системой и вызывает в ней физические изменения. И именно эти изменения моделируются нашим сознанием в виде образа окружающего мира.
Таким образом, между тем, что «здравый смысл» рассматривает как воспринимаемые нами объекты, и нашими визуальными образами их восприятия находятся как минимум два «промежуточных» объекта, радикально изменяющие сущность того, что согласно представлениям «здравого смысла» «непосредственно передается» от реального предмета в сознание. Это, во-первых, свет, так как мы воспринимаем не сами объекты, а отраженный ими свет, и, во-вторых, физиологические структуры нашего тела. П. Фейерабенд (2006) к тому же сомневается в адекватности световой передачи информации через промежуточную физическую среду:
…привычка выражает веру в то, что одни наши чувственные впечатления правдивы, а другие – нет. Мы… уверены, что материальная среда между объектом и нашим глазом не оказывает разрушительного воздействия и что физическая сущность, посредством которой устанавливается контакт, – свет – доставляет нам истинную картину. Все это абстрактные и в высшей степени сомнительные допущения, формирующие наше видение мира, но недоступные прямой критике. Обычно мы даже не осознаем их влияния до тех пор, пока не столкнемся с совершенно иной космологией: предрассудки обнаруживаются благодаря контрасту, а не анализу [с. 115–116].
Р. Л. Грегори [2003, с. 14] отмечает, что наш глаз воспринимает не объект, а лишь «упорядоченный узор световых пятен». Об этом, впрочем, еще задолго до него говорил и Д. Беркли (2000):
То, что мы видим в строгом смысле этого слова, – это не твердые тела и даже не плоскости разной окраски, это только разнообразие цветов [с. 90].
Тем не менее в результате процесса восприятия в нашем сознании возникает не цветовой узор, а уже образ объекта.
Дж. Гибсон (1988) рассматривает другой аспект проблемы:
Даже если бы удалось свести оптические возмущения к движению пятен, они все равно не были бы похожи на движение тел или частиц в пространстве. У оптических пятен нет ни массы, ни инерции, они не могут сталкиваться, и на самом деле это не пятна, а встроенные друг в друга формы, которые не могут двигаться. Все это убедило меня в том, что у так называемого оптического движения настолько мало общего с физическим движением, что его не следует даже называть движением. Каким же образом оптическое возмущение соотносится с задаваемым им событием в окружающем мире и есть ли между ними вообще хоть какое-нибудь соответствие? Такое соответствие есть, и оно имеет вид последовательной упорядоченности. Начало и конец возмущения в строе в точности совпадают с началом и концом события в окружающем мире. Если события одновременны, возмущения тоже одновременны [с. 166].
Однако даже соответствие этих событий имеет место лишь в нашем сознании, потому что и то, что принято считать событиями, конституируется сознанием.
Итак, образ – это психический результат физиологических процессов, вызванных воздействием электромагнитных волн («структурированного света», по Дж. Гибсону) на рецепторы нашей сетчатки, не являющийся прямым и обязательным следствием только лишь особенностей этих волн. Так же, как опоздание гражданина Иванова на свадьбу дочери не есть прямое и обязательное следствие лишь плохой погоды, хотя именно из-за нее был отложен рейс самолета, на котором он не прилетел на свадьбу.
Дж. Гибсон (1988) пишет: