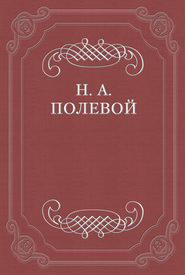 Полная версия
Полная версияКлятва при гробе Господнем
Зиновий поднялся с радостным лицом. «И мир Москве, мир с Василием! Докончи подвиг свой, князь Димитрий, дополни словами: мир Василию!»
– Тяжки слова сии, отец мой! избавь меня, избавь – прощаю, не мщу – только!
«Но любить враги своя, не прощать только, велел Спаситель, молившийся за убийц своих на кресте. И ничем другим не отличится христианин от язычника, только любовию ко врагу. Что тебе за подвиг – говорит Спаситель, если ты любишь любящего тебя, если добро творишь ближнему твоему? Не тако ли творят и язычники? Люби враги твоя, добро твори ненавидящему тебя, молись за вводящего тебя в напасть и искушение. Кто сей любви не имать в сердце своем, если бы и половину тела своего сжег за добро и благо, несть достоин Его!»
– Нет, отец мой! выше сил моих такой подвиг: прощаю, не мщу; но не могу протянуть руки моей и вложить ее в руку Василия, обрызганную кровию моего брата! Не могу и не хочу даже видеть его – Бог с ним!
«Прощаю скорби твоей, буду молить Бога, да окончит Своею Святою волею то, что успел совершить я, грешный, благодатию Божиею. И о сем уже не вмещает сердце мое радости. Возрадуйся, прах Юрия в могиле, ликуй душа его на небесах! Сын твой достоин тебя, старец, друг мой, ты, приходивший ко мне со слезами и трепетавший, что не успеешь изгладить следы честолюбия, омрачавшего душу твою на земле, трепетавший, что над могилою твоей прольются реки крови в усобице, и вопли гибели и смерти обременят память твою проклятием! – Сын мой, князь Димитрий! я говорил с тобою, как служитель Бога, как судия твоей совести – теперь дай мне обнять тебя, как другу, благословить тебя, как отцу! Я не хотел обольщать тебя благими мира; не хотел обольщать наградами и обетами мирского счастия; надеялся крепко на тебя, как на сына, как на христианина – благо тебе, благословен ты, обрадовавший меня старца на пороге гроба!»
И со слезами обнял благочестивый старец Шемяку и долго слезы его капали на голову Шемяки, склоненную к груди его. Исторгшись из объятий князя, старец поднял очи к святым образам, тихо молился и вышел из горницы.
Погруженный в думу, Шемяка не заметил, как скрылся Зиновий, и, забыв самого себя, сказал вполголоса, как будто был один и рассуждал с самим собою: «Тяжкий подвиг! И легче бы смерть в битве, нежели мир с ним! Если же это добродетель – зачем же не веселит она души моей и почему совершение доброго дела не радует меня, ужасает, заставляет трепетать, а не является мне радостным и веселым? Мир со злодеем, дружба с братоубийцею, тишина – с мечами в руках, с опасением на страже… Это ли мир и счастие!»
Две свечи, стоявшие на столе, нагорели и тускло светили; мрак облегал стены обширной комнаты. Движение кого-то бывшего в комнате и стоявшего у печки, безмолвно и неподвижно, обратило внимание Шемяки, это был Гудочник. Шемяка совсем забыл об нем, увлеченный жаром разговора с Зиновием.
– Да, – сказал тогда Гудочник, не двигаясь со своего места, – да, ты право рассуждаешь, князь Димитрий Юрьевич. Мир с Василием есть только начало новой вражды, и грядущее время не должно веселить тебя. Ты можешь забыться; но кто нейдет до конца, кто в брани оставляет слово на мир и в мире слово на брань, тот не сотворит себе ни мира доброго, ни брани славной.
«Иван Феофилович! осудишь ли меня? Назовешь ли изменником против данного тебе слова? Мог ли я против востоять? Робость ли заставляет меня бросить меч? Мелкая ли корысть увлекает меня, когда я не знаю даже и условий мира?»
– Нет! я тебя не обвиняю, князь Димитрий Юрьевич; слышал я все, и на твоем месте сам сделал бы то же, что ты; не уступил бы тебе в чистоте души и добродетели! Нет! так видно угодно Богу, и суетно человек хочет переменить судьбы непреложные, по коим движет перст Его царствами и народами! Горе тому, кто обрек себя на сопротивление судьбам Его – горе и гибель, и не будет благословения на делах и начинаниях его! Что сделает мирская сила и человеческая мудрость? Кто мог за два часа предвидеть, чем кончится то, к чему казалось вели события нескольких лет, труды тяжкие, пренебрежение страха, смерти! Но, суди же, Господи, и рассуди прю мою: виновен ли я? не всем ли жертвовал я? щадил ли себя? Несть Твоего благословения, и – что может человек? Едва тысячью трудов и замыслов касался я вожделенной цели – страсти ожесточают сердца; один гибнет, другой умирает, третий увлекается нежданным смирением! Снова труды и замыслы. Кажется: нет уже препятствий, разрушена вся возможность мира – спасаю человека из-под мечей, веду его, даю ему средства славы, мщения, величия, и молю только одного – исполнения моего обета! За меня вопиет и безнадежность грядущего, и кровь брата его – все тщетно: несколько слов инока, и – забыто мщение, забыто грядущее, забыто прошедшее, забыта слава – и мой обет, едва облегчивший душу мою лучом надежды, снова упал на грудь мою тяжелым камнем! О Боже, Боже Господи! и я не смею просить, чтобы отчаяние раздавило меня; я должен, как вечный жид, скитаться, страдать, трепетать, думать только об одном – за что же, Господи, гнев Твой? Зачем допустил Ты мне наложить на себя обет непреложный, и не допускаешь меня исполнить его? Разве я, как этот жид, возлагал богоубийственные руки свои на выю Твою? Разве я метал жребий об одежде Твоей? Разве я посмеивался богохульными устами страданию Твоему? О страшный пример безрассудного обета! И роптать не смею за то, что он отягчает меня выше сил!..
Гудочник снова закрыл лицо руками, но не плакал.
– Иван Феофилович! кто бы ты ни был, праведник ли великий, или грешник непрощаемый, – сказал Шемяка, подходя к Гудочнику, – я не хочу знать – знаю только, что тебе одолжен я спасением, и что ты мудр и велик духом – я не оставлю тебя: приди ко мне, будь мне другом, будь первым советником моим. Хочешь ли богатства и почестей – получишь их от меня. Я разделю с тобою кров мой, хлеб мой, судьбу мою!
«Нет! – сказал Гудочник, одушевляясь и принимая свой обыкновенный, спокойный вид, – нет! это невозможно – мы должны расстаться! Никогда не расстанется душа моя с тобою, князь Димитрий Юрьевич; но не хочу требовать от тебя паче того, что ты можешь снести. Прощай! будь счастлив! Ты не услышишь обо мне более. Но знай, что грядет и придет час, когда я снова предстану тебе; что в решительные минуты жизни твоей я снова явлюсь пред тобою; но это будет час исполнения моего обета, и тогда уже ничто, ничто не удержит меня, и тогда, если ты станешь за одно со мною, то не будет тебе возврата – смерть, или обет мой!»
– Остановись, Иван Феофилович. Может статься, и теперь будет возможность исполнить твое предприятие.
«Нет! я знаю, что нет! Знаю Василия, знаю легкомысленных новгородцев – скажу более: знаю князей, за которых полагаю свою голову – это невозможно! Василий все уступит; другие все примут; у третьих недостанет… недостанет силы душевной!.. Еще не пришло время; но его придет, придет, и тогда Гудочник снова станет пред тобою! Прощай, князь!»
– Иван Феофилович! так ли расстанемся с тобою? Забуду ли твое добро? Возьми, что тебе надобно, если я не могу иначе успокоить твоей старости.
«Если ты помнишь мое добро, то, молю, не забывать его никогда и в страшный час не забыть его! Если услышишь о смерти моей – вели помянуть меня за упокой. Душе моей грешной будут тогда дороже молитвы добродетельного, нежели злато, которое мог бы ты дать мне теперь. Прощай, князь Димитрий Юрьевич!..»
– Сын мой, сын мой! – раздался голос в передней комнате. Слышно было, что кто-то идет поспешными шагами. Шемяка обернулся к двери и не заметил, как ускользнул из комнаты Гудочник. И мог ли он заметить: из дверей бросился в это мгновение, в объятия его – князь Заозерский…
«Отец мой!» – вскричал Шемяка и повергся на грудь Заозерского. Несколько времени они не говорили ни слова, целовали друг друга, плакали, смеялись,
– Мне готовилась такая радость, и отец Зиновий знал это и скрывал от меня! – воскликнул наконец Шемяка.
«Я готовил тебе награду за добро; но не хотел обольщением привести тебя к добру», – сказал Зиновий, вступая в сие мгновение в комнйту. Он вел за руку Софию…
Шемяка не знал – броситься ли ему обнять очаровательное создание, стоявшее перед ним во всей прелести красоты, юности, любви, радости девической, смущения невинности – или обратиться с молитвою к Богу, сохранившему еще для него на земле столько счастия! Любовь такова: взор ее устремляется, или с восторгом на предмет ее очарования, или с благодарностью к небу. Других взоров она не знает, если только бедствие не губит ее, и если только есть на ней благословение Божие, без которого она ад на земле, мука нестерпимая – падший ангел…
– Чадо! обними свою невесту и не думай, чтобы чистые наслаждения добродетели могла запрещать человеку самая строгая жизнь инока. Любовь твоя благословлена уже родителем княжны, и она уже принадлежит тебе по законам Божиим и человеческим.
Так сказал Зиновий, и София, едва не лишаясь чувств, со слезами говорила Шемяке, когда он крепко обнял ее: «Сколько страдала, сколько плакала я в разлуке с тобой, и как в одно мгновение все мною забыто!»
Гудочник хорошо предугадал, что должно было случиться. Душу Василия мог видеть только единый Бог; но пред людьми он изъявил все, что может изъявить человек, истинно желающий мира, истинно раскаивающийся. Умолив святого мужа быть ходатаем за него, упросив доброго Заозерского ехать с Зиновием в Новгород и взять с собою дочь свою, он хотел, казалось, вместе с мольбою мира, отдать Шемяке все возможное счастие, выдав в то же время самый драгоценный залог безопасности. Богатые дары предложил он при том Заозерскому; старик отказался от даров, но охотно поехал в Новгород. С ним поехали и послы Василия к Шемяке и к новгородцам. Им поручил Василий согласиться бесспорно на все условия, какие объявит Шемяка, утверждая волость Димитрия Красного в прибавок к собственной волости Шемяке и отдавая ему все, что было за отцом его Юрием Димитриевичем. Таким образом Шемяка делался одним из сильнейших князей русских. Новгородцам утвердил Василий самосуд их, вольности, льготы, владение всеми их волостями и не требовал более изгнания суздальских князей. О восстановлении Суздаля никто не говорил ничего. Мир и условия мира с Василием произвели общую радость в Новгороде. Сильная партия Москвы, подкрепленная теми, которые робели новой войны, хотя и принуждена была уступать (как мы уже это видели), но тем не менее она тревожила и волновала умы. Теперь Новгород с честию выходил из затруднительных обстоятельств, и все радовались, или показывали, что радуются мирному докончанию, повторяя старое присловье: худой мир лучше доброй ссоры.
Новгородцы просили Шемяку праздновать свадьбу в Новгороде, и давно уже не помнили самые старые старики такого великолепия и веселья, какое было на свадьбе Шемяки. Вскоре после того он отправился в удел свой. Пересланы были взаимные грамоты с Василием; но Шемяка не поехал в Москву и основал пребывание свое в Угличе, как будто ему ненавистны были самые окрестности московские. «И праха моего не будет в тех местах, где семя зла произросло для рода нашего!» – говорил он.
Василий Юрьевич не хотел оставить той обители, куда заточен он был по воле Великого князя, и не хотел принять уделов ни от Шемяки, ни от Василия Васильевича. Он посвятил дни свои единому богу. Лишенный света очей, он прозрел светом души, и беседуя с братом своим, когда сей приехал навестить несчастного слепца, изумил его спокойствием и твердостью духа, с какою переносил свое несчастие. «Бог смирил меня за мое превозношение!» – говорил он, с тяжким вздохом.
Ничего не слышно было о Гудочнике. Тщетно в Новгороде хотел узнать Шемяка, куда девался этот старик – никто не знал – так, как и самые суздальские князья, за благо которых не щадил он жизни, знали одно, что он был суздалец, и что он заклялся восстановить свою отчизну. Василий Георгиевич, говоря однажды о Шемякою о Гудочнике, заключил словами: «Впрочем, мне казалось иногда, что едва ли он не помешался немного», Шемяка задумался, но не сказал ни слова, ни да, ни нет. Не хотел ли он спорить с суздальским князем из вежливости, или сам также думал – не знаю. Впрочем, люди нередко называют сумасшествием то, что выходит из обыкновенного круга дел и событий. Таковы люди – были и будут…
Благосклонному читателю здравия и спасения.
Вот, православные русские люди! повесть времен старых, былина прежнего времени, которую хотел я вам рассказать. Боюсь: не утомило ли вас длинное повествование мое, о том, как князья Василий Косой и брат его Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным, и о том, что из того происходило. Рассказал я вам, как умел; простите, если излишне разговорился; простите, если не умел рассказать лучше. Мы погуляли с вами по старинной, святой Руси, видели князей и бояр, мужичков и боярынь, духовный чин и дьяков, Кремлевский дворец и крестьянскую избу, свадебный пир и битвы кровавые, святые обители и новгородское вече, присутствовали и на великокняжеском веселье, и на великокняжеских похоронах, на пирушке в тереме боярыни и на ужине русских мужичков, слышали песни старинные, сказки русские, видели, как жили-были старики наши, в старые годы, стародавние, когда, по пословице, снег горел, а соломой его тушили. Теперь, пока, повесть моя кончена. Вот вам, православные русские люди.
Старина и деяние,Синему морю на утешение,Быстрым рекам на славу до моря,Добрым молодцам на послушанье.Веселым молодцам на увеселенье!B заключение соблаговолите позволить мне сказать вам несколько добрых речей, и расстанемся приятелями.
Обещал я, правда, быль, не сказку, но и не летопись, не гисторию правдивую. Правда – вещь редкая на белом свете. Чистою самородною (как в Сибири находят золото самородное, полупудовыми кусками) едва ли найдете вы правду в здешнем мире. Не думают обманывать, а правды все-таки не говорят. Вот, примером сказать, случалось ли вам что-нибудь самим видеть и после того слышать рассказы о виденном вами от других самовидцев? Всякий рассказывает, не лжет, и так говорит – да не так выходит. Оттого у нас исстари ведется пословица: из одной бани, да не одне вести.
Что же тут делать? Как кому кажется, так тот и говорит. Вот, одного только смотрите, добрые читатели: добросовестно ли рассказывают вам.
Здесь, я кладу руку на сердце, и скажу вам смело:
«Я рассказывал так, как по чистой совести мне казалось. И если я в этом лгу, то, да будет мне стыдно, или при стариках, на морозе, шапку с меня снять извольте».
Вы найдете кое-что не так, если станете сличать рассказы других о Шемяке с моим рассказом.
До сих пор, вам представляли Шемяку злодеем, каких мало и бывало на святой Руси, а Василия Темного таким тихим, что он воды не замутит.
У меня Шемяка показан вам иначе: лихой, удалой, горячая голова, с добрым сердцем, и – с несчастием, на роду написанным.
Закройте вы все ваши истории; вслушайтесь в рассказы старинных летописей; вдумайтесь в то, что они говорят и как говорят, и уже потом меня судите – так я и прав буду. А между тем, вот что пришло мне в голову:
Рассказывал я вам о Шемяке, да о брате его Василии Косом, а между тем вмешалась в мой рассказ повесть о чудном старике Иване Гудочнике, и о том, как он заклял свою буйную голову при гробе Спасителя.
О других персонах рассказ мой кончен порядком: Шемяка женился и стал владеть Галичем; брат его Василий остался в обители, уже не Косой, а Слепой, домыкать дни свои без света Божьего; Василий Васильевич стал благополучно владеть Москвою. Но Гудочник что?
Да, об этом спрашивали меня многие, читавшие мой рассказ. И спрашивали, не только о том; что сталось с Гудочником после расстани его в Новегороде с Шемякою, но и о том: кто был этот старик? Какими обстоятельствами приведен был к страшной клятве, и освободил ли он наконец душу свою от клятвы, или сошел в могилу, связанный на земли и на небеси?
Обо всем этом могу я дать вам, мои любезные читатели, полный отчет; да, вот беда моя: рассказывать обо всем этом будет долгая песня, а я боюсь – не надоел ли уже вам и без того моею говорливостью?
Нашлись, правда, ласковые люди, которые говорят мне: нет! – и уговаривают, чтобы я досказал им досконально о Гудочнике. Признаюсь – и собственная моя охота есть на это… и по всему этому прошу милостивно выслушать следующее:
Теперь рассказал я русскую быль: Клятва при гробе Господнем, или Повесть о том, как князья Василий Косой и Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным. и о том, что из того происходило.
Хочу же вновь рассказать еще другую русскую быль: Суд Божий, или Повесть о том, как полонен был Великий князь Василий Васильевич Темный, на Суздальском бою[173], безбожным царем казанским Улу-Махметом, как восстановлено было Суздальское княжество[174], и что из того происходило.
Тут увидите вы снова, любезные мои читатели, Шемяку, Гудочника, Москву, Новгород, Литву, все почти знакомые вам лица: Басенка, Ряполовских, подьячего Беду, Юрия Патрикеевича, и прочих; услышите подробно все похождения Гудочника, если только достанет у вас терпения слушать новый рассказ мой – а он будет не мала такие же четыре книжки, какие вы теперь прочитали.
Угодно – так я не замедлю, а не угодно, так вольному воля: положите, что вы встретились в пути, в дороге с Гудочником, как встретился с ним некогда дедушка Матвей; что Гудочник рассказал вам часть своих похождений и что вам некогда было дослушать остального. Ведь это часто на белом свете бывает. В таком случае – спасибо вам за то, что вы терпеливо прочитали мои рассказы о русской старине. Если же они вам сколько-нибудь полюбились, если они заняли у вас несколько праздного времени, не оставьте и мне, смиренному рассказчику, сказать мимоходом, также – русское спасибо!
До свидания! Авось еще увидимся, как старые знакомые, а до тех пор – Богу слава, вам здравие и спасение, а русской были – конец.
Комментарии
В настоящий сборник вошли избранные исторические произведения Н. А. Полевого. С некоторыми из них советский читатель уже знаком. «Повесть о Симеоне, Суздальском князе» в последние годы переиздавалась трижды (См. кн.: Полевой Н. Избр. произв. и письма. Л., 1986. С. 28—88; Полевой Н. Мечты и звуки. М., 1988. С. 135—196; «Русская историческая повесть первой половины XIX века». М., 1989. С. 84—144. Четырежды, не считая журнального варианта 1828 г. и авторской прижизненной публикации в 1843 г., она издавалась в дореволюционные годы – 1885, 1890, 1899, 1900 гг.); «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского» – один раз (Полевой Н. Мечты и звуки. С. 260—284). Другие произведения переиздаются в советское время впервые: «Иоанн Цимисхий» – по единственному, прижизненному изданию (2 части. М., 1841); роман «Клятва при гробе Господнем» – по первому изданию (4 части. М., 1832; в дореволюционные годы роман переиздавался четыре раза – 1886, 1899, 1900, 1903 гг.).
В настоящем издании тексты произведений даются с сохранением орфографии и пунктуации, характерными для того времени и отражающими индивидуальный стиль автора.
Произведения расположены в исторической последовательности событий, изображенных Н. А. Полевым.
Словарь устаревших и малоупотребительных слов
Адамант – алмаз.
Аер – воздух.
Ажно – даже, между тем, так что.
Алкать – сильно желать.
Алтарь – жертвенник; в православной церкви – главная, восточная часть, отделенная от общего помещения иконостасом.
Амвон – возвышенная площадка в церкви перед иконостасом.
Анафема – церковное проклятие, означающее отлучение от церкви.
Антиподы – обращенные ногами друг к другу; жители диаметрально противоположных точек земного шара; люди с противоположными чертами характера, взглядами.
Апофегма – краткое, меткое поучительное, наставительное слово, изречение.
Аргамак – верховая лошадь восточной породы.
Архистратиг – самый главный военачальник, предводитель, вождь.
Аспид – род африканской ядовитой змеи; злой, с черной душою человек.
Багряница – широкий плащ ярко красного, пурпурного цвета, подбитый горностаем; торжественное облачение царей, императоров.
Балдакин, балдахин – нарядное убранство, свисающее над кроватью, ложем, престолом.
Балясы – столбики под перила, поручни, ограду; пустые, праздные разговоры.
Бармы – оплечье, ожерелье, часть торжественной одежды с изображениями святых, предназначенная для парадных выходов князей, царей, высших чинов духовенства.
Баядерка – служительница религиозного культа в восточных странах; танцовщица и певица.
Бдеть – бодрствовать, не смыкать глаз, неусыпно следить за чем-нибудь.
Белец – живущий в монастыре, но еще не постриженный в монашество.
Бердыш – старинное оружие, боевой топор в форме полумесяца.
Бирюч – помощник князя по судебным и дипломатическим делам, глашатай, объявлявший народу волга князя.
Благовест – колокольный звон перед началом церковной службы, производимый одним колоколом.
Блюдись – берегись, остерегайся от неблаговидных дел и поступков.
Болван – старинное название статуи; идол, истукан.
Борть – улей в дупле или выдолбленная колода, пень для пчел.
Брань – вражда, война, сражение, бой, битва.
Братина – большой сосуд, чаша е крышкой или без нее, в которой разносили питье, пиво на всю братию и разливали его по чашкам, кружкам.
Брение – очень жидкая глина, грязь; бренный – глиняный, непрочной, легко разрушаемый.
Будуар – небольшая комната в женской половине для приема друзей, посетителей, расположенная рядом со спальней.
Буесть – отвага, удаль, молодечество, дерзость.
Былий, былье – травинка, соломинка.
Василиск – сказочное чудовище с телом петуха, хвостом змеи и короной на голове, убивающее все живое одним своим взглядом.
Вежа – шатер, кибитка; башня шатрового типа.
Велелепно – великолепно, блистательно, красиво.
Велий – славный великими, знаменитыми подвигами (о людях); великий, огромный (о вещах, предметах).
Вельми – весьма.
Вепрь – дикий кабан.
Вержет – опрокидывает, бросает, кидает.
Вершник -всадник.
Верток – букв. верх пальца, фаланга; древнерусская мера длины – 4,45 см.
Весь – село, селение, деревня.
Ветшаний – ветхий, изношенный.
Взалкать – проголодаться, захотеть поесть.
Вино курить – извлекать, гнать из хлеба и др. растительных частей спирт, горячее вино.
Виссон – дорогая белая пли пурпурная материя в Древней Греции и Риме.
Витамице – жилье, жилище, убежище.
Вития – оратор; красноречивый, речистый человек.
Власяница – грубая одежда, сделанная из волос; одевалась на голое тело для смирения плоти.
Впадите – войдите, вступите.
Волоковое окошко – окно с задвижкой, внутренней ставней.
Волостель – властитель, начальник над областью, назначаемый правительством.
Волошские – из Валахии, исторической области, располагавшейся между Дунаем и Карпатами.
Волховать – гадать, предсказывать.
Встола, ватола – накидка из грубой крестьянской ткани.
Вран – ворон.
Вретище – траур; траурные одежды.
Выя – шея.
Вящщие – знатные, сановитые, богатые.
Гиероглифы – иероглифы.
Гинекей – женская половина дома в Древней Греции, Риме и Византии.
Глагол – слово, речь.
Глад – голод.
Гливы – груши.
Голбчик – пристройка к печи, припечье, со ступеньками на печь и полати, с дверцами, полочками внутри и лазом в подпол,
Головщина, головщик – управляющий одним клиросом в монастырских церквах; а также (обл.) – торговец яствами; уголовник, преступник.
Гонт – дранка, клиновидные дощечки, кровельный материале,
Горка – полочки, шкафчик для посуды.
Горний – вышний, возвышенный, небесный.
Гост – купцы.
Гривенка – единица веса (фунт – см.), а также дорогая подвеска у образов, икон; позднее – название монеты достоинством 10 копеек.



